|
|
Россия между верой и безверием
За границей.
Ближний ВостокПосле эвакуации из России мне в течение 23 лет пришлось посетить довольно много стран: Турция, Греция, Болгария, Сербия, Македония, Хорватия, Австрия, Карпатская Русь, Чехословакия, Германия, Франция, Англия, проездом Швейцария, Северная Америка и Канада прошли мимо моего взора. Кое-что было интересно в общественном смысле, а также и в церковном.
...После пяти дней спокойного путешествия по Черному морю мы приплыли в знаменитый Константинополь - Царьград, как красиво называли его наши предки Проехав Босфорский пролив, мы остановились в Мраморном море Справа, на европейской стороне, на взгорье, высился мировой город, предмет домогательства многих держав в течение более полутора тысяч лет. А на левом, более отлогом, азиатском, берегу был провинциальный город. Турки, как известо, звали свою прежнюю столицу "Истамбул". Кажется, это имя является исковерканным словом греческого языка: "Ис-тин-полис", то есть "В город", все дороги вели "Ис-тин-полис", турки исковеркали в "Истамбул". А на азиатской стороне был город Кадикей, некоторые говорили мне, что почему-то он назван был когда-то "город Судьи". но мне думается, что это слово есть исковерканное имя древнего города "Халкидон", где происходил Четвертый Вселенский собор.
На рейде Мраморного моря остановилось 125 наших больших и малых кораблей со 135 тысячами беженцев. История еще не видела такого нашествия "русов". Но нынешние хозяева - турки и прежние владельцы - греки ничему не удивлялись, теперь война перемешала все. В Царьграде было столпотворение народов. Фактическими господами положения были англичане, могущественный флот которых спокойно и самоуверенно стоял на якорях, поблескивая по ночам сотнями огней. За англичанами стояли французы, потом итальянцы, союзники - победители немцев. А русские, которые больше всех сделали для этой победы, прибыли теперь сюда бесправными просителями. Позади же нас, там, в далекой и большой Скифии, Советской России, шел шторм революции.
Нас морская полиция не спускала с кораблей, потому что ни одна держава не хотела нас принять к себе, как и предупреждал перед прощанием с родиной генерал Врангель. Начались хлопоты перед англичанами и французами.
А тем временем вековечная человеческая корысть решила использовать наше бедствие. Со всех сторон, как мухи на падаль, окружили нас пароходики, шаланды, лодки, предлагая пищу, фрукты и даже пресную воду. Да... На многих судах уже не хватало ее, и люди готовы были напиться за золото. И, насколько помню, этой водой торговали преимущественно греки. Православные христиане, они - увы! - показали себя нисколько не менее корыстными, чем турки, даже, говоря откровенно, более. Печально это писать, но такова была правда истории. А вообще они оказались более холодными, чем турки. Турки, несмотря на пережитую войну на стороне немцев, были совершенно беззлобны к нам и даже дружественны, ласковы. Кардаш - "приятель" - вот что мы постоянно слышали от них. Кардаш - "приятель". Карош, то есть "хорош". И, вспоминая сейчас давнее прошлое, я решительно не помню ни одного случая, огорчившего нас со стороны турок. Спасибо им! Они приятели наши, и, несомненно, мы ближе и приятнее им, чем хитрые плотоядные немцы, протягивавшие через них свои государственные и экономические щупальца к Багдаду, нефти, к Востоку... Движение на восток.
Нужно радоваться, что советская власть с первого момента и доселе держится в искренних и дружественных отношениях с Турцией. Таков исторический путь для этих стран, и его нужно укреплять и дальше.
Что касается греков, то они совершенно потеряли сознание владетелей этого города и превратились в торговый мещанский класс. По крайней мере, рядовые греки, но даже и от выдающихся лиц мне не пришлось слышать иного. Казалось, греки народ прошлого, а не будущего. Одно лишь нужно сказать о них, что они крепко держат православие. Ни католическое коварство, ни сектантское движение, ни даже европейское безбожие точно не коснулось их. Конечно, тут большое влияние имела их печальная история, покорение турками. Вера сплелась у них с национализмом, взаимно поддерживая друг друга, так что представители Церкви сделались одновременно защитниками своего народа (этнархами), а миряне активно вошли в жизнь приходов, епископий и высшего церковного управления. Но факт остается фактом: греки и доселе тверды в православии. Впрочем, христианство. будучи мироотреченным, аскетическим учением, в глубине своей дает для рядовых людей широкий простор "среднего христианина", где сочетаются обычно и вера, и благоустройство быта. В России мы знали целый такой класс - купечество. Известно, что и в Америке греки хорошо устроились экономически: рестораны, кафе, а иногда и банки - дела, им знакомые. В то же время у них и большие храмы, и организованные приходы, с участием мирян-попечителей. Не нужно очень строго порицать их за такое сочетание. Все же это несравненно лучше европейского безбожия и социалистического материализма.
Правда, греки чувствуют себя в храмах довольно развязно, вульгарно. Вы можете увидеть, как они иногда входят туда в головных уборах и не сразу снимают их. Бывали примеры что еще в притворе церковном они начинали уже курить табак, и вообще, они чувствуют себя хозяевами в храме. Но это не касается самой глубины сердца. Во время службы они смиренны, сдержанны, внимательны, молитвенны. Мужчины стоят в одном месте, женщины - особо. Во время проповеди, когда им что-нибудь понравится, они шумно кричат: "Хито!" Французское "виват" - "да живет", славянское "слава!" Это у них издавна. Еще ев, Иоанн Златоуст пытался останавливать их восторженные возгласы и рукоплескания за свои чудные проповеди, но безуспешно... Греки - народ в общем горячий, южный, экспансивный, были и есть. Только теперь стали смирные, тихие. Но все же материализм внедрился в них глубоко, как увидим это из некоторых фактов.
К России у них глубокое уважение, как к могучей силе и покровительнице православия, защитнице греков и славян от иноверных. Но они хотят получать, а не давать. Наиболее больным вопросом для них является потеря Константинополя даже в случае могущества России, в частности храма "Айя-София" (то есть "Святая София", "Премудрость Божия", Сын Божий от греческого слова "Агия-София"). Лично я думал и думаю: ни в коем случае не нужно никому, и нам, русским, отнимать у них этот дорогой Царьград и чудный собор, построеный Юстинианом Великим в VI веке. Впрочем. все это я говорю по наблюдению над городскими греками. Сельские, как и везде, гораздо смиреннее и духовнее, чем горожане. Я это после наблюдал, когда посещал священников на островах.
Припомню сейчас одну группу картин (если только я не писал о ней раньше), которую мне пришлось видеть в американском журнале.
На одной из них сфотографирован внутренний вид передней части алтаря. На красивых, солидных, мраморных креслах сидят католические епископы. Они в богатом облачении, высоких митрах, держат себя важно, даже напыщенно. Это - церковная власть. Такова Католическая Церковь, Церковь непогрешимого папизма, Церковь, правящая бесправными пасомыми. Из-за этих правителей не видно даже священного алтаря, где совершается богослужение: Церковь как правящий класс заслонила даже веру. Нечего уже говорить, что тут не видно народа, паствы, управляемого стада: оно не имеет силы в католичестве.
На другой картине не изображено ни храма, ни алтаря, ни даже народа, а только проповедническая кафедра. Ухватившись за боковые края ее, оратор, в мирском костюме, только с белым круглым воротничком - знак протестантских пасторов, что-то говорит, говорит, говорит. Это - Протестантская Церковь, где таинства не имеют значения, где даже храм является скорее залой для публичных выступлений, где священник - тот же непосвященный мирянин, где главным делом его является учительство, проповедничество, где даже самая молитва (легонькие "стишки") сведена больше на мораль да еще разве на веру в искупление "дорогим Иисусом" - вот это протестантизм. Эта картина - тоже фотография, а не рисунок.
Но вот третья фотография. Сзади - горы, голубое небо, благословенная природа Божия. На переднем плане - сельский храм из белого камня, крытый красной черепицей, двери затворены (кончилась служба или еще не начиналась), над ними - икона св. Георгия Победоносца. А ближе всего к зрителю два человека: сельский старенький священник в рясе и греческой камилавке (с расширением наверху), с бородой и длинными волосами, а справа от него старушка в темном платке и черном платье, подперев щеку правой рукой, которую поддерживает левая. Она сидит на остатке ограды, священник же стоит. Оба смиренно молчат и задумчиво о чем-то помышляют. Тут нет и тени власти, тут никто не стремится учить, да и к чему учить? Разве же совесть христианская, просвещенная двухтысячелетним опытом и церковным преданием, не знает, что нужно делать и чего не нужно? Единственная дума - о будущем Небесном Царстве. Но и тут нет католического "паспорта" на бесспорный вход туда, нет и самообольщенной уверенности в свою собственную "спасенность" заслугами Христа; здесь лишь сокрушение о грехах со смиренной надеждою на возможное милосердие Спасителя да на заступление Богородицы и святых мучеников, ходатаев пред Богом. Да и об этом они не думают, а лишь смиренно, кротко глядят вглубь своих душ, но без уныния, без отчаяния.
Вот это - православные. Вот это - действительная религия в душе. Вот это - святой народ. Вот это - действительно истинная Церковь Христова. И пусть немало торгашей среди греков, но не они составляют церковную массу, а эти смиренники сельские около убогого храма. Я увидел потом это истинное благочестие в Константинополе. Но все по порядку.
Через несколько дней нас начали спускать с пароходов, но не всех, иначе бы мы наводнили город. Сначала разрешили въезд высшим начальникам, архиереям и т. д. Масса же войск должна была потом отправиться в лагеря на полуостров Гал-липоли и остров Лемнос, а флот был отправлен в Африку, в г. Бизерту, который стал теперь известен всему миру по войне. Но часть военных не захотела идти в лагеря. Кажется, что милостивее всех оказались французы, а потом уже англичане, после и сербы с болгарами пошли нам навстречу и взяли несколько тысяч беженцев. А еще дальше французская власть стала принимать их рабочими на заводы и земледельческие фермы. Этим трем народам, и особенно милым сербам, нужно отдать историческую благодарность за нас, несчастных бездомников. Да сохранит их Господь от бед и напастей! Много профессоров и студентов пристроила в университеты Чехословакия, возглавляемая тогда президентом Масариком. Совершенно отказали в приеме итальянцы и вообще католические страны. Они. наоборот, воспользовались нашей нищетой и горячо принялись вылавливать детей русских беженцев, устраивая их в приюты и окатоличивая их там. Уловили, вероятно, несколько десятков взрослых. Но в общем их пропаганда не имела успеха. Однако наш Синод уполномочил меня войти в переговоры с папским представителем в Константинополе, архиепископом Дольче, чтобы католики не ловили наших детей. Старый любезный итальянец обещал мне это на словах, но едва ли это исполнялось на деле.
Не оказали гостеприимства и союзники - румыны, и бывшие враги - немцы, и даже православные греки Эллады. В Турции долгое время ютились кое-где тысячи беженцев, но и оттуда их потом переселили в Европу; тогда турки уже вели дружбу с Советами.
А те, которые не захотели отправляться в лагерь, заселились по трущобам Царьграда. Но чем жить?
И вот началась погоня за хлебом насущным. Припоминаю незабываемую картину. Где-то на горном участке города стояли ряды русских генералов, полковников, офицеров и что-то предлагали на продажу или на мену. Даже продавали за ничто романовские деньги, кажется, по копейке, по две за рубль. Тут были и знатные аристократы, и просто казаки. Жалкое это было зрелище: бывшие богачи теперь нищие просители. Женщины многие пошли на службу в рестораны, кафе, кабаре - лишь бы достать пропитание.
И более! Каким малым довольствовались люди тогда!
Например, прибыли семейные военные в полуразрушенный город Галлиполи. Квартир нет.
Иные если устраивались между двумя, тремя стенами развалины, то уже считалось хорошо. Но со всех сторон ветер дует! Был уже декабрь.
Для войск французы дали палатки, и там жизнь наладилась лучше. Но зато там генерал Кутепов ввел суровую дисциплину, за что его прозвали Кутеп-пашою.
Тогда еще верили, что Белая Армия пригодится для спасения Родины. Жизнь в течение ближайших двух-трех лет разочаровала нас. У беженцев явилось мрачное предчувствие, что уже не видать им больше родной земли, а следовательно, нужно так или иначе устраиваться где попало. И куда только не занесло нас, горемычных. Кажется, буквально нет в мире страны, где теперь не оказалось бы русских. Один из моих знакомых шутил: "Теперь русский язык мировой, и нам можно путешествовать без всяких проводников. Приедешь, например, на пароходе в Индию, крикнешь по-русски с корабля: "Эй, кто тут Иван или Степан из России?" И непременно с пристани кто-нибудь откликнется. Не говорю уж о Европе и Северной Америке. А в Азии, Южной Америке, Австралии и даже на некоторых тихоокеанских островах осели целые группы или отдельные лица из беженцев.
Невольно напрашивается вопрос: какой исторический смысл в этом рассеянии нас по миру?
Ведь это повторение еврейского переселения. Там был смысл: подготовка мира к принятию Мессии Христа. А у нас? Если сказать лишь, что мы несем Божие наказание за отпадение от веры, но ведь не такие же мы безбожники? Если, как многие белые думали про себя, будто мы соль национальной России и обязаны теперь вести борьбу против большевистского безбожного интернационализма через словесную и печатную пропаганду, то это действовало лишь до критического исторического момента - до войны. Когда же она началась, то вся пропаганда белых разлетелась как дым. Следовательно, и не в этом смысл беженства. В чем же он? Откровенно сказать; не ясно это мне еще.
И разумеется, он не в том, что русский балет при Мечето-Карло славится по миру танцорами и танцовщицами. И не в том, что два-три казацких хора ездят по миру и поют церковные песнопения и светские песни. И уж, конечно, не в том, что мы принесли "безбожной Европе" и "материальной Америке" свет православия и святую жизнь. Где уж там! Кто будет судить по нас о святой Руси, тот быстро разочаруется и в нас, и в России. Так в чем же смысл? А он должен быть и с точки зрения божественного Провидения, и даже с рационально-исторической причинности. Сейчас я воздержусь от ответа.
Может быть, после посещения мною разных стран станут яснее результаты нашей заграничной жизни и наблюдений, и тогда можно попытаться наметить некоторый смысл. Как-никак, а говорят, что всех русских беженцев разных национальностей за границей насчитывается будто бы до двух миллионов. Я не согласен с этой цифрой, возможно, до миллиона или хотя бы до полумиллиона. Не случайная же мы щепка в мировом океане! Но подождем делать выводы...
Воротимся к описанию беженской жизни. Вот выпустили меня с моей канцелярией военного архиерея. Нас, епископов, устраивали на русских Афонских монастырских подворьях, ютившихся в нижней части города, в так называемой Галате. Я получил малюсенькую комнатенку в 3 шага длины и 2 ширины на Троицком подворье. Тут нас помещалось пять человек. На единственной койке спал я, двое других - на полу между мною и стеною, четвертый - у нас в ногах, а пятый уже за дверью Б коридорчике. Но и так мы были рады! О, как рады! Подумайте, живем без страха. Не нападут большевики, не повезут ночью на расстрел, не посадят в "чрезвычайку".
Разве это не счастье для беженца? А тут еще и роскошное питание. В Крыму даже я, архиерей, не мог достаточно получать хлеба, чтобы наесться им. Сахар был заменен противным химическим сахарином, который я отказался употреблять, и вообще, вся жизнь начала замирать: не хватало электрической тяги для городских трамваев, угля для отопления и т. п. И вдруг вижу, что в "дикой" Турции, в огромном Константинополе исправно плавают пароходы, горит ярко электричество и... трамваи ходят. Я так от этого отвык, что мне искренне казалось: ну, вероятно, это уже последний день. Или сижу в трамвае и боюсь: вот-вот он сейчас остановится посреди улицы и не сможет дальше везти. Когда же он двигался спокойно дальше и не думал останавливаться, я удивлялся: как же так? Тут все в порядке. Разве еще может быть во всем мире строй и довольство, если в России ничего нет и все в хаосе?
То же и о пище. Купили мы белейшего хлеба сколько хотели, селедку, чаю, сахар и еще ореховой халвы. Какими блаженными считали мы себя! Истинно, и цари не ели с таким наслаждением, как теперь мы. Мало-помалу рассосались куда-то и другие беженцы. Ушли в Бизерту моряки, уплыли на Лемнос казаки, а в Галлиполи - "цветные" дивизии, как называли добровольцев по различию цвета погонов и околышей. И снова началась мирная жизнь. Человек, как ласточка после разорения старого гнезда, начинает опять лепить свою жизнь. Общую картину я нарисовал. Теперь мне о Турции нужно рассказать несколько отдельных эпизодов, запечатлевшихся в моей памяти и характерных для этого исторического момента.
Для общей организации беженской жизни, а также продолжения политической работы за границей генерал Врангель создал вместо прежнего совета министров "русский совет" из представителей разных общественных кругов. Заместителем его самого был известный профессор Московского университета хирург Иван Павлович Алексинский. Он и потом долго еще верил в поражение и разложение большевиков в России, выпуская даже какой-то журнал или газету в этом смысле, а при встрече в Ницце в 1926 году, когда я уже отошел от армии и политики, он пытался убедить меня в своей правоте: вот-вот еще несколько месяцев, и "они" падут... С тех пор прошло 17 лет, но надежды его не сбылись. Блестящий хирург, сделавший на своей жизни до тридцати тысяч операций, из коих до шести тысяч аппендицитных, он был самым обыкновенным обывателем в политике и, думаю, не своим делом занялся тут. Да и вообще, как и на юге России, не оказалось за границей мудрых и прозорливых политиков, по-прежнему мы шли в хвосте истории, а не провидели ее будущего.
Эмиграции, как почти всякой эмиграции, пришлось доживать свою жизнь за границей, умирать на чужбине. Правда, бывали исключения, как, например, возвращение Бурбонов во Францию после 25 лет изгнания. Но там были особые причины общенародного или общеполитического характера, а нам, беженцам, не на что было надеяться. За нами сзади не было народных масс, наоборот, они были враждебны к нам, а впереди, у иностранцев, мы даже не имели друзей, оставалось ждать случай, но это - плохая политика. Поэтому в эмиграции начала расти сразу тяга домой. И некоторым группам казаков постепенно удалось кое-как пробраться назад, но большинству суждено было работать за границей да утешаться несбыточными мечтами.
Наш "русский совет", в сущности, был мертворожденным детищем. От всех наших заседаний мне запомнилось лишь одно: протест против помощи голодавшей России на Генуэзской конференции. Там, конечно, писалось, что поддержка питанием нашей родины есть лишь помощь большевистскому хаосу. Но разумеется, на нас в Генуе не обратили ни малейшего внимания, а комиссар Чичерин был там почетной персоной. "Белое движение" для заграницы умерло. А скоро уничтожился и бесполезный "русский совет". Вместо него образовался какой-то иной центр, уже позабыл его имя, куда уже не был приглашен представитель от Церкви.
По этому поводу у меня с Врангелем произошло резкое столкновение. Запишу его, потому что был затронут общий вопрос об отношениях гражданской и церковной властей.
Посетив его по какому-то делу в здании посольства, где он принимал посетителей, я открыто сказал ему по поводу неприглашения представителя Церкви следующее:
- Эх, ваше превосходительство! Когда Церковь нужна была вам в Крыму, вы звали нас. А теперь, когда мы стали ненадобны, вы обошлись без нас.
Он мгновенно вспылил, поднялся во весь свой рост и с раздражением ответил:
- Кто вам позволил так разговаривать со мной?!
И ушел, не простившись, в соседнюю комнату, сильно хлопнув дверью. Я почувствовал себя очень скверно и через полминуты ушел из посольства, размышляя над инцидентом. Винил я не его, а себя.
В самом деле, разве генерал о себе думал, когда принимал командование в Крыму? Не о нас ли всех? Не о Родине ли? Не ему ли мы обязаны были и самой эвакуацией, может быть, и жизнью? Не ему ли мы, я и другой архиерей, советовали принимать тяжелый крест в день выборов его в вожди остатков "белого движения"? Какое же тут могло быть место для упреков? Не должен ли был я постоянно хранить чувство благодарности, если б даже и случилась какая-нибудь неприятность? Конечно. Кроме того, отношение Церкви ко всякой государственной власти должно всегда покоиться на почитании ее и на весьма осторожном отношении к ней.
Православие, в противоположность мирскому католицизму, не должно господствовать над государством. Наоборот, оно должно бережно хранить права светской власти. Этого требует и суть христианства, и учение Слова Божия о самобытности и божественном происхождении светской власти. Простая мудрая деликатность: всякая власть ревнива к своим правам, с этим нужно серьезно считаться, иначе легко можно порвать нити добрых взаимоотношений, в которых должна жить для общей пользы государства и Церковь.
В общем, Православная Церковь вела такую правильную линию, если же когда-нибудь она соскальзывала с нее, то в первую очередь было худо для самой же Церкви - для веры, а потом и для государства, которое тогда начинало опасаться вмешательства непрошеного гостя.
И вспоминалась мне печальнейшая история столкновения между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном в XVII веке. Патриарх забрал слишком большую государственную власть и влияние над царем. Алексей Михайлович был, по давнему моему убеждению, совершенно прав, начав борьбу против бывшего "со-бинного друга" своего. История кончилась печально: низложением на Церковном соборе патриарха и подозрением к церковной власти вообще. А у сына Алексея Михайловича, Петра Великого, вылилось это недоверие в закрытие патриаршества, в учреждение коллегиального Синода, подчиненного царю. На 200 лет ослабли сердечные узы между государством и Церковью, поэтому даже революционное отделение Церкви от государства явилось не новостью, а продолжением и углублением давней надорванности этих взаимных отношений.
Я понял, что в случае с генералом Врангелем был неправ и по существу, и тактически. Дня через два я намеренно пошел к нему, прося содействия в отправке части духовенства в Болгарию и Сербию. Он вышел ко мне обычно любезным.
- Вы на меня не сердитесь? - спросил я. - Простите меня!
- Ну, что вы! - спокойно, но холодновато-сдержанно ответил он, приглашая меня жестом садиться.
Просьба моя была исполнена быстро. После у нас отношения совершенно восстановились. Но я, наученный горьким опытом, стал осторожней, и до самой его смерти у нас никогда уже не было ни малейших столкновений.
Да и вообще, к человеку нужно быть деликатнее и осторожнее. Как легко иногда надломить самые дружеские отношения и как трудно (а иногда уже и невозможно) бывает восстановить их!
Теперь за границей, вспоминая этот случай, стараюсь держаться правильной позиции, а то бывали прорехи не один раз. А виновен опять я,
Подобным образом в обращении к безрелигиозным отдельным людям или целым общественным группам и организациям нужно быть тоже очень терпимым, тактичным и кротким. Если еще что-нибудь можно сделать, то лишь этим путем, иначе повредишь и им, и себе, и вере. Недавно мне пришлось услышать один хороший совет, чтобы я не допускал даже по отношению к церковным отделившимся кругам огорчительных слов.
Верно! Верно! Всегда помни не только о себе, но и о других... И лучше будет... А огорчения покрой своей любовью и попроси даже прощения. Будет чудо возобновления единства и взаимной любви.
Еще из жизни генерала Врангеля нужно вспомнить гибель специально им занимаемого маленького парохода "Лукулл", где он жил по приезде в Константинополь. Эта территория в Босфорском заливе была как бы независимой и давала мираж державности. Но вот однажды итальянский океанский пароходище, маневрируя в этом проливе, раздавил в скорлупу "Лукулл". Все спаслись, но будто помнится, что капитан корабля, по морской традиции, пошел с ним ко дну. Между спасенными вещами была и та святая старинная икона, которой был нами благословлен генерал Врангель на командование в Крыму. После я видел ее в здании посольства, куда вынужден был переехать на постоянное житье.
Еще вспоминается присутствие генералов на открытии русского Церковного собрания в Константинополе, но об этом событии, имевшем потом большие последствия, надо говорить сейчас особо.
Когда мы прибыли в Турцию, тотчас же поднялся вопрос о дальнейшей самостоятельной организации церковной жизни. Одним из главных защитников этого вопроса был я, еще не изживший своей энергии. Так же думали и другие архиереи. Лишь один митрополит Киевский Антоний, махнув рукой, сказал небрежно:
- Ну, какая тут самостоятельная организация? Раз мы оказались на территории другой Православной Церкви, то, по законам, должны ей и повиноваться.
Но все прочие думали иначе. Митрополит Антоний уступил, и притом довольно легко. Очевидно, каноны не очень удерживали его. И после я видел не раз, что хотя он хорошо знал их, но когда ему хотелось, он руководился не ими, а собственными рассуждениями.
Так воссоздался наш Крымский Синод. В нем были следующие члены: митрополит Антоний, митрополит Платон, архиепископ Феофан и я. Все мы не только кончили академии, но и служили в них: первые трое были даже ректорами, а я преподавателем в Петербургской академии.
Из нашей деятельности теперь я могу отметить три наиболее значительных факта.
Прежде всего, установление взаимоотношений с Греческой Патриархией, в область которой мы попали. Строго по канонам, греки могли бы потребовать от нас подчинения им и не разрешать самостоятельного управления. Но имя России, русских, так было велико и сильно, даже в лице нас, эмигрантов, что Патриархия пошла нам навстречу и написала довольно растяжный томос (указ), которым мы признавались как часть Русской Церкви и могли самоуправляться во внутренней своей жизни. Но вот тут опять сказалась их греческая психология: они не дали нам права производить разводы браков. Причина тому была совершенно простая: процедура разводов приносила довольно значительный доход, и греки не хотели передавать его нам, а потому оставили их за своей Патриархией.
Конечно, это было мелким шагом с их стороны. Уж если бы они хотели быть канонически принципиальными, так тогда нужно было им ограничить наши общие, административные права как более важные, а не интересоваться какими-то жалкими сотнями или даже тысячами турецких лир за такую невозвышенную материю, как расторжение брака.
Тут уж я упомяну и об общем, довольно холодном отношении их даже к нам, архиереям. Мы учим и проповедуем, что вся Православная Церковь есть единое тело, единый духовный организм. Но когда мы оказались в пределах нашей . Матери - Церкви Греческой, то с ее стороны нам не было оказано буквально никакого привета. Никто из их архиереев не посетил нас на кораблях; не дали нам просто никакого приюта; не поинтересовались, чем мы живем и даже как питаемся; никто не спросил нас, что делается у "русской сестры" - Церкви на родине. И только лишь когда мы сами обратились к ним в Патриархию (в так называемый Фанар), они увидели нас, а потом ограничились формальными отношениями на бумаге.
Все огорчало нас. И однажды я в беседе с заместителем усопшего Патриарха, митрополитом Николаем, высказал ему горечь нашу:
- Вот мы повторяем в Символе веры: Во Едину Святую... Церковь, а где же это единение?
- А как же? - спокойно возразил мне митрополит Николай. - В вере, в таинствах, в молитвах.
Мне это понравилось. Значит, человек верует в духовное, благодатное общение и считает его первейшим делом.
- Да, это суть, - ответил я. - Но апостол Павел говорил еще: "Общения и благотворения не забывайте... страннолюбия держитесь".
- А в чем же оно могло бы выразиться? - спросил он в недоумении.
- Да хотя бы пригласили нас, архиереев, в Патриархию посидеть, потом вместе напиться чаю. Мало ли чего можно придумать при желании и любви.
Он смиренно промолчал.
А я подумал и сейчас думаю: действительно ослабела любовь между нами, Православными Церквами, настоящего сердечного единства не чувствуется. Живем точно чужие. Это ненормально. И нужно всем Церквам задуматься над такой болезнью нашей. Кажется, проще всего нужно было бы устраивать нам соборы, с приглашением других Церквей, оставлять своих представителей при патриархиях. Устраивать беседы по разным вопросам (богословским, школьным, инослав-ным, общественным). Издавать бы единый печатный орган. Поминать друг друга в молитвах на открытых богослужениях при архиереях и даже^ во всех церквях приходских. Конечно, это все второстепенные внешние средства, а главное - в благодати Единого Святого Духа, обитающего в сердцах наших. Но все же не нужно пренебрегать другими путями. А потом нужно созвать следующий Вселенский собор. Некоторые думают, будто их было 7, а больше быть не может. Но ясно, что это мертвая идея, Церковью же руководит Животворящий Дух Святой. Была недавно такая попытка - созвать Вселенский собор на Афоне. Но она не удалась потому, что Русская Патриархия отказалась послать своих канонических представителей вместе с незаконными "живоцерковниками", которых тоже признает Греческая Патриархия и коих она пригласила на предполагавшийся Афонский собор. За Русской Церковью отказался и покойный Сербский патриарх Варнава. Так дело и расстроилось. Не на единстве и любви созданное разъединением и кончилось. А одним из условий сохранения единства и любви является соблюдение церковных канонов как запечатленных форм этого единства, как путей сохранения любви и истины. Но, увы! После и архиереи, и патриархи перестали дорожить этими "узами любви", этими опорами пребывания в единстве. И потому стали разваливаться и последние остатки любовного общения.
Греческая Патриархия за годы революции в России сделала много фальшивых шагов, которые едва не привели к разрыву между ней и Русской Патриархией; признание "живой церкви" наряду с истинной Церковью (Патриаршей) не отменено и доселе; оправдание откола православных епархий в Польше, Латвии, Эстонии, Финляндии и даже в эмиграции (митрополита Евлогия Парижского), участие в этих расколах и т. п. Совершенно справедливо писал митрополит Сергий, что Русская Церковь и русский народ начали терять веру в Греческую Патриархию как представительницу канонической правды.
Нередко мне приходили мысли, что история Константинопольской Патриархии как первой среди других подходила к концу. И совсем не оттого, что греков мало числом, а потому, что они ослабели в хранении канонической истины, стали приспособляться к ложным путям. Кто знает, не перейдет ли эта первенствующая роль от Царьграда к русской Москве, согласно древнему преданию нашему. Москва - третий Рим (Константинополь - второй, так он официально и именуется в церковных актах: Нео Роми - Новый Рим). Во всяком случае, вне всякого сомнения. что у нас на Руси, особенно со времен управления митрополита Сергия, церковная жизнь поставлена хотя и на благоразумные, но строгие пути канонов. И это возвышает ее значение в глазах всего мира.
Если же прибавить к этому глубокое недоверие к грекам не только болгар, находящихся в расколе с ними, но и сербов (это я отлично знаю), а теперь и русских, то положение Греческой Церкви станет еще более слабым.
А если предположить, что эта мировая война кончится победой русских и изгнанием немцев с Балкан, славяне и греки будут обязаны им и союзникам нашим, тогда нетрудно будет понять огромное политическое значение Москвы, а обычно, как показывала вся история Церкви, с ростом государства растет и сила Церкви. Известно ведь, что Константинопольская Церковь возвысилась лишь после того, как Константин Великий перевел туда из Рима политический и государственный центр, а совсем не по каким-либо догматическим соображениям.
А если славяне с Россией остынут к Греции, то кто же с ней останется? Несколько миллионов греков, несколько сот тысяч сирийцев, сомнительные румыны - и все? Нужно учитывать жизнь и ее историю. Но пока греки только и делали за последние 25 лет, что старались ухватить где-нибудь что "плохо лежало"... Горько писать это, но такова правда, и ее не забыть России!
Но воротимся к работам нашего Синода.
Вторым запечатлевшимся в моей памяти вопросом была попытка установления отношений уже не с православными, а инославными Церквами, католиками в первую очередь, а также англиканами и проч.
Нужно сказать, что католики оказались внешне гораздо более любезными, чем греки. Не говоря уже о том, что они дали приют детям. Их представитель, архиерей Дольче, папский легат на Ближнем Востоке, в сопровождении свиты сделал визиты русским архиереям. Я тогда был опасно болен (воспаление кишок), и они навестили меня в болгарской больнице, при этом привезли мне около пяти фунтов шоколада и бутылок 15-20 разных прекрасных вин. И вообще, жизнь поставила нас в более близкие отношения.
А так как в России мы жили обособленно друг от друга и законы охраняли эту ограду между нами, то нам тут пришлось впервые жизненно, а не в теории столкнуться с вопросом, как относиться к инославным.
Тем более что греки, без сношений с другими Церквами, вошли в довольно тесное общение с англичанами, чуть не признавая их вполне православными. Эта дружба началась давно-давно. Она нужна была обеим сторонам: греки нуждались в англичанах для освобождения от турецкого ига, а англичанам нужен был Константинополь и признание их иерархии, оторвавшейся от папы законного. И увы! Опять нужно сказать, что греки и тут встали не столько на догматике-каноническую позицию, сколько на политике-практическую. Русская же Церковь держалась очень осторожного отношения к английской Церкви. Было несколько попыток к выяснению вопроса об объединении? Наши беженцы стали разъезжаться из Турции и во Францию, и в Германию, и в Сербию. Митрополиту Платону, как уже знавшему ино-славную Америку в течение семилетнего его ар-хиерейства там, предложено было изготовить доклад к следующему заседанию.
Он приготовил. Митрополит Антоний, как председатель по старшинству, сначала пропустил на рассмотрение какие-то другие вопросы. Потом на повестке был доклад митрополита Платона.
- Что там дальше? - спросил митрополит Антоний секретаря Синода Т.А.Аметистова.
- Вопрос об отношении к инославным.
- Ну, чего же тут рассуждать? - пренебрежительно, с видом знатока сказал он. - А что там дальше?
Секретарь хотел докладывать дальше, но мы все были ошеломлены таким оборотом дела. Ведь он же сам в прошлом заседании согласился на рассмотрение этого вопроса! Иначе б он не был поставлен на повестку. Сконфуженный митрополит Платон мучительно молчал, Анастасий и Феофан тоже.
- Владыка, - обратился я к митрополиту Антонию. - Прошу слова.
- О чем?
- Да уж я знаю о чем: о повестке нынешнего заседания!
- Ну, что? - раздраженно спрашивает он.
- Скажите, пожалуйста, зачем вы, как председатель, созываете нас, членов Синода, на собрание?
- Как зачем? Что за вопрос? - все больше волновался он.
- Если вы хотите проводить лишь свои воззрения, тогда уж проще поступить так, как иногда, говорят, делали обер-прокуроры с прежним Синодом; они рассылали для подписки членам его заготовленные решения.
- Как вы смеете так говорить, - потеряв терпение, закричал митрополит Антоний.
Но я давно перестал бояться в душе своей.
- Да, смею, осмелился. Я почти двадцать лет собирался сказать вам об этом, да все боялся...
- Вы-то боялись?
- Да, боялся!
- Да вы даже патриарха не побоитесь!
За границе
Ближний Восток
- Может быть, и не побоюсь. Но сейчас дело идет о Синоде. Мы все на прошлом собрании постановили обсудить этот вопрос. Поручили митрополиту заготовить доклад. Он это сделал. Мы все, кроме вас, ждем с интересом заслушания его. Если вам все ясно, то не ясно нам. Вы же не удостаиваете даже сказать митрополиту...
Я хотел продолжать свою речь дальше. Но митрполит Антоний с гневом закрыл собрание Синода. А меня взял под руку, отвел в сторону и почти с шипеньем сказал мне вполголоса:
- Вы знаете, что сделали бы вам за такой скандал старые архиереи?
- Не знаю. Но только тогда позвольте и мне сказать вам. Вы, как никто другой, являетесь противником католицизма и папизма. Но я еще не знаю иного архиерея, который бы был в душе таким самоуверенным папистом, как вы.
Мы разошлись. Но заседание не закончилось, и поставленный вопрос так и не обсуждался после. Сам митрополит Антоний иногда говорил, что и язычники, и магометане благочестивей католических и протестантских христиан, потому что у них будто бы воззрения более аскетичны, чем у этих сект, желающих оправдаться без подвигов.
Увы! Позже, всего через 6 лет, тот же митрополит Антоний принимал участие в торжественных заседаниях и стоял за службами в англиканских храмах в Лондоне по случаю 1600-летия Первого Вселенского собора, участвовал в торжественном банкете у Сербского патриарха Димитрия по случаю чествования католического архиерея, приехавшего с визитом в Карловцы. Но, правда, в душе оставался непримиримым противником католицизма.
Так этот вопрос и остался невыясненным, и каждый из нас решал его уже потом на свой риск. Третье дело, уже одобренное Синодом, был вопрос о подготовке Бсезаграничного Церковного собора. Эта идея больше всех принадлежала мне. Я же был назначен и председателем подготовительной комиссии. С несколькими сотрудниками мы разработали обширный план и напечатали его в особой брошюре, которую разослали по всем местам русского беженства. А Синод распорядился, чтобы в главных центрах рассеяния нашего были устроены предварительные собрания с выработкой предложений. В Константинополе такое собрание было под моим руководством в течение двух недель и прошло прекрасно; одушевленно, единодушно, мирно.
Это было и остается одним из лучших моих воспоминаний о церковной жизни за границей. Между прочим, сначала устроено было торжественное богослужение, а потом и собрание, где присутствовал наш главнокомандующий. Ему было устроено блестящее торжество с речами и рукоплесканиями. "Вот если бы все так поддерживали!" - сказал он мне после наедине.
Увы! Это было для него последнее торжество.
Не буду описывать подробности нашего собрания, о нем осталась где-нибудь изданная нами брошюра.
От греков был назначен представителем викарный епископ Фотий. Нам показалось это обидным, и мы (это было неделикатно с нашей стороны) попросили прислать более высокое лицо. Патриархия заменила его митрополитом... Какая же судьба! После сего викарный епископ Фотий был избран в патриарха Константинопольского (под именем Фотия II). Сначала, еще молодым, его место занял теперешний патриарх Вениамин, глубокий старец.
Между прочим, некоторые политические, правые члены нашего собрания, хотели воспользоваться им для проведения политических резолюций и т. п. Но мною эти попытки были оборваны сразу, и тогда все пошло мирно и церковно. Не то произойдет дальше, на общем соборе.
Митрополит Антоний в это время уже переехал в Югославию, в г. Карловцы, к патриарху Сербскому Димитрию. А архиепископ Анастасий был отправлен с ревизионной целью в Палестину.
Митрополит Платон, вероятно, уехал в Болгарию. По славянским странам, особенно в Сербию, разъехались и другие архиереи. Нас за границей было около 15-17 человек.
Продолжение этого дела будет в ноябре 1921 года в Сремских Карловцах; там Синод, с разрешения Сербской Церкви, назначил быть заграничному собору, который и прозван был Карловцким. Но это уж вопрос жизни эмиграции в Сербии, до коей скоро дойдет речь.
А пока прошу читателя проехать со мною в Галлиполи, на о. Лемнос и в греческие Салоники. Как епископ армии, я мог и хотел посетить места скопления наших войск.
Главная масса их, добровольцев, была в Галлиполи довольно хорошо устроена в палатках, с воинской дисциплиной. Как водится, устроен был парад. Я говорил ободряющие какие-то речи... Ну, о чем я мог тогда говорить? Теперь и сам стыжусь вспоминать... Да и не помню... Мы все еще во что-то верили... А тут случилось Кронштадтское восстание против большевиков. И у нас уже поспешили напечатать в газетах: "Лед тронулся..." Но слишком рано мы увидели весну, это была запоздалая зима старого. Беженцев между тремя голыми стенами я уже не видел: как-то устроились. Французы доставляли необходимое. Кажется, за все это они потом присвоили себе флот, ушедший в Бизерту. Вспоминается одна комическая подробность. Нашим войскам предоставили для пользования большие котлы с двойными днищами. Наши повара-солдаты никак не могли варить в них пищу, сколько ни разжигали дров. Оказалось, нужно было между двумя днами налить не то воды, не то масла, а они не знали этого. Ну, потом кто-то научил их. Греки, кроме архиерея, и тут относились к русским холодновато.
На острове Лемнос поселили казаков. Чтобы они не скучали, французский генерал дал им работу: устраивать шоссе. Вероятно, и доселе пользуются казачьими трудами. На этом вот острове мне пришлось посетить дом и семью сельского священника. Какие были смиренные и батюшка, и матушка. На редкость! Посетил епископа, но он оказался малогостеприимным.
С Лемноса отправился в Грецию, в г. Салоники. Город нес еще следы разрушения от недавнего землетрясения. Поклонился я останкам мученика св. Димитрия (под спудом), а потом пошел к архиерею. Кажется, собор в Салониках, очень красивый, был посвящен имени знаменитого богослова и Солунского святителя Григория Паламы. Теперешний архиерей, видимо образованный, отнесся тоже сухо. Что было, то было...
От него я поехал в лагерь военнопленных. Ими были наши белые... За проволочными решетками, в военных бараках, оставшихся от союзников, уныло стояли наши бывшие герои. Меня внутрь даже не пропустили, а некоторые из них, помню скромного генерала Писарева, подошли к решетке. И я через нее им опять о чем-то говорил. Утешал ли? Обличал ли? Не помню...
Нигде я не видел такого обращения с нашими войсками, как в этих греческих Салониках, - за проволокой. Кажется, после эти войска были перевезены в Сербию, где уже жили без решеток.
Оттуда я снова воротился в Константинополь. Туг осталось мне вспомнить еще раз о католиках. Я заболел. Русские доктора лечили меня от малярии, не помогло. Перевезли в болгарскую больницу, там тоже лечили от малярии, напрасно. Перевели во французский госпиталь имени генерала д'Эспере. И тут лечили от малярии. Доктор нашел особый тип ее.
Оказалось же в конце концов у меня воспаление кишок. Едва не залечили. Но организм вынес. Между прочим, католики предлагали повозить меня по Европе и показать свои монастыри. Навестил меня митрополит Антоний. Он, по-видимому, забыл обиду и просил не ехать к католикам. "Не дай Бог вы там где-нибудь умрете, а они соврут и раззвонят, что православный архиерей соединился с Римом".
Я не стал спорить и отказался от готовившейся поездки. Сказать правду, католики - большие любители обращать чужих в свою веру. И тот же архиерей Дольче во время моих визитов иногда в полушутку говорил мне, указывая на портрет папы, висевший за его креслом:
- Пойдем!
- Никогда! - отвечал я ему.
А однажды он сказал мне любезно:
- Я вас люблю.
- Почему? - спрашиваю его.
- Потому, что вы имеете веру!
Меня это не удивило. Конечно, это не значит, что католический архиерей не имел веры или был безбожником. Но, вероятно, наша русская непосредственность веры и сердечность ее показались западному уму, источенному сомнениями и рационализмом, неожиданным и отрадным явлением.
- Я познакомился с вашими архиереями, - продолжал он, - и написал папе, что все русские архиереи очень благочестивы!
С французского языка выходил смешной каламбур: "Очень благочестиво" - по-французски tres pieux - "трепье", а мы, по бедности своей и выброшенности за границу, теперь были действительно как бы "тряпьем".
Нужно сказать, что этот монсеньор Дольче относился ко мне очень дружественно и мило. По годам он годился мне в отцы. Понюхивая табачок и без особой чистоплотности смахивая остатки его на грудь своего подрясника, он почти все время улыбался мне. Конечно, ни в какой переход мой в католичество он не верил, а просто был по натуре своей симпатичным итальянцем. Его помощник, архимандрит, очень красивый брюнет с выхоленной бородкой, тоже был любезен, но более из-за дипломатического такта, а не по сердцу. Однако и ему нужно отдать благодарность. Еще я познакомился с двумя монахами иезуитского ордена: один происходил из известного русского польского рода графов Т., другой француз с седой бородой о. Б.
Первый занимался со мною по французскому языку, без которого на Востоке невозможно обходиться иностранцу: и греки, и турки более или менее владеют им. Граф Т. был искренним убежденным католиком-папистом. Он без колебаний верил, что спасти душу без веры в папу решительно невозможно. И когда я на французском уроке выразился критически по этому вопросу (в чем я уверен и сейчас), то он крайне расстроился и простился со мною раздражительно. Нам, православным, очень трудно понять абсолютную приверженность католиков к догмату о папе. А другой иезуит, француз, был ровен, симпатичен вообще. Французы-католики много легче других исповедников папизма: поляков, баварцев, австрийцев и бельгийцев.
После моей болезни мне пришлось ознакомиться с целым католическим монастырем. По просьбе одного знакомого мне лица, через того же графа Т., католики предоставили мне в Кадике (Халкидоне) "епископскую комнату". Но в ней не было ничего особенного, кроме спальной кровати. Она была под балдахином, и на ней лежали, вероятно, три огромные перины, в которых можно было утонуть. Зачем это? Не думаю, чтобы так спали святые апостолы-рыбаки... Впрочем, и мы, русские архиереи, жили до революции в покоях не хуже губернаторских. Но, как беженцу, мне эта гора перин и подушек показалась неприличной для епископа.
В этом монастыре жили монахи ордена ассумпционистов (в честь Успения Божией Матери), отделения общего ордена августинцев - в память блаженного Августина Карфагенского. Их делом было обучение в школах, потому другое их название - "братья христианских школ". Из жило тут до 25 человек. Все они где-то учили, рядом была школа, да еще куда-то ходили они. Личная жизнь их проходила в кельях, куда не допускался посторонний глаз. А общая, показная сторона была вся подчинена правилам дисциплины: в ночное время они вставали, молились, учили, кушали, уходили в свои кельи, спали. Даже получасовой отдых после обеда и ужина был для каждого обязателен. Для этого они уходили в читальню, где могли разговаривать между собою дважды в день, а потом (кажется, даже по звонку) быстро исчезали по кельям. За обедом один читал какие-то религиозные рассуждения на французском языке. Большинство из них были французы, другие понимали этот язык; в русских монастырях читали жития святых, это проще и легче для обеда. В большие праздники, например, в честь Фомы Аквинского, подавалось больше кушаний, в заключение даже раздавались папиросы для курения, и все должны были дымить. Питание у них было прекрасное, разнообразное, но не обильное. На столе стояло кислое вино. Во всем монастыре не было ни одного толстого инока. И вообще, я обязан сказать, что, прожив у них больше месяца, не увидел ничего дурного или смущающего. Это были церковные работники. В огромной двухсветной зале у них была большая библиотека до десяти тысяч томов. Все это было неплохо. Но вот что всегда удивляло меня: от них и вообще от всего монастырского уклада их жизни веяло холодом. Говорили ли мы - не было интересно: все - от ума, а сердца не слышно. Стоял ли я у них на богослужении в огромном храме - все казалось мертвым. Слушал ли я проповедь - она была похожа на школьный урок. Скучно... Скучно...
Ко мне они были любезны, но это казалось простой благовоспитанностью и расчетом. Но на русских они сами смотрели, по-видимому, иначе. Однажды кто-то из них сказал мне:
- Нам совершенно не интересны ни сербы, ни болгары (а у них было человек пять послушников из болгар), важней вы, русские.
- Почему? - спрашиваю.
- Потому что у вас сердечная вера.
Опять повторились слова Дольче о вере. Да, у них больше дисциплины, у нас - сердца. Припоминаю, например, такой случай. В храме нужно было совершить выход из алтаря. Служитель должен был идти впереди со свечой. Но он забыл вовремя зажечь ее, а между тем священнослужитель уже торжественно шествовал за ним. Ну, что бы было у нас, русских, в подобном случае? Разумеется, церковник бросился бы исправить свою оплошность и зажечь свечу, а батюшка подождал бы эти десять - пятнадцать секунд. Но у них иначе: остановиться было уже нельзя, так как это нарушило бы дисциплину и чин, потому служитель пронес свечу незажженной. Маленький случай, -но характерен для католицизма.
Совсем другое впечатление производила на меня служба православных греков. В том же Халкидоне у них был огромный собор в честь Святой Троицы. Языка греческого я почти не понимал (так же, как и латинского у католиков, хотя учили мы их по десяти лет в духовных школах), но совершенно иной дух ощущался в храме. Это не оттого, что я был заранее не расположен к католикам, наоборот, даже старался искать у них тепло веры и жизни и не находил, к моему сожалению. А тут, у греков, помимо моей воли и рассуждения от всего шла именно радующая теплота, скажу - благодать Божия.
Познакомился я и с настоятелем собора, архимандритом Алексием. Это был старец очень высокого роста, с длинной седой бородой, строгим серьезным лицом, но при этом совершенно простой и искренний. Тип св. Василия Великого. Он сразу высказал удивление и огорчение от имени греков, видевших, что православный архиерей живет у врагов православия - католиков. Я объяснил ему, что мне, после опасной перенесенной болезни кишок, нужна особенно нежная диета, и католики предоставили ее мне. А вот греки не проявили ни к одному из архиереев внимания и никого не устроили.
Он не мог спорить, но все же оставался при своем убеждении, что я совершаю измену православию.
- А как же вы, греки, дружите с англиканами, хотя они протестанты и дальше по вере от нас, православных?
- О-о! - с радостным лицом возразил он. - Англикане совсем иное дело, они наши крепкие друзья.
Напрасно было спорить о различии во многих пунктах веры и духовной жизни между англичанами и нами: у греков давно утвердилась взаимная симпатия с ними. Я и не спорил. Но от этого высокого архимандрита я вынес, несмотря на его строгость, прекрасное впечатление, как от столпа православия, молитвенника и духовного подвижника. Отрадное впечатление вынес я от веры и молитв мирян: сердечно молятся (дай Бог и нам всем так молиться). И, уезжая из Константинополя, я увез несомненное впечатление: греки как народ твердо хранят святую православную веру, но от высших их представителей мне хотелось бы видеть больше любви и сердечности, однако и они держатся за православие без колебания. У них почти нет переходов в католицизм или в секты. Слава Богу! А это самое главное.
Из русских, как я уже говорил, католики уловили очень немного жертв. Между прочим, в этом монастыре я нашел двух молодых людей, соблазненных ими: один, Н-в, был сыном правого члена Думы от Саратова; другой, Л-в, был увлекающимся сентиментальным юношей. Оба они старались оправдать себя передо мною, но это им не удавалось, а я не настаивал. После Н-в ушел от католиков в масоны, но, кажется, разочаровался и в них. А Л-в вел переписку со мной из Бельгии, тоже разочарованный. Концы их не знаю.
И еще нужно вспомнить мысли самих католиков о прозелитизме у русских (среди других народов). Для упражнения во французском языке граф-иезуит, между прочим, принес мне календарь-ежегодник страниц до 700, издаваемый в Париже под редакцией ученого архиерея Бодрий-яра. Там, среди огромного материала, встретил много интересного: что католики смотрели на нас, православных, как на раскольников, что на всех отступников от католицизма наложена соборная анафема. Кто не признает, что апостол Петр был князь апостолов, а не первый среди равных, тому анафема! Кто не верит, что папа - наместник Христа на земле, анафема! Кто не признает непогрешимости его, анафема! И т. д.
Когда я показал эти определения о. иезуиту Т., он даже смутился. Видимо, сам не знал всех деталей календаря или забыл о них. "Ну, скажите: какое же тут может быть единение, если мы все под вашей анафемой!"
Ему трудно было оправдаться.
Но зато в том же календаре признавалось, что по строгости аскетической жизни православные выше католиков. Но тут же бросается нам упрек, что хвалиться этим - фарисейство.
Сами же они действительно большие виртуозы в изобретении всякого рода компромиссов. Например, путешествующий перед затруднением; можно ли есть мясо, когда на пароходах не подают иной пищи? По-православному, не обратили бы особого внимания на эту мелочь. Ну, уж если согрешил этим, то покайся на исповеди: не хра-нил-де постов. Но у католиков все должно быть дисциплинированно, аргументированно, разрешено официально, чтобы совесть уже не мучила. И вот вопрос отправляется на обсуждение в какой-то отдел папской консистории в Риме. Оттуда дается ответ, приблизительно такой: "Хотя посты надлежало бы хранить, по крайней мере, монахам и монахиням, но, принимая во внимание то и то... дозволяется при путешествии есть и мясо". И совесть католиков уже теперь спокойна...
Интересны сведения о пропаганде католицизма. Всего католиков по миру официально что-то около 350 миллионов, больше, чем иных исповеданий. Но их беспокоит более прогрессивный рост протестантов, которых теперь уже тоже около 300 миллионов. А что же касается православных славян, в частности, русских, то они не отличаются усердием в деле обращения других в свою веру. Но зато, говорится в календаре, у русских есть два опасных свойства; первое то, что они умеют обращать в свою веру народы там, где ступала их нога, без особой миссионерской пропаганды, а влиянием духа своего; второе же то, что их бабы роятся, как пчелы, и православие множится быстро через естественный прирост.
Понятно поэтому, что католики ревниво борются против всякого расширения русских территорий: будь это при царях или при советской власти. Об этом мы еще раз услышим из книги одного бывшего итальянского министра, напечатанной в Америке.
Вспоминая все это, я могу сказать, что католики суть христиане, верные папизму, но довольно холодные, тепла от них я не видел. После, во Франции, история подтвердит это мое впечатление еще больше.
В заключение поделюсь впечатлением от посещения Айя-Софии, этого чудного памятника византийского церковного творчества, теперь мусульманской мечети. Не буду говорить о величии, роскоши, красоте, свете этого храма. Но вот что остановило мое внимание при входе в самый храм. У задней стены его, на циновке, по мусульманскому обычаю, без обуви сидел на корточках какой-то турок и, медленно раскачиваясь телом, молился, закрыв очи и не обращая ни малейшего внимания на любопытствующих посетителей храма. И вдруг мне пришла мысль: почему Господь позволил отнять такую святыню от православных и отдать ее "нехристям"?
Неужели греки духовно ослабели за 15 веков христианства настолько, что им нужна была катастрофа для дальнейшего сохранения православия? Вот этот турок сидит, качается и молится по-своему, а ведь, пожалуй, сейчас во всем великом городе не найдешь грека, так смиренно молящегося где-нибудь в храме. Все они заняты "делами", а о Боге вспоминают лишь по праздникам. О русских беженцах и говорить не стоит! Даже немыслимо представить кого-либо из нас, архиереев ли, генералов ли, солдат, казаков, интеллигентов, вот так публично и сосредоточенно молящихся. Не терпим ли мы, и греки, и русские, наказание Божие за то, что продаем свое первородство христианской истины за чечевичную похлебку материальной привязанности, как прочие неверующие?
Христианство прекрасно, высоко, но не плохими ли мы стали христианами в мире? И вспоминается мне, как в России свои родные, русские братья - большевики, оскверняли наши православные святыни: закрывали храмы, обращали их в клубы, иногда разрушали, как великолепный московский собор Христа Спасителя, вскрывали мощи, свозили их в музеи, ставили наряду с ними мумии и окаменевших крыс. За что? Для чего? За-
служили, видно, мы это. А может быть, через эти катастрофы и кощунства Господь хочет возвратить и нас, и самих безбожников к вере? Ведь допустил же Отец, чтобы евреи распяли Его Сына, а потом поклонились Ему.
Не знаю судеб Божиих. Но перед глазами налицо очевидный факт: государство греческое пало, Айя-София в плену у иноверных, но вера у греков тверда. И это вот уже без десяти годов 500 лет, а если считать с первых нашествий магометан, то будет уже почти втрое больше. Но греки живут, а туречество разваливается. Что-то будет с нашей Русью дальше... Еще не ясно, не ясно...
Но поедем с читателем дальше по Ближнему Востоку - в Болгарию.
Для "делания белой политики" мы, бывшие члены "русского совета", должны были разъехаться по разным странам. Мне и одному инженеру, симпатичному интеллигентному семьянину, назначена была Болгария. Туда я и отправился. Но перед этим посетил Греческого патриарха Мелетия (до этого жившего в Афинах) и спросил его: "Что я мог бы передать болгарскому Синоду от Греческой Патриархии по поводу шестидесятилетней распри между ними?" С шестидесятых годов эти две нации разорвали церковное общение, причины к тому были национально-политические. В частности, болгары посягали на владение Константинополем и имели своего болгарского экзарха там. В настоящее время это место было вакантным. Греки осудили болгар и порвали с ними. Но Русская Церковь не признала этого акта и продолжала иметь общение и с болгарами, и с греками. Патриарх Мелетий в мирном тоне сообщил мне, что и Греческая Церковь желает мира, при этом он указал минимум своих условий.
Приехав в столицу Болгарии, в г. Софию, я на заседании их Синода сообщил о своей беседе с патриархом. Архиереи выслушали меня, поблагодарили, и тем все кончилось.
Что сказать вообще об этой стране? Внешне будто все близко и похоже на Россию, включительно до военной формы. Но народные массы оставили -во мне впечатление довольно диких племен. Достаточно, например, послушать их ожесточенные споры в вагонах на политические темы: Боже, какой это кошмарный кавардак! Тогда у них было целых 18 партий на 7 миллионов народа. И каждый болгарин непременно орал, доказывая преимущество своей партии перед другими семнадцатью.
В вагоне стоял шум, как в пьяном кабаке.
Европейская конституция туго переваривалась в болгарской, недавно еще рабской, голове, но они не хотели отставать от культурных стран в своей политической кухне. Главной партией тогда
была Земледельческая, социалистическая. Не знаю уж, в каком именно виде социализм. Во главе ее стоял бывший сельский учитель Стамболийский. Он отрицательно смотрел на белых, живших в Болгарии, и одно время грозило даже военное столкновение между ними. Но потом Стамболийский был убит и совершился один из многочисленных военных переворотов. Мне казалось, что болгарам это даже нравилось как особый вид политической игры: подпольные организации, заговоры, покушения, убийства, уличные демонстрации, вооруженная борьба, уличная стрельба, свержение министерств, победа партии №11, потом опять сначала.
Неспокойный и ненадежный народ. Нерадостно было жить у них. Царь Борис - загадочный и хитрый человек. Немец по происхождению, он, конечно, тянулся к Германии и был противником Советской России, но едва ли он был и другом царского режима. Дворец его был в центре города, но обнесен высокой стеной, точно это был не отец своего народа (да и какой же он был родственник славянам?), а завоеватель, постоянно боявшийся своих подданных.
Была ли любовь к России у народных масс? Откровенно скажу, не чувствовал я ее ни в чем. Буквально не могу припомнить ни одного отрадного факта в этом смысле. Единственным исключением. пожалуй, можно назвать митрополита Софийского Стефана. В Первую мировую войну, когда болгары оказались на стороне немцев, он убежал в Швейцарию, не желая участвовать в борьбе против России, освободительнице от турок.
Есть основания предполагать, что и в эту войну он не на стороне оккупантов, немцев, почему и подвергается каким-то притеснениям.
Но вообще болгарский народ неуравновешенный, и не неожиданно, что он уже дважды стоял против России на стороне немцев. Пусть это делается не вполне добровольно, под угрозой насилия, но ведь и сербы были в подобном же положении, однако же сохранили верность "Майке Руссии".
Однажды, в 1942 году, в г. Монреале, в Канаде, мне пришлось встретиться с видным и опытным болгарским политическим деятелем Костой (Константином) Тодоровым. Он старался оправдать болгарский народ, противопоставляя ему царя Бориса и прогитлеровскую клику его. Будто бы десятки тысяч верных России болгар томятся в концентрационных лагерях, многие за это даже убиты и т. д. Но я не особенно верил этому, что и высказал. Бывший тут собеседник, болгарский евангелический проповедник К., согласился скорее со мной, чем со своим соотечественником.
Кажется мне, что болгарский народ нуждается не столько в раздельной конституции, сколько еще в сильном контроле над ним.
Впрочем, не забудем и того, что Болгария, вопреки фактическому господству в ней всесильных там немцев, доселе не объявила войны России, как это сделали католические страны Венгрия и Словакия и православная Румыния. Очевидно, царь Борис боится восстания своего народа, если не может сделать того, что, несомненно, хотел бы как немец. Может быть, и болгарское правительство не верило в победу Гитлера в борьбе против России, Англии, Америки и других союзников? Вероятно, обе причины сливаются воедино. Недаром же в Крыму хвалился мне болгарский офицер: "Мы реальные политики..." Больше мне и сказать нечего о Болгарии.
Несравненно лучшее впечатление произвела на меня Югославия, точнее, часть ее - Сербия и сербы, потому что словенцев и хорватов я мало наблюдал.
Сербы - народ геройский и прямой. После родной России и Карпатской Руси я любил и люблю больше всех народов Сербию. Народ честный, трудолюбивый, терпеливый, выносливый, мужественный. Россию они любили искренно и сердечно. Я говорю это прежде всего о народных массах. Но и духовенство, особенно сельское, не тронутое Европой, прекрасно относилось к нам.
Потому в пору беженства нигде не оказали нам столько приюта, как в Сербии. Главная масса Белой армии перекочевала сначала туда. Устроены были разные школы для молодежи и детей. Архиереям предоставлены роскошные, по беженскому масштабу, условия жизни в богатых монастырях. Многим знатным выходцам, и в частности эрхи-ереям, выдавалась ежемесячная субсидия (архиереям по 500 динар), поддерживали наших писателей. Дали работу и военным. Профессоров приняли в высшие учебные заведения. Молодежь со средним образованием принимали в университеты. Дали права торговли желающим. Для руководства русскими организациями создана была особая "державная комиссия" с русскими чиновниками в ней.
Патриархия в Сремских Карловцах приютила митрополита Антония с Синодом и канцелярией. Разрешила управлять русскими церквями по всей стране, сама не вмешивалась в наши дела. И наконец, содействовала устройству нашего Всезагра-ничного Церковного собора в Карловцах осенью 1921 года.
И все это делалось не потому, что мы были белые, а просто потому, что мы русские. Правда, главные руководители русской эмиграции оказались там из крайне-правого лагеря, но это уже свойство антисоветской политической и военной психологии белых, а не давление сербов и даже их правительства. Конечно, король Александр не сочувствовал коммунизму, но и не боролся с Советским Союзом, а лишь долго воздерживался от признания его. Почему? Слишком многим обязана была Сербия царскому правительству в прошлом, освобождением от турок, а особенно защитой ее от немцев после известного убийства в Сараеве австрийского престолонаследника Фердинанда.
В сущности, Россия положила себя на жертвенник прежде всего ради сербов. И царь Николай II искренне был готов защищать их. Поэтому не случайно, что в одном из храмов Южной Сербии бывший русский император изображен в виде мученика, со святым ореолом во главе его.
Конечно, связывала оба правительственных режима и одна форма правления - монархическая. Только в Сербии она была несравненно более демократическая. Тут всякий серб мог смело протягивать руку своему королю, любовно называя его на "ты".
Связывало даже и родство правящих домов. Сестра короля Елена была замужем за одним из сыновей великого князя Константина Константиновича. Сам Александр получил воспитание в русской школе.
Многие сербы учились в наших академиях. Будущий патриарх Варнава (уже умерший) был лишь курсом старше меня в Петербургской Духовной академии.
Все это связывало оба народа.
Но особенно близкими считали нас, русских, в народных массах. Оба народа - глубоко демократичны.
В храм сербы ходили редко: на Пасху (Ускрс), на Рождество (Божие) да на свою "славу" (это - ежегодное воспоминание дня, когда их предки принимали христианство тысячу лет назад). Но они дорожат своим православием крепче, чем болгары, и не слабее греков, своеобразно. Вот такова общая характеристика этого славного народа.
Теперь мне нужно рассказать о главном событии эмигрантской жизни, случившемся в Сербии, на Карловацком Церковном соборе 1921 года, который имел большое значение не только для судеб эмиграции за границей, но даже для жизни Церкви в Советском Союзе. И доселе влияние этого акта все еще продолжается как в Европе, так и в других странах: Америке, Азии - по всей эмиграции.
Я напишу здесь о его общественно-церковном значении, а о чисто церковной стороне можно узнать из протоколов этого собора. Цель собора была церковная. Но политические деятели эмиграции превратили его в партийный съезд. Случилось это так.
Правые группы по всей Европе, руководимые центром из Германии, где работали такие крайние люди, как члены Думы Марков-второй, Крупенский и др., привели на собор своих партийцев. Впрочем, это и нетрудно было, так как эмиграция вообще была правая. А левые или даже умеренные группы, как кадеты, не интересовались церковными делами вообще или же не надеялись провести своих кандидатов. Таким образом, большинство мирян оказались из лагеря правых, или так называемых черносотенцев. Кроме названных лиц, можно упомянуть следующие имена: Трепов, бывший премьер-министр; граф Апраксин, бывший таврический губернатор, а потом член Московского собора; проф. Локоть; генерал Батюшин (из жандармов) и др. Архиереи сначала были умеренными, но под давлением большинства повернули потом в их сторону. А такой вождь, как митрополит Антоний, и сам был единодушен с ними.
Духовенство среднее было в большинстве весьма благоразумно. Учитывая это, я еще на константинопольском собрании провел интересное, по моему мнению, предложение: выделить духовенство в особую группу. По наказу Московского Церковного собора работа Карловацкого собора делилась на два этапа: сначала вопросы решались общим голосованием епископов, духовенства и мирян. А потом всякое решение проходило еще через "совещание епископов" и, в случае согласия их, вступало уже в силу.
Таким образом, среднее духовенство выбрасывалось в среду мирян, между тем по догматическому и каноническому смыслу оно, наоборот, является сотрудниками и руками архиереев, потому ему надлежало бы быть с ними вместе. Но помимо этого история собрания в Константинополе показала, что священники в общем были более церковны и благоразумны, чем мирские люди, нередко запутанные в политические страсти. То же самое оказалось и в Карловцах.
Ввиду всего этого, чтобы смягчить удар правых политиканов на соборе, мы в Константинополе и провели такой порядок дела: сначала голосуют все вместе, но потом всякое решение поступает на обсуждение духовенства и уже с его мнением представляется на окончательное решение "совещания епископов". Такой проект на заседании Архиерейского Синода в Карловцах был вполне одобрен всеми епископами, включая и митрополита Антония, и передан на собор.
Когда же он был предложен там, то против него поднялись правые делегаты. Начал критику граф Апраксин. Он стал в позицию защитника
Московского собора, как ни в чем не подлежащего дополнениям или изменениям. Между тем самим собором этим было постановлено, что епархиальные собрания могут вносить новые предложения на обсуждение будущего собора, да и по самому существу дела могли всегда возникать новые вопросы и дополнения.
Конечно, правые понимали это, и один из их партии. Н. Т., даже дерзнул заикнуться о резонности такого проекта. Но на него свои зацыкали так, что он, не успев еще разогнуть своей спины по окончании речи, трусливо сел. Тут я уже ясно увидел, какое организованное насилие творят правые не только над своими членами, но и над своим собором.
Но. конечно, не по каноническим соображениям Апраксин был адвокатом Московского собора, а по простым политическим мотивам: правые большинством подавили бы духовенство, но, имея право особого мнения, оно своим голосом могло бы для "совещания епископов" быть опорой в случае, если бы политиканы слишком зарвались. Увы! Архиереи, прежде единодушно одобрившие этот проект, быстро изменили свое решение и пошли на поводу у правых.
Другой факт. В числе членов собора оказался бывший председатель Государственной думы Родзянко. Он вел себя очень скромно и сдержанно. Но те же правые делегаты подняли против него неистовую агитацию, как будто против главного виновника всей революции. Я выступил с речью в его защиту, но это не помогло. И митрополит Антоний, после личной беседы с Родзянко, заявил собору, что тот добровольно, ради мира, слагает свои полномочия и уходит. Так предал председатель собора члена, ничем не опороченного церковно. В этом опять проявилось засилие и насилие правых.
Такое же засилие проявилось еще и перед заседаниями собора. Правые сразу же подняли вопрос: служить ли панихиду по убитым царю и его семье. Это совершенно не входило в обязанности церковного собрания, не было предусмотрено наказом наших епископов, не требовалось самими архиереями и духовенством и было исключительно политической демонстрацией правых. И увы! Опять архиереи пошли на уступки и отправились в патриарший собор на служение. Я возмутился (и сейчас возмущаюсь) таким насилием и даже, в сущности, кощунственным использованием святой молитвы для политических целей и отказался идти на панихиду.
Да, думаю, и сейчас эмигранты винят большевиков в давлении на Церковь, но если бы правые политики получили в свои руки власть, то они командовали бы ею без зазрения совести.
На дальнейших заседаниях собора они систематически и диктаторски проводили свои монархические идеи. Правда, большинство соборян были еще монархистами, но мы не хотели из собора делать политическое собрание. Однако правые продолжали давить, в первую очередь поставив вопрос о монархии, и непременно о династии Романовых. На этот последний пункт они особенно напирали. Напрасно более умеренные члены старались отвести вопрос, который мог бы расколоть наш собор, те большинством задавили и провели все свои, заранее ими предрешенные на частных собраниях, пункты.
Некоторые из нашей умеренной стороны объясняли, что такое поведение наше за границей может угрожать Церкви в России, Правые были неумолимы: мы-де за них здесь должны говорить правду.
Так, под знаком политического насилия правых и прошел весь собор. Меньшинство, а из среднего духовенства большинство, подчинялось.
И только один из нас, русский профессор физики во Франкфуртском университете Февицкий, прекрасный христианин и настоящий ученый (после, в 1925-1926 годах, испанское правительство вызывало его в Барселону организовать физический факультет в университете, оттуда проездом он посетил меня в Париже
и говорил на тему необычной сжимаемости материи), не вынес этого насилия и подал просьбу о сложении своих полномочий. Но, конечно, председатель митрополит Антоний провел этот скандальный факт незаметно. Однако о нем потом узнали даже в Москве. Да будет помянуто добром имя этого человека, честного и достойного! Иногда и я жалел: почему не ушел сразу с этого обманного собрания...
Написали также обращение к генералу Врангелю и Белой армии; это было, естественно, поручено мне. Но правые не любили Врангеля, зная широту его воззрений, и потому провели этот вопрос с еле скрываемым недоброжелательством. А представитель генерала Врангеля, генерал Никольский (кажется, из жандармов), вопреки умеренному направлению своего начальника всецело подчинился захватнической воле правых. За это, как я слышал после, он получил выговор от Врангеля.
Видя во мне противника, вождь правых Марков-второй, Локоть и кто-то третий посетили меня специально, пытаясь привлечь на свою сторону. Разговор вели о монархии, я что-то возражал им спокойно, потом спросил их:
- Но ведь наследственный государь может оказаться и малоспособным?
- Да разве он будет править? Мы за ним будем стоять!
Я удивился такой политической развязности, а лучше сказать - наглости.
- Как?! Монархисты, вы можете такие вещи говорить про монархов?
Но им ничуть не было стыдно. И я еще больше оттолкнулся от них: какое лицемерие! Конечно, во всех постановлениях собора сквозила идея борьбы против большевиков.
Из политических вопросов затронули и социализм. На этом особенно настаивал я, наученый горьким опытом "белого движения". Но, к моему удивлению, эти политики совершенно не интересовались таким общим и важнейшим идеологическим вопросом исторического момента. И даже доселе не могу понять этого их равнодушия, хотя тот же проф. Локоть - раньше или после - выпустил брошюру под заглавием "Завоевание революции". Наскоро состряпали все же маленькую комиссию, и я предложил на собрании 7 или 8 пунктов против социализма. Они без интереса и обсуждения были приняты собором и напечатаны в протоколах. Насколько помню сейчас (все пишу по памяти, без документов), наши возражения против социализма покоились не на социально-экономической несостоятельности его, а на психологической трудности для эгоистического человечества провести его в жизнь, так как этим отнимается собственнический интерес, этот двигатель человеческой энергии. Но, разумеется, говорилось и о материалистической базе, и антирелигиозности его, и, кажется, уничтожении семьи... Уж не помню всего теперь.
Что касается чисто церковных наставлений, то в первую очередь было торжественно определено, что собор всецело подчиняется патриарху Тихону и ему будут направлены на утверждение постановления нашего собора. Но это потом оказалось великою ложью! "Карловчане" (так стали звать последователей этого собора и приверженцев митрополита Антония и Карловацкого Синода) в следующем же году пошли открыто против Патриарха, о чем будет написано дальше.
Устроили Высшее Церковное Управление за границей, с участием никогда не приезжавшего на собрания из далеких Афин протоиерея Крахмалева и генерала Батюшина - человека с жестким диктаторским нравом.
Постановлено было написать несколько посланий общеморального характера, и, между прочим, против свободной жизни эмигрантских женщин (а разве мужчины были чище?), но особенно важно, хотя и без конкретных последствий, было то, что от имени собора митрополит Антоний разослал послания правительствам разных стран о советском правительстве, прося бороться против него.
Перед окончанием по предложению члена собора Н-ва мне, как главному инициатору и организатору собора, пропели многолетие... Но я глубоко раскаивался, что создавал его... Конечно, самая идея была совершенно правильна и необходима, но ее испортили политические страсти людей. Государственное засилие, которым грешила власть в России, перебросилось теперь на политиков и за границу... Нелегко выветривается историческое наследие... Невольно задумываешься: не было ли благим делом Промысла, что все эти "бывшие люди" удалились за границу и оставили Церковь на ее свободу и самостоятельность. Думаю, так! И есть одно конкретное основание к этому. Одному архиерею, архиепископу Т-му Г-му, удалось говорить с патриархом Тихоном, и в беседе с ним патриарх высказал такую мысль: "Еще следует думать да думать: нужно ли восстановление монархии?"
Может быть, он в другой форме выразился: полезна ли для Церкви была монархия? Теперь уж не помню точно - прошло 22 года. Но суть та же. Эти слова дошли до заграницы, и я их повторил в своей проповеди в церкви русской колонии в городе Земуне, против Белграда. Присутствовавший тогда на службе генерал Батюшин тотчас же донес на меня митрополит}' Антонию, и мне предложено было "впредь не касаться политических вопросов в проповедях". Весь собор был политическим, это было можно... Но факт остается фактом: если уж патриарх, да при таком режиме, как советская безрелигиозная власть, нашел возможным выразиться так о монархии, то, значит, не особенно жалел об уходе прошлого. А он ли не знал тогда настоящего?
Политические отзвуки этого собора загремели далеко. В России советская власть усмотрела, и совершенно верно, в таком поведении Карловацкого собора борьбу против нее, и начались притеснения. И патриарх, и другие архиереи возмущались действиями этого собора. Об этом написано в книге проф. русской истории Казанского университета Стратонова "Церковная смута" на основании его собственных впечатлений, наблюдений и бесед с архиереями о России в это время.
Но гораздо большее значение этот собор имел за границей. Интересная подробность. Когда мы, архиереи, обсуждали на заседании Карловацкого Синода наше константинопольское предложение об именовании "собор", то митрополит Антоний не хотел принимать этого, а рекомендовал назвать лишь "собрание". Но, когда дело благодаря правым делегатам повернулось в пользу монархических идей, тот же митрополит Антоний желал, чтобы этому собранию присвоить имя "собор" (да еще "заграничный"), а своему имени
прибавить значительности. Он оказал влияние на все центры русского рассеяния: на Европу, на Азию (Китай, Япония), на обе Америки. Везде взяли верх в конце концов карловчане, то есть группа митрополита Антония. Сначала еще боролись против него митрополит Платон в Америке, митрополит Сергий (Тихомиров) в Японии и отчасти Евлогий в Европе, но мало-помалу возобладали карловчане.
Митрополит Сергий, несмотря на то что являлся японским гражданином, был японским правительством удален со своего поста главы Японской Церкви и заменен японцем, рукоположенным русскими архиереями карловацкого толка,
Преемник отколовшегося американского митрополита Платона, митрополит Феофил, добровольно подчинился митрополиту Антонию, а теперь и Анастасию, преемнику его. Кажется, в Европе сдался (не вполне) и митрополит Евлогий.
Причиною этого являются не церковные каноны, а политическая ситуация. Та правая, яркая антисоветская монархическая политика, какую взял Карловацкий собор с 1921 года, отвечала и японской, и немецкой (в Европе), а отчасти американской (а особенно в Южной Америке) ориентации правительств, которые были тоже настроены против Советской России. Отсюда станет понятным, почему карловацкий центр стал и стоит на прогитлеровской позиции, это союзники по общим убеждениям вражды к Союзу - нашей Родине.
К ним теперь (уже года четыре назад) присоединились и американско-русские архиереи ("феофиловцы").
Вот в этом и заключается немалое и зловредное последствие Карловацкого собора 1921 года.
Разумеется, патриарх Тихон не мог оставить без внимания такое вмешательство заграничного собора в жизнь Русской Церкви. Да и советское правительство (насколько помню) само указало ему на антисоветскую деятельность карловчан. И патриарх Тихон в августе следующего, 1922, года прислал за границу указ, осуждающий политическую деятельность заграничной части Русской Церкви. Зная, что во главе этого движения стоит митрополит Антоний, приказывал ему устраниться от дел, а управление европейскими приходами передавал митрополиту Евлогию, который прежде жил в Берлине, а теперь приехал в Париж. Этот архиерей по свойству личного характера всегда отличался способностью к компромиссным мерам, стараясь занимать серединное, "умеренное" положение. Будучи членом Государственной думы, он был правым, но не очень, а где-то между октябристами и националистами. В частных отношениях всегда старался быть любезным, чтобы всем угодить, и т. д. Разумеется, он старался угождать и своей пастве, состоявшей преимущественно из антибольшевистских эмигрантов, но и тут он не становился на сторону крайних партий, а занимал центр "большинства". В беседах со мной он не раз повторял любимую им сентенцию из Ветхого Завета, данную ему каким-то старцем: "Не будь вельми правдив", то есть не будь очень прям в действиях своих. И это отвечало его характеру. Но нужно знать, что он отнюдь не был слабым по природе. Наоборот, при случае он мог быть и властным, и настойчивым, и даже мог давить на других, но только скрывал это, когда то казалось ему выгодным и практичным. Зная это его свойство умеренности, патриарх Тихон и поручил ему управление за границей. Митрополит Антоний, наоборот, отличался резкостью и торопливостью суждений и очень верил в себя, как умнейшего человека, не нуждающегося в советах. Но в действительно иногда поддавался влияниям.
Когда получили этот указ патриарха, то первым движением митрополита Антония было желание исполнить его в точности. Он дал в Париж телеграмму на французском языке; "Волю патриарха нужно исполнить".
Но потом пошли визиты политиков, письма от партий, и он изменил своему естественному и правильному решению. В Карловцах был созван съезд епископов, большинство его стояло на антониевской позиции, только митрополит Евлогий и я оставались на дисциплинарном каноническом повиновении ясному указу патриарха. Но так как мы были в ничтожном меньшинстве (2 против 8 или 9), то ушли с заседания собора, оставаясь при своем мнении. Тогда большинство прислало делегацию с каким-то компромиссным предложением, но с оставлением митрополита Антония и Карловацкого Синода на прежнем месте, только с непременным участием в важных делах и митрополита Евлогия. Последний согласился на это, добавив еще что-то. Я же один остался верным патриаршей воле. Когда делегация ушла, то митрополит Евлогий рассказал мне об отрадном случае, как он, единственный из членов Петербургского Синода запротестовал против незаконного брака великих князей (два брата женились на двух сестрах). И добавил: "И вы всю жизнь будете с удовлетворением вспоминать нынешнюю вашу твердость. А вот я не смог так. - И он виновато, но без всякого мучения совести улыбнулся".
Я же подал митрополиту Антонию письменное заявление с протестом и обещал признавать митрополита Евлогия. Но сей последний написал мне, что он-де просит меня не нарушать мира и т.д.
И с этих пор началась борьба двух заграничных течений: правого и умеренного. В сущности, последнее отличалось от первого лишь степенью, а не в корне: оба были противосоветские и лично-самочинные. Та верность патриарху, о которой было торжественно заявлено на Каловацком соборе, испарилась мгновенно при первом же столкновении двух воль - эмигрантской и российской.
При определении по поводу названного указа изобретена была, однако, иезуитская лицемерная формула:
"Указ патриарха принять, но, учитывая его неосведомленность в заграничных делах (какая дисциплина повиновения!) и невозможность остаться всей Заграничной Церкви без центрального высшего органа, а также несвободу волеизъявления Церкви в России и т. д., и т. д...."
Результат - не послушались патриарха.
Стали архиереи выбирать новый состав Синода. Я, доселе непременный член как епископ армии, которая составляла основную массу заграничных приходов, разумеется, был обойден. За меня подано было лишь два голоса (митрополита Евлогия и архиепископа Анастасия). Утешая меня, они оба выражали сожаление, что нет теперь "оппозиции в Синоде", но я ответил им: "Сейчас за границей время Антония, потом будет ваше, а после вас наступит мое!"
То есть направление жизни за границей сначала было крайне правым, потом будет более умеренным, а кончится моим единством с Матерью-Церковью. Жизнь это оправдала. Пока еще у власти Анастасий, Евлогий и Феофил, но история их закатывается. Современная война быстро подвигает к концу это направление "умеренной борьбы", и мы уже накануне повиновения заграницы общей Патриархии.
Но для изживания карловацкого наследия потребовалось 22 года и жесточайшая война Родины с немцами.
Через некоторое время митрополит Антоний при встрече со мной в карловацком патриаршем саду обратился осторожно с предложением:
- Мы, архиереи, сделали секретное постановление: впредь не принимать приказов патриарха, если они нам покажутся несвободными. Вы согласны с этим?
Я ужасно, в сердце, возмутился такой развязностью митрополита Антония и других архиереев.
- Боже меня сохрани от этого! - ответил я ему.
Такие бунтарские, неканонические предложения делал митрополит Антоний, постоянно ссылавшийся на каноны! Недаром я часто говорил и говорю; эти архиереи в сущности революционеры, только справа. Как монархисты заявили мне, что они будут править монархом, так тут же ужасную самочинность предлагает мне и митрополит Антоний. Не каноны, а своя воля правила ими. И от этого, как учит история, происходили все ереси и расколы в Церкви.
Еще те же архиереи сделали другое секретное решение: поддерживать главенство за границей великого князя Николая Николаевича. Я и от этого отказался. Кажется, они боялись "бонапартизма" Врангеля.
После такого поворота церковных дел я решил уйти от центральных учреждений, оставив за собой обязанности епископа армии, и ушел в сербский монастырь, собрав там до тридцати русских монахов и послушников. Между ними оказался брат Владимир Курганов, с которым мы ехали в одном купе из Крыма. После он был настоятелем монастыря в Пожаревецкой епархии и скончался еще молодым от туберкулеза: в груди его была неизвлеченная пуля, и она привела к этой болезни.
Из значительных событий во время моего пребывания в Сербии нужно еще отметить совершенно неожиданную смерть генерала Врангеля. Из Сербии (он одно время тоже жил в Карловцах) он переехал в Бельгию. Там у него открылась какая-то быстротечная ("миллионная") чахотка легких. В несколько дней он сгорел от нее. Разнеслись слухи, будто его отравили большевики через близких людей - денщика или кого-то еще. Но это совершенная фантазия. Когда тело его привезли на погребение (почему - не знаю) в Белград, я виделся с женой его, Ольгой Михайловной, и она лично заявила мне. что муж ее умер от болезни.
Смерть его произвела на меня очень сильное впечатление, точно что-то рухнуло за границей. А бывший ближайший сотрудник и друг, генерал "Паша" Шатилов по этому поводу произнес глубокую по смыслу и верную фразу: "Умерла душа Белой армии".
Да, можно сказать, что с Врангелем умерло "белое дело". Генерал Деникин хотя жил во Франции, но был точно забыт. Еще при жизни Врангеля возглавление всего дела борьбы было по настоянию все тех же правых передано Николаю Николаевичу. Но это не принесло ни малейшей пользы несмотря на титул и династию Романовых. И когда он скончался (после Врангеля), то это было принято эмиграцией тоже прохладно. Тело его похоронено было в подвальном этаже русского храма в г. Канны, на берегу Ривьеры. Также не произвела впечатления и смерть старицы матери-царицы Марии Федоровны.
Мне приходилось слышать, что мать все еще не верила в смерть царя и его семьи, хотя и не имела особых оснований к тому, кроме слухов и легенд. Конечно, всякой матери болезненна смерть сына или внуков... Жила она в стороне от политической борьбы, в родном датском королевском доме. У нее была домовая православная церковь и духовник-священник (последний - прот. о. Л.Колчев). Тихо закончила она в глубокой старости свои дни. Много горя видела. Царство ей Небесное!
Кстати, упомяну уже и о других членах династии Романовых, которых пришлось видеть или от других слышать.
Сестра государя Ксения Александровна однажды посетила годичный акт нашего Парижского Богословского института. Еще не старая, с очень приятным мягким выражением лица и даже с застенчивостью, она слушала отчет и философский скучнейший доклад (все о его "Софии") проф. С.Н.Булгакова. И ей ужасно хотелось дремать, так что она с необыкновенным усилием сдерживала свои веки, чтобы не закрылись, а иногда прикрывала рот от зевоты. Хорошее скромное впечатление осталось от нее. Вероятно, она со всем примирилась, не верила и в жизнь брата своего. Говорят, что и личный, и семейный крест свой она несла смиренно.
Простое же и скромное впечатление производил князь Гавриил Константинович. Очень высокий ростом, как все Константиновичи, некрасивый, но с добрым лицом, он пользовался симпатиями и ничем не проявлял своего династического происхождения. Был очень прост. Усердный богомолец, он посещал храм, где был митрополит Евлогий. Но сестра его жены, бывшей балерины, весьма симпатичная женщина (тоже, кажется, бывшая балерина, по мужу Ч.) посещала нашу патриаршую церковь в Париже. Отсюда можно сделать предположение, что и родственник ее - князь - не был против лояльного направления Матери-Церкви.
Еще мне пришлось познакомиться с князем Андреем Владимировичем и его женой, бывшей балериной Кшесинской, а потом и с сыном их. И они были просты и тоже не величались династией. Она занималась балетным преподаванием и выглядела значительно моложе своих лет.
Был однажды с архиепископом Владимиром у княгини Милицы Николаевны, жены Петра Николаевича, дочери князя Николая Черногорского. Она очень пополнела и угощала нас чаем, была весьма тактична и сдержанна. Я неумело напомнил о ее бывшем духовнике, архимандрите Феофане, имя которого было связано с Гр. Распутиным и первым его знакомством с династией именно через Милицу Николаевну. Но она дала мне понять, что ей нежелательно трогать старые больные раны.
Слышал и знал о переписке княгини Ольги Александровны с Н. Н. Эта будто верила в жизнь бывшего царя. Была талантливой акварельной художницей.
Еще слышал о княгине Татьяне Константиновне, сестре Гавриила. Она жила с детьми в Швейцарии и занималась фермой; доила коров, разводила огород, вела свое хозяйство одна, без прислуги. Однажды посетил ее митрополит Евлогий. Он рассказал, что после обеда маленькие дети ее начали чисто вылизывать тарелки. Удивленный, он спросил: зачем они делают это? "Мамочке будет потом легче мыть посуду", - просто объяснили они.
Доходили слухи и о князе Кирилле Владимировиче, который сначала объявил себя, как старший в роде Романовых, блюстителем императорского дома и кандидатом на русский престол, а впоследствии заявил и о своем императорстве. Но это произвело среди массы эмиграции впечатление пустого выстрела. Не только в России, но даже и среди заграницы никто этим не загорелся. Даже Карловацкий Синод не осмелился стать открыто на его сторону, продолжая считать его лишь великим князем. Но защитникам его императорства не запрещалось служить молебны о нем как императоре. За него целиком стала младоросская партия. Правые не очень любили князя Кирилла, вспоминая тот факт, когда он во главе морского экипажа с красным знаменем и бантом приветствовал революционную Думу.
Вся эта история с императорством более походила на пробную попытку бросить идею в Россию в надежде на ненависть в народе к советской власти. И политика эта потерпела жестокое крушение. Ясно было, что в России не думают о восстановлении монархии вообще и династии Романовых в частности.
Пришлось еще видеть дочь Кирилла, Киру Кирилловну, в Париже, где она была крестной матерью, а я крестил ребенка. Впечатление осталось не в ее пользу, было жалко ее. После она вышла замуж за одного из Гогенцоллернов, внука императора Вильгельма II. Говорят, будто перед этим их родные запросили Гитлера: хорошо ли, что состоится этот брак? Он одобрил. Слухи шли о том, что ему нужна была немецкая фигура, женатая на русской принцессе, как кандидат на русский престол после покорения России немцами. Все это более занятно, чем серьезно.
История теперь так не делается. Нужно заработать свое положение, а не ждать его на золотом блюдце. К сожалению, за это время революции не
выдвинулось ни одного сильного имени из династии Романовых: будто бы иссякла в них трехсотлетняя сила. И напрасно надеялись некоторые эмигранты на имена: есть Всеволод - ему владеть; есть Тихон - (названный в честь св. Тихона) - на нем покоятся надежды. Но сами Романовы, кажется, гораздо скромнее о себе думают, чем другие о них. Это - честь им!
И теперешний хранитель династии Романовых, сын Кирилла, Владимир Кириллович, смотрит на будущее без фантазии и нашел лучшим пойти рабочим на английский завод, чем играть Б императорство. Писали в газетах, будто Гитлер предлагал ему примкнуть к борьбе против большевиков, но Владимир, к чести и уму его, решительно отказался, как и огромное большинство русской, прежде антисоветской, эмиграции. Родители его оба умерли...
Заканчивая обозрение сербского периода, я упомяну об одном общественном наблюдении. Как сказано выше, после бунта архиереев против патриарха Тихона я ушел в монастырь. В наше распоряжение было дано огромное имение: около 800 гектаров леса, 150 полевой земли, 10 десятин садов, виноградник, скотина, птица и проч., всего около 1000 десятин. И я неожиданно сделался "богатым человеком", хотя и не собственником. О, сколько я намучился с этим имуществом и людьми! Скажу, что более тяжелого периода жизни я не имел ни до, ни после. Самую последнюю бедность мне приходилось переносить легче, чем владение этим богатством. Сколько забот, хлопот, столкновений, мук. То околевают свиньи, то заболел породистый телок, то бесчисленные крысы уничтожили цыплят и гусят, то сгнивает зерно, то крадут яблоки, но, главное, воруют и воруют лес. Два лесных сторожа из русских интеллигентов охраняли его с ружьями. Но где же укараулить 800 десятин! А если поймают воров, еще хуже мне. Я знаю, что у бедных селяков своего леса нет, а как жить без него? Правда. мы им сдавали его на льготных условиях, но все же как удержишься от соблазна? И я делаю им выговоры, кричу на них, подаю (это была моя невольная обязанность, как настоятеля) в суд, а сам тайком прошу судью не строго наказывать. Зарекся я от той поры быть богатым (хотя и не был им). Богатство, его заботы мне показались духовно мучительнее нищеты! И доселе с тяжестью вспоминаю о том времени и не желаю себе богатства: оно отягощает, привязывает к себе, портит души и взаимоотношения людей. И... раздражает бедняков. Тогда и после я видел, что в сердцах селяков-сербов назревает революционный дух отнять у монастырей и других владельцев богатые имения. И сейчас не отказываюсь от этого впечатления. Вероятно, после этой войны будут перемены. К тому же монастыри там безлюдные: один-два монаха, работники, лесники, кухарка и все... И сотни десятин. Ненормально даже и с христианской точки зрения... Об этих монастырях у меня осталась особая рукописная книга: что представляют они из себя... К счастью, я недолго "владел" этим богатством, в 1923 году мне пришлось уехать епископом в Карпатскую Русь. Но это я отнесу уже к разделу "Европа". Еще вспоминаю, как после возвращения из Карпатской Руси опять в Сербию мне пришлось быть законоучителем в двух военных кадетских корпусах: в Донском в г. Билеча, около Черногории, и в Русском в г. Бела Церква, в Банате. В Донском, имени генерала Каледина (который застрелился в начале большевизации Дона), было много лучше. Кадеты-казаки и их преподаватели были проще, демократичнее, цельнее и не играли в реставрацию. Но в Русском корпусе эта сторона была гораздо сильнее, это было труднее переносить... Вечная игра под царский режим... И здесь были люди хорошие, и корпорация учителей хорошая. Но дух "старого режима" тяготел над всеми нами. Однако я уживался со всеми. Храню хорошую память о юношах и детях, особенно много милого осталось в душе от Донского корпуса. Я не ушел бы оттуда, но меня митрополит Евлогий вызвал инспектором в Парижский Богословский институт. Помню, когда автомобиль увозил меня от этих милых юношей, один из них бежал за мною шагов триста, точно ему хотелось удержать меня. А сколько я видел чудных душ на исповеди! Счастливые воспоминания! Но это уже духовного свойства, а не общественного... Вспоминаю еще, как мой отказ служить литургию за самоубийцу генерала Каледина (в училище его имени) спас одного полковника, преподавателя корпуса. Он пришел ко мне и спросил:
- Почему не служили?
Я объяснил ему церковную точку зрения на страшный грех самоубийства и прямое запрещение канонов молиться за самоубийц, за исключением лишь случая удостоверенного ненормального состояния... Он внимательно выслушал и сказал;
- Спасибо. А я хотел ныне покончить с собой самоубийством.
И после мы продолжали работать вместе. Начальник корпуса хотел даже жаловаться на меня митрополиту Антонию за отказ служить по Каледину, но потом, когда я сказал ему: "Жалуйтесь", раздумал.
Провожали меня в Парижский институт очень дружно и учителя, и кадеты. Иначе через два года провожали меня из Русского корпуса в Белой
Церкви, после того как я заявил о своей лояльности к советской власти. Но об этом расскажу в главе о лояльности.
На этом кончаю повесть о Ближнем Востоке. К сожалению, мне не удалось побывать ни в Румынии, ни в Палестине, ни на Афоне. На последний не пускали греки по стародавней боязни конкуренции русских монахов. Турки оказались любезнее к русским, чем свои, православные. Некоторых беженцев-послушников они даже выселили потом.
Но святые подвижники и вообще хорошие монахи не прекращались и в наше время. С двумя из них я буду переписываться по вопросу о лояльности, а третьего, истинно святого, я чтил и чту глубоко. От него у меня остались замечательные письма (которые я переслал потом для напечатания К.Шевичу, в монашестве о. Сергию, человеку из аристократической семьи, весьма прекрасному).
Был в Македонии. Там еще в мое время жили разбойники, почти официально признаваемые, своего рода герои. Был и в Хорватии, и в Словении. Там те же самые сербы по крови и языку. Но за 100 лет католической культуры они значительно стали отличаться по духу от сербов: католицизм превратил их в послушных и мягкотелых рабов, врагов сербов-братьев. Эта рознь не уничтожилась даже и тогда, когда все эти три ветви соединились в одно государство Югославия. Теперь, во время нашествия Гитлера на Балканы, это проявилось открыто: словены, особенно хорваты, оказались в немецком лагере против сербов.
Православная беседа >> Библиотека >> Вениамин (Федченков), митр. 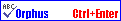
На правах рекламы: