|
|
Шмелев Иван
Свет Разума
РАССКАЗ
С горы далеко видно.
Карабкается кто-то от городка. Постоит у разбитой дачки, у виноградника, нырнет в балку, опять на бугор, опять в балку. Как будто, дьякон... Но зачем он сюда забрался? Не время теперь гулять. Что-нибудь очень важное?.. Остановился, чего-то глядит на море. Зимнее оно, крутит мутью. Над ним — бакланы, как черные узелки на нитке. Чего — махнул рукой. Понятно: пропало все! Мне — понятно.
Живет дьякон внизу, в узенькой улочке, домосед. Служить-то не с кем: месяц, как взяли батюшку, увезли. Сидит — кукурузу грызет с ребятами. Пройдется по улочкам, пошепчется. В улочках-то чего не увидишь! А вот как взошел на горку да огляделся...
Не со святой ли водой ко мне? Недавно Крещение было.
Прошло Рождество, темное. В Крыму оно темное, без снега. Только на Куш-Кае, на высокой горе, блестит: выпал белый и крепкий снег, и белое Рождество там стало — радостная зима, далекая. Розовая — по зорям, синяя — к вечеру, в месяце — лед зеленый. А здесь, на земле, темно: бурый камень да черные деревья.
Славить Христа — кому? Кому петь: “Возсия мирови Свет Разума?..”
Я сижу на горе, с мешком. В мешке у меня дубье. Дубье — голова и мысли.
“Возсия мирови Свет Разума?!.”
А дьякон лезет. На карачках из балки лезет, как бедный зверь. Космы лицо закрыли.
— Го-споди, челове-ка вижу!.. — кричит дьякон. — А я... не знаю, куда деваться, души не стало. Пойду-ка, думаю, прогуляюсь... Бывало, об эту пору сюда взбирались с батюшкой, со святой водой... Ах, люблю я сторону эту вашу... куда ни гля-ди — простор! “И Тебе видети с высоты Востока!..” А я к вам, по душевному делу, собственно... поделиться сомнениями... не для стакана чая. Теперь нигде ни стакана, ни тем паче чаю. Угощу папироской вас, а вы меня беседой?.. Хотите — и тропарек пропою. Теперь во мне все дробит...
Он все такой же: ясный, смешливый даже. Курносый, и глаз прищурен — словно чихнуть обирается. Мужицкий совсем дьякон. И раньше глядел простецки, ходил с рыбаками в море, пивал с дрогалями на базаре, а теперь и за дрогаля признаешь. Лицо корявое, вынуто в щеках резко, стесано топором углами, черняво, темно, с узким-высоким лбом — самое дьяконское, духовное. Батюшка говорил, бывало: “Дегтем от тебя, дьякон, пахнет... ты бы хоть резедой попрыскался!..” Смущался дьякон, оглядывая сапоги, молчал. Семеро ведь детей — на резеду не хватит. И рыбой пахло. И еще пенял батюшка: “Хоть бы ты горло чем смазывал, уж очень ржавый голос-то у тебя!” Голос, правда, был с дребезгом — самый-то ладный, дьячковский голос. Мужицкие сапоги, скребущие, бобриковый халат солдатский, из бывшего лазарета, — полы изгрызены. Нет и духовной шляпы, а рыжая “татарка”. Высок, сухощав и крепок. Но когда угощает папироской, дрожат руки.
— Вот, человека увидал — и рад. Да до чего же я рад-то!.. А уж тропарь я вам спою, на все четыре стороны. Извините, не посетили на Рождество. Сами знаете, какое же нынче Христово Рождество было! О. Алексия бесы в Ялту стащили.
Я теперь уж один ревную, скудоумный... Приеду в храм, облекусь и пою. Свечей нет. Проповедь говорил на слово: “Возсия мирови Свет Разума”, по теме: “И свет во тьме светит, и тьма его не объя!”
— А как, ходят?
— На Рождество полна церковь набилась. Рыбаки пришли, самые отбившиеся, никогда раньше не бывали. Ры-бы мне принесли! Знаете Мишку, от тифа-то которой помирал, — мы тогда его с Михал Павлычем отходили, когда и мой Костюшка болел? Принес корзинку камсы, на амвон поставил и пальцем манит. А я возглашаю на ектеньи! А он мне перебивает: “Отец дьякон, рыбы тебе принес!” Меня эта рыба укрепила, говорил с большим одушевлением! Прямо у меня талант проповеди открылся, себе не верю... При батюшке и не помышлял, а теперь жажду проповеди! Открывается мне вся мудрость. Я им прямо: “Свет во тьме светит, и тьма его не объя!” А они вздыхают. “Вот, — говорю, — некоторый человек, яко евангельский рыбарь, принес мне рыбки. Я, конечно, чуда не совершу, но... насыщайтесь, кто голоден! А душу чем насытим?” Выгреб себе три фунтика, и тут же, с амвона, по десятку раздал. И вышло полное насыщение! И уж три раза приносили, кто — что, и насыщались вдосталь. И духовное было насыщение. Прямо им говорю: “Братики, не угасайте! Будет Свет!” А они мне, тихо: “Ничего, бу-дет!” “Нет у нас свечек, — говорю, — возжем сердца!” И возжгли! Пататраки, грек, принес фунт стеариновых! Вот вам и... “свет во тьме”! И справили Рождество.
Дьякон смазывает себя по носу — снизу вверх — и усмешливо щурит глаза. Нет, он не унывает. У него семеро, но он и ограбленную попадью принял с тремя ребятами, сбился дюжиной в двух каморках, чего-то варит.
— Принял на себя миссию! Пастыря нет — подпасок. А за меня цепляются. Молю Господа и веду. Послали петицию в Ялту, требуем назад пастыря. Все рыбаки и садовники, передовые-то наши, самые социалисты, подмахнули! Тре-буем! Пришел матрос Кубышка с поганого гнезда ихнего, говорит мне: “Ты, дьякон, гляди... как бы в ад тебе не попасть! Наши зудятся, народ ты мутишь на саботаж... рыбаки рыбы нам не дают!” А меня осенило, и показываю в Евангелии, читай: “Блаженни ести, егда... радуйтеся и веселитесь!..” — “Довеселишься!” — говорит. Ну, довеселюсь. Вызвали к Кребсу ихнему. Мальчишка пустоглазый, а кро-ви выпустил!.. Наган-то больше его. Он — Кребс, а я — православный дьякон. Иду, как апостол Павел, без подготовки, памятуя: осенит на суде Господь! Вонзился в меня тот Кребс, плюнул себе на крагу от сердечного озлобления, и: “Арестовать! А-а, народ у меня мутить?!” Ну, что тут пристав покойный, Артемий Осипыч!.. А я ему горчишник, от Евангелия: “Не имаши власти, аще не дано тебе свыше!” Так и перевернуло беса! И вдруг, как из-под земли, делегация от рыбаков, и Кубышка с ними: “Отдай нашего дьякона, нашим именем правишь!” Он им речь, — они ему встречь: “Не перечь!” Отбили... А до вас я вот по какому делу...
Дьякон вынул из глубины халата зеленую бумажку.
— Язва одна возстала! Прикинулся пророком — и мутит. Вот, почитайте... новые христиане объявляются... — сказал он дрогнувшим голосом и смазал нос. — Как это называется?!
“Новый Вертоград...” — читаю я на бумажке, машинкой писано.
— Черто-град!.. Прости, Господи!.. — кричит дьякон. — Такой соблазн! Не баптист, не евангелист, не штундист, а прямо... дух нечист!.. Все отрицает! И в такое-то время, когда все иноверцы ополчились?! Ни церкви, ни икон, ни... воспылания?!. Отними у народа храм — кабак остался! А он, толстопузый, свою веру объявил... мисти-цисти-ческую! В кукиш... прости, Господи! И на евангельской закваске! Первосвященником хочет быть, во славе! И... интелли-гент?!. А?!. Свет разума?!. Объявил свою веру — и мутит! Но я вызвал его на единоборство, как Давид Голиафа. Зане Голиаф он и есть. Восьмипудовый. И вот теперь вышло у меня сомнение. Высших пастырей близко нет, предоставлен скудоумию своему и решил с вами поделиться тревогой!..
Дьякон вскочил, оглянул море, горы: снежную Куш-Каю, дымный и снежный Чатыр-Даг, всплеснул, как дитя, руками:
— Да ведь чую: воистину, Храм Божий! Хвалите Его, небеса и воды! Хвалите, великие рыбы и вси бездны, огонь и град, снег и туман... горы и все холмы... и все кедры, и всякий скот, и свиньи, и черви ползучие!.. Но у нас-то с вами разбег мысли, а мужику надо, на-до!.. — стукнул он себе в грудь. — Я про реформацию учил — все на уме построено! А что на уме построено — рассыплется! Согрей душу! Мужику на глаза икону надо, свечку надо, теплую душу надо... Знаю я мужика, из них вышел, и сам мужик. Тоскливо мне с господами сидеть подолгу, засыпаю. Храм Господень с колоколами надо!.. В сердце колокола играют... А не пустоту. С колоколами я мужика до последнего неба подыму! И я вызвал его на единоборство!
— Кого — его? Ах, да... интеллигента-то?..
— Самого этого езуита, господина Воронова. Ка-кая фамилия! Черный ворон, хоть он и рыжий, с проседью. И вот, послушайте и разрешите сомнение. А вот как было...
Еще в самую революцию, как социалисты-то наши на машинах-то все пылили, а интеллигентки, высуня язык, бегали, уж так-то рады, что светопреставление началось... — ах, что бы я мог порассказать... а вы роман бы какой составили!.. — в самое это время и объявился у нас тот господин Воронов, и даже потомственный дворянин. Из Англеи! В нем всякой закваски есть, от всех поколений. Вы его видали! Вот. И я на его лавочке нарвался. Пудов восьми, бык-быком. А как я на лавочке нарвался... Это после было, как я испытывать его ходил, его “Вертоград Сердца”. Но скажу наперед, ибо потом сразу уж все трагической пойдет. Росту он к сажени, плечи — копна, брюхо на аршин вылезло. Ходит в полосатом халате и в ермолке, с трубкой. Рычит, в глазищах туман и кровь. Открыл он с мадамой лавочку “Дружеское Содействие”. Принимать на комиссию. Всякого добра потащили, и он свои картины повесил для прославления. Денег у него было много, и давай по нужде скупать. Купил я у него, простите за глупость... машинку “примус”, за сорок тысяч. Принес жене, а Катерина Александровна моя так вот ручки сложила: “Ах, ты, дурак-дьякон! Слезами своими, что ли, топить-то ее буду? Керосин-то ты мне достал?!” Хлопнул я себя в лоб: правда! Керосину уж другой год нет, и миллионы стоит! Не догадался. Жалко Катеньку было, как она с ребятами за дубовыми кутюками, как вот и вы, по горам ползала. Пошел назад. Не отдает денег! “А, — говорю, — вы мстите, что я дьякон и борюсь идеальным мечом?” “Нет, — говорит, — я в лавке не проповедаю, и у меня правило на стене. Грамотны?” Читаю объявление в разрисованном веночке из незабудок: “Вынесенная вещь назад не принимается”. Хуже Мюр-Мерилиза! А мне сорок тысяч — неделю жить. “Хорошо, — говорит, — возьмите мылом, два куска. Чистота тела первое условие свободы духа!” “Дайте, — говорю, — один кусок и двадцать тысяч!” “Нет. Кусок и... молоток хотите или — щипчики для сахарку?” А сахарку у нас и в помине нет! Взял его мыло, а оно в первую стирку как завертится, как зашипит, так все в вонючий газ и обратилось! Поплакали, постояли над пузыриками, и пузыри-то улетучились, вот вам по слову совести! А мыло-то, дознано потом было, он сам варил по волшебному рецепту мошенническому. Так мы и прозвали: “Воронье мыло духовное!” Но теперь я обращусь к самому важному и даже трагическому.
В самые первые недели революции было то. Вышел я раз возглашать на ектенье и вижу: стоит у правого крылоса, поджав руки на брюхе, самый он, мурластый, и злокозненно ухмыляется. А после службы подают мне зеленую бумажку, а на ней отпечатано: “Видимая церковь есть капище идолов, а священники и дьякона — жрецы! Придите в Невидимую, ко Мне!” С большой буквы! А внизу, от Иоанна: “Аз есмь истинная лоза виноградная, а Отец Мой — виноградарь”. Не обратили внимания: ну, штундист! Только, слышим, в народе стали говорить, что какая-то новая вера объявляется, а другие — что господин Воронов виноторговлю открывает и заманивает, а у его отца огромные виноградники закуплены, в компании с англичанами. Но все сие было только предтечею горших бед.
Снесся о. настоятель с преосвященным и поехали мы к самому прокурору. Оскорбляют Церковь! А прокурор новый, присяжный поверенный, воров защищал недавно. Мелким бесом рассыпался, чуть под благословение не полез. “Ах, я так уважаю религиозные проявления! Свобода совести для меня высший идеал, в ореоле блеска! Но... с точки зрения философии и политики, не смею пальца поднять на инакомыслие. Он тоже мучается религиозной совестью, а в борьбе огненной идеи рождается светлая истина... Идите с ветвями мира и проповедуйте ваше Евангелие во все концы, слова не скажу. Вейтесь идеальным мечом! И вы должны быть спокойны, так как у вас, кажется, что-то предсказано? “Созижду Церковь Мою... и врата адовы не одолеют во веки веков, аминь!” Переврал! “И теперь мы отделили вашу Церковь от нашего государства, — и до свидания! У меня горы дел, а я еще не завтракал!..”
Еще я тогда, выходя, сказал о. Алексию: “Пустой граммофон, лопнет скоро!” О. Алексий вздохнул: “Претерпим!” А тот, как служба, является со столиком в ограду, разложит листочки, свечку зажжет — и приманивает. Зычно орет: “Совлеките ветхия одежды, прилепитесь к чистоте!” И опять листочки. “Что такое брак в духе?” И написано там... прямо, блуд! Будто Церковь занимается сводничеством!! Припутали Бога в блуд! “Будьте свободны, и пусть только любовь соединяет тела и души”. И опять — от Иоанна: “Бог есть Любовь”.
Собрали мы приходской совет и постановили: претерпеть попущение, но в ограду не допускать. Поставили дрогаля Спиридона Высокого стеречь. Ну, он — ревнитель — и Воронова шугнул, и столик его опрокинул, и дрючком гнал его до самого дома. Тот — в милицию. А я пришел объяснять: борьба у нас идеальная, сам прокурор сказал, а на церковный двор ни за что не пустим. Милицейский начальник почесал нос и отмахнулся: “Хоть проглотите друг дружку, мне не до религии, уходите...”
А тот стал у себя на квартире творить соблазн. Объявил причащение вином бесплатно, все из одной бутылки причащаются, женщины стали к нему в сад бегать. Узнали мы про него. Оказывается, саратовский помещик, с полным высшим образованием, два миллиона уже прожег, три жены у него было, с каким-то немецким пастырем снюхался, и его из Питера выгнали, по протекции... а то быть бы ему в каторжных работах за все святотатства, и кощунства, и уголовное кровосмешение. Долго жил в Англии, и будто там его посвятили в пророки. Называет себя знаменитым художником. А как революция наступила — и прикатил. И, действительно, привез картины симфонические... Как-с?.. Да, символические, странного вида. То на стенке громадное сердце висит, а из него кровь струями, с надписями: “Любовь плоти”, “Любовь плоти” — по струйкам-то... а вверху полыхает золотом, и написано: “Любовь духовная”. То еще два скелета нарисовано, и начертано на этом, понимаете, месте: “Ветхий человек”! А рядом — голые обнимаются, во всех прирожденных формах, даже до соблазна, и написано по грудям: “Новый Адам”! Потом чаша на полотне, в цветочках, и из нее льется пенное, и написано: “Причаститесь Духа”. И еще — дверь написана золотая, с красной печатью, и поперек пущено: “Печать Тайны”! И огромная картина — море, по волнам все столбиками, и будто не волны, а свившиеся человеческие голые фигуры, зеленого цвета, словно духи тьмы, и написано: “Море страстей плотских”, — а над ними желтая рожа светится, как луна.
Стали девушки к нему ходить, “тайну” чтобы узнать. А он им проповедует: .дадим слово жить в духовной любви! Ему женщина, которая с ним приехала, скандалы устраивала, а он ее бил жгутом и поленом. Раз ночью даже в сад в одной сорочке выгнал и орал в окошко: “Совлеки ветхого человека, тогда впущу!” Ну, хуже всякого штундиста. Поняли мы с о. Алексием, что это нам испытание, и обличали по силе возможности. А он грязнейшими клеветами нас. Предложил батюшка ему предстать для словопрения о вере в 4 часа дня в церкви. Отклонил, гадина: “В капище ваше не пойду, а желаете под открытым небом, в моем саду?” В сад к нему не пошли, понятно... в блудилище-то его гнусное! Так все и тянулось. А тут он брешь-то нам и пробил! Тут-то и начинается самая трагедия... дабы воссиял Свет Разума!.. И не знаю, как мне и понимать резюме, что вышло. И вот, метусь...
В оны дни пришел к нам, во храм, старший учитель здешний — и добрый же человек какой, но глу-пый! Иван Иваныч, который регентствовал у нас, и говорит внезапно и прикровенно: “Постиг я весь социализм теперь и отрицаю все, а главное — религию и Церковь! Это же все одна профанация и скелет сгнивший!..” А батюшка ему кротко: “И очень хорошо, одной паршивой овцой меньше в стаде”. “Ну, — говорит, — узнаете овцу!” И перекинулся к Воронову. Стал тоже листки раздавать. А дура-ак!.. Тихий дурак, шестеро детей. Но благоустроился. Приятели ему пообещали учебным комиссаром сделать, на весь уезд, и автомобиль сулили. Стал он прихожан соблазнять. “Вон, — говорят, — и учитель новую веру принял... чего-нибудь тут да есть, ему известно, хороший человек был!” Жена его плакала приходила: “Отговорите его, стал все про духовную любовь говорить и от меня отказывается, велит “ветхую плоть” какую-то совлечь... Я, конечно, уж не молодая, но еще не ветхая...”
А она — гречанка, простая бабочка. “А он, — говорит, — с молодыми девушками в садах спорит насчет духовной какой-то любви, без брака. Помогите по мере сил!” Что с дураком поделаешь! Но не в сем тревога.
Дьякон вынул еще бумажку. Сверху — в медальоне портрет: мурластый, с напухшими глазами, — тупое, бычье. И подписано: “Воронов, глава Духовного Вертограда”. И от Иоанна: “Вы уже очищены... Пребудьте во Мне, и Я в вас”.
— Ну, не идол ли индейский, по роже-то?! — воскликнул с великой скорбью дьякон и щелкнул по портрету. — Всего его и веры. Не понимают, но смущаются. Вечерами на аристоне “куплеты” играет в садике, и с ним девицы. Голодают все, а он лепешки печет, кур жарит, и бутылки не переводятся. С “бесами” в дружбе, они ему ордеры на вино дают. Последил я через забор — чистый султан-паша в гареме! В пестром халате с кисточкой, и поет сладеньким голоском: “Пашечка, сестра Машечка... возродимся духовно, сорвем пелену греха!” И они-то, дурехи, грызут кости курячьи, и воркуют: “Сорвемте, братец по духу, Ларион Валерьяныч... только винца дозвольте!” А он бутылку придерживает и томит: “А что есть грех?” — “Стыд, братец”. — “Верно. Ева познала грех — стыд!” Возмутился я духом и возревновал. А он еще: “Будем причащаться духу!” И я крикнул через забор: “Так у тебя непотребный дом?! На это милиция существует!” И побежал в милицию. А начальник мне, дерзко: “Раз он такой магнит — его счастье!” Как-то во мне все спуталось, докладываю-то не. по порядку...
Как пришли вторые большевики, он в окошко на шесте выставил: “Долой ветхую церковь”, а внизу: “Всех причащаю Любви!” Стал домогаться, чтобы наш храм ему передали, бумагу подал. Совсем, было, подмахнул ему какой-то комиссар Шпиль, адвокатишка бывший, да наши дрогали подошли с дрючками и матроса привели: “Только подмахни, будет тебе не шпиль, а цельное полено!” Их не поймешь. Венчался у нас чекист Губил — помните, с кулак у него на шее дуля! — всем образам рублевые свечи ставил и велел полное освещение!
И вот, уехали с Врангелем. А тот все пережил, такой гладкий. И домогается! О. Алексия другой месяц в Ялте томят, чуть не расстреляли. Ну, я за него и принял бремя. Ничего не страшусь. Что страх человеческий! Душу не расстреляешь. И схватился с тем хулителем веры в последний бой!.. На Рождество проповедь сказал. Плакали. И Писание не так знаю, и в риторике слаб, и в гомилетике, но на волю Божию положился. Начну про хозяйство — а потом и сведется к Господу! Говорю: “Бывает засуха в полях, а там и урожая дождутся, такожде и в душах наших! Пропоем тропарь Празднику!” И поем. И про Свет Разума говорил: “Слушай Христа, что Он велит. И не устрашайся! Христа принимай к себе! Какой Он был? Что есть Солнце Правды?” Поговорил о Правде. Все вздыхают. “Можем мы без Христа?” — “Не мо-жем!” — все, в один раз! Прихожу домой... Кто шапку картошки принес, кто яичко, кто муки стаканчик. Идешь по базару — говорят: “Спасибо, отец дьякон!” Работаю по садам с ними, за полфунта хлеба, и все меня знают. И Свет Разума поддерживаю. Только теперь постигаю великое — Свет Разума! Все мудрецы посрамлены, по слову Писания. До чего доделали! У-мы!! И приняли кабалу и тьму. А которые не приняли — бежали в Египет от меча Иродова. А Свет-то Разума хранить надо? Хоть в помойке и непотребстве живем, а тем паче надо Его хранить. И только на малых сих надежда, поверьте слову! Мы с вами одиночки, из интеллигенции-то, а все — прохвосты, пересчитайте-ка наших-то! Волосы поднимутся. Об них страшную комедию писать надо, кровавыми слезами. Факты, фак-ты такие, и все запечатлены! Поцеловали печать. Думали — на пять минут только обманно предались, а потом в тинку и паутинку затянулись. И уже во вкус входят! И вот, Господь возложил бремя. Но вот какая история...
Этот самый Иван Иваныч и попал к тому в лапы. А тот бумагу себе у них выправил на проповедь. А те и рады: рас-ка-чивай! Выгоняй “опиум” из народа, Свет-то Разума! В скотов обратим, запрягем и поедем. С “опиумом”-то народ — без страха, а без него — сразу покорятся! Раз понятия Правды нет, тогда все примется, хлеба бы только не лишали! А если еще и селедку дают, — чего! А Ворон-то и рад. Он и плут, и сумасшедший дурак, у него одно засело — под себя покорить... В нем, может, помещик-самодур отозвался, прадедушка какой-нибудь... Я, простите, Ломброзо читал — и думаю, что... наследственность о-чень содействует революции! Говорите — Бакунин? Я вам пятерых здешних насчитаю. Вы Аршина-то прощупайте. Бездна падения! Родови-тый, и какие родственники в историю вошли! Так вот. Ворон-то для них — ору-дие!..
Накануне Крещения достал я иеромонаха одного, привезли втайне из Симферополя, рыбаки сложились на подводу. С трудом и вина достали для совершения таинства Св. Евхаристии. У Токмакова запечатано для комиссаров, в наздраве не дали доктора, из страха: такие-то трусы интеллигенты, предались. А надо все же чистого, вина-то. Да и неверы. А добрые доктора — в чеке сидят. Отслужили обедню. И к самому концу, как с крестным ходом на Иордань идти, на море, смотрю — какой-то мальчишка листочки рассовывает. И мне в руку, на амвон сунул! Напечатано на машинке: “Я, учитель Иван Иваныч Малов, отвергаю Церковь и Крещение и принимаю новое, огнем и духом, сегодня, в 12 часов дня, на море, всенародно, со своей семьей”. И тут я возмутился духом и возревновал! Говорю о. иеромонаху: “Нарушим все каноны, предадим анафеме сейчас же, извергнем из лона сами, дабы соблазн парализовать, в назидание пасомым, хоть и собора нет, и время неположенное!” Но иеромонах поколебался: надо увещевать! А какое там увещевать, раз сейчас тот его в свое непотребство совратит?! И как подвели-то для соблазна! Учитель, со всеми ребятишками, и как раз в самое торжество, когда Животворящий Крест будем всенародно погружать! А в народе смущение, все на меня глядят: что же я не ревную?! Скорбью одолеваем, возмутился! Кадила не удержу. А самолично анафемствовать не могу! Поглядел я на образ Чудотворца Николая. А Он, без свечей и без лампады, стро-гий! И передалось словно от Него: “Следуй, дьякон, Свету Разума!” И тут-то со мной и вышло... И до сего часу в смятении, не согрешил ли... А в сердце своем решил... А вот, слушайте...
Возглашаю верующим с амвона: “Братие, как и в прежние годы, шествуем крестным ходом на Иордань и освятим воду, и... — тут я голосу припустил, — возревнуем о Господе и будем вкупе, да знамение Кресте Господне на нас!” И пошли. Все. И только тронулись с “Царю Небесный”, в преднесении хоругвей, — наро-ду, откуда только взялось! Столько никогда не видал на Иордани. А это через листочки по городу, что учитель новую веру принимает — ихнюю! Так и собрал весь город. Чувствую, что вызван на единоборство! Но только все — под хоругвями. Идем на подвиг. Говорю-шепчу: “Господи, да не постыдимся! Подбегает ко мне Мишка-рыбак и шепчет: “Решили ему “крещение” показать!” Говорю: “Не предпринимайте сами, а Господь укажет”. Укорительно посмотрел на меня, сказал: “Эх, отец дьякон! А мы-то думали...” Скрылся он от меня — и опять заявляется: “Должны мы перетянуть! Надо доказать приверженность, чтобы в море попрыгали массой!” А у нас, как вы знаете, есть обычай: когда погружаем крест в море, некоторые бросаются с мола и плывут. Одни кидают деревянные кресты, а плывущие их ловят и плывут с ними к берегу, во славу Креста Господня! И которые приплывут сами — тем всегда бывало от публики приношение. Температура в воде до нуля, а в это Крещение на берегу было до семи градусов мороза. А народ-то сильно отощал, на себя не надеются, до берега-то саженей двадцать! Мишка и шепчет: “Собрали мы призы: пять бутылок вина, пять пакетов листового табаку, два фунта муки и курицу — двенадцать призов. Надо им носы наломать, для славы веры!” Значит, передалось нашим-то, по-няли! Но сердце мое смутилось: недостойно сие высоты веры и Света Разума! О вере рвение — и вдруг бутылки вина и табачишко! Веру деньгами укрепляем и дурманом?! А ревность во мне кипит: “Господи, — думаю, — не осуди, не вмени малым сим и мне, скудоумцу, во смертный грех! Как умеем... нет у нас иного инструмента для посрамления язычников! Для малых сих, для укрепления духа ратуем. Ты все видишь, и все Тебе ведомо, до самых грязных глубин, до сухой слезинки, выплаканной во тьме беззвучной! Ведь чисты сердцем, как дети. И хулиганы, и пьяницы, и воры, и убийцы даже, и мучители-гонители есть, а чисты перед Тобою, как стеклышко, перед сиянием Света Разума!” Не на них вина, а на мудрых земною мудростью: до чего довели народ! Со-бою его заслонили, подменили, сочли себе подобным, мудрым их скудельной мудростью! А ему высшая мудрость дарована. Свет Разума, но ключ у него украден, не открыта его сокровищница! И понял я тут внезапно, что такое Свет Разума! Вот, сие... — показал дьякон себе на сердце.
— Мятется во мне, и психологию я знаю, но это превыше всякой ученой психологии! Высший Разум — Господь в сердцах человеческих. И не в едином, а купно со всеми. Это и это, — показал он на голову и на сердце, — но в согласовании неисповедимом. Как у Христа. Ковыль только на целине растет. И укрепился я духом. Сказал Мише: “Ревнуйте, братики, Бог нам прибежище и сила!” Будто и нехорошо? Да червячок-то по-червячиному хвалу поет, а свинья хрюкает! Да будем же хоть и по-свиному возноситься! И до орла. И до истинного подобия Бога-Света... Да как посмотрел на паству-то на свою — страшно и скорбно стало. Рвань та-ка-я, лица у всех убитые, зеленые, в тоске предсмертной. И сколько голодом поморили, а поубивали ско-лько! И все, чувствую, устремлены в упованье на меня: “Подаждь, Господи!” И ропот во мне поднялся: “Куда же, Господи, ведешь нас?! Зачем испытуешь так?”
Вы знаете нашу пристань. Слева, где ресторанчик пустой на сваях, поближе к пристани, поставили они кресло под красным бархатом, и на том кресле, смотрю, сам окаянный сидит, Кребс-то наш, хозяин жизни и смерти, мальчишка, в лаковых сапогах и в офицерской папахе серой, и в светлом, офицерском, полушубке, с кармашками на груди. С убиенного снял себе! Сидит, как бес-Ирод, нога на ногу, развались, и курит. На позорище веры православной выехал! И свита его кругом, и трое за ним красных дураков наших, в шлыках и с ружьями. На позорище нашем угнездился. А у самой воды, на камушках, столик под розовой скатеркой, а на столике — бутылка для “причащения” и чурек татарский. И стоит идол тот, в хорошей шубе, с лисьим воротником, морда багровая, в громаднейшей лисьей шапке, как с протодьякона, Ворон-то окаянный, и красным кушаком подпоясан, как купчина, мясник с базара. А сбочку, гляжу: дурак-то наш, интеллигент-то наш скудоумный и скудосердый, учитель Иван Иваныч! Как червь, тощий, длинноногая оглобля согнутая, без шапчонки, плешивенький, ноги голенастые, голые, из-под горохового пальтишка видны. Стоит и дрожит скелетом, на грязное море смотрит, “крещения” дожидается. И татары возле него шумят, пальцами в него тычут, насмехаются. И все его шестеро ребятишек, босые, в пальтишках, жмутся! А его жена, гречанка, кричит на него источно, деток охраняет- вырывает, а он только ладошками взад отмахивается, ушел в себя. А Ворон из книги что-то вычитывает и рукой размахивает, как колдует. А Кребс покатывается на кресле и дым через папаху пускает, ногами сучит.
С пристани мне все видно. И такое во мне смятение!.. Возглашаю, а сам на трагедию взираю. Запели “Спаси, Господи, люди Твоя”... и иеромонах спустился по лесенке Крест в море погружать, и все на колени пали по моему знаку. И как в третий раз погрузили Крест, Ворон и приказал Ивану Иванычу в море погрузиться, а сам книгой на него, как опахалом. Тот скинул пальтишко — и бух по шейку! А Ворон руки воздел. Да хватился детишек, а мать их в народ запрятала! Тот, дурак-то, из моря машет, желтый скелет страшенный, и Ворон призывает зычно: “Идите в мой Вертоград!” — а народ сомкнулся. И бакланы, помню, над дураком-то нашим вместо голубя пронеслись, черные, как нечистые духи! Слышу — кричат в народе: “Зачем дозволяют позорить веру?! В море его скинуть, Кребса, нечистого!” А он — за ружьями! Покуривает себе. И потребовал от Воронова стакан вина. И, говорили, того дурака поздравил, селедку-то нашу скудоумную, скелета-то интеллигентного, учи-теля разумного! И тут во мне закипе-ло... и я воздел руку с орарем и крикнул в ожесточении и скорби, себя не помня: “Богоотступнику и хулителю православной веры Христовой, учителю Малову — ана-фе-ма-а-а!..” — Не все слыхали за шумом, но ближе поддержали: “ана-фема!” Иеромонах меня за руку, и дрожит... И все смешалось... Забухали с пристани за крестами человек тридцать! Побили все рекорды! Крик, гам... Подбадривают, визжат, заклинают, умоляют! На лодках рыбаки стерегут, помощь подают, вылавливают: которые утопать стали, с ледяной воды, от слабосилия! А там саженками шпарят, гикают... Брызг летит! Народ “Спаси, Господи, люди Твоя” поет всеми голосами, иеромонах на все стороны Крестом Господним — на горы, и на море, и на подземное, и на демона-то того с Вороном... и я кистию окропляю — угрожаю, в гневе, и кругом плач и визг... А там — е-кстаз! Уж не для приза или молодечество показать, а веру укрепить! Три старика и хромой грек-сапожник ринулись. Бабы визжат: “Отцы родные, братики, покажите веру!” А я и кадилом, и орарем, и кистию... Кричу рыком: “Наша взяла! Во Имя Креста Господня, окажи рвение, ребятки!” И доказали! Прямо, скажу, стихия объявилась! Восемнадцать человек враз приплыли со крестами, семеро без крестов, но со знамением на челе радостным, остальных на лодке подобрали без чувств. Ни единого не утопло! Всех на подмерзлом камне сетями накрыли, вина притащили, — матрос с пункта пришел и сомкнулся с нами, и поздравлял за русскую победу! Праздников Праздник получился. И всем народом — “Спаси, Господи”, — ко храму двинулись. А Кребс не выдержал, убежал. А дурака, говорили, жена домой сволокла, без чувств...
Вот... понимаю: язычество допустил в пресветлую нашу веру. Но... всему применение бывает?.. И тревога мутит меня... Хотя, с одной стороны, после позора дурацкого, ни одна душа не пойдет тому дураку вослед, но... не превысил ли? Не имею благодати ведь? Хотя, с другой стороны, или — гордыня во мне это? Ведь поняли без слов! И в сем оказательстве... не мой, не мой!.. — всхлипнул от волнения и восторга дьякон и смазал ладонью по носу, снизу вверх. — А всего народа — Свет Разума?! По силе возможности душа сказала?..
— Конечно... и здесь — Свет Разума, — сказал я и почувствовал, что дубовая клепка с моей головы спадает.
— Согласны?!. — воскликнул радостный, как дитя, дьякон. — Ну, превышение... и тонкого духа нет... высоты-то! Но... что прикажете делать... на грошиках живем... последнюю нашу Св. Чашу отобрали... уж оловянную иеромонах привез, походную... Можно и горшок, думаю? Начерно все... но...
Он поднялся и поглядел на горы.
— Спою тропарек... петь хочется! Ах, чего-то душа хочет, интимного... С тем и шел. Пройдусь, думаю, на горы, воспою... И тревога во мне, и радость, покою нет...
Он пел на все четыре стороны — и на далекую белую зиму, и на мутные волны моря, и на грязный камень, и на дали. Дребезгом пел, восторженным.
— И вот, уж и победа! — воскликнул он, садясь и подхватывая колени. — Дурачок-то наш звал меня! В тот же вечер без памяти свалился. Сорок градусов! Три дня без памяти. Прибежала жена: “Идите, помирает!” Прихожу, а там уж Ворон сидит, как бес, за душой пришел. Лежит наш дурачок Иваныч, и свечка восковая при нем горит, у иконы Спасителя. Плачет: “Не даю ему, а велит тушить... Вот, помираю, отец дьякон. Хочу войти, а его отвергаюсь... Уйдите, господин Воронов, посланник сатаны! Я был православный — и останусь!” А тот погладил брюхо, и говорит: “Нет, вы уж отвергли капище, и жрец вас проклял! И приняли истинное крещение! Тайна сия нерасторжима!” — “Нет, — говорит, — я только искупался, как дурак, и все недействительно”. Жена схватила ухват, да на того!.. “Уйди, окаянный демон, пропорю тебе чрево твое!” Ну, тот ослаб. “Духовная гниль и мразь вы все!” — прошипел и подался вперед ухватом. А я учителя успокоил. Говорю: “Собственно говоря, в совокупности обстоятельств моя анафема недействительна, а только сыграла роль для укрепления колеблющихся. И иеромонах так думает”. — “В таком случае, дайте мне вашу руку!” И поцеловал мне, хотя и против правил. Дал слово всенародно исповедать веру. В регенты опять хочет. И через неделю оправился. Сводя итог, разумею, что... Но лучше уж вы скажите верное резюме!..”
И мы хорошо поговорили, на высоте.
Декабрь, 1926 г.
Севр.
Православная беседа >> Библиотека >> Шмелев Иван 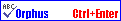
На правах рекламы: