|
|
Трубецкой Евгений
Христианское в русской народной сказке
Тут остается отметить еще одну ступень подъема сказки. Волшебное в ней еще не есть завершение чудесного. Есть одно последнее ее превращение, где сказочное принимает определенно религиозную, христианскую окраску. Совершается это тем легче, что в сказке чрезвычайно много сродного христианству. Трудно сказать, чем это объясняется, природным ли предрасположением к христианству народного гения, создавшего сказку, или, наоборот, многовековым влиянием христианства на народную душу, а через нее и на сказку. Достоверно одно: русские сказочные образы как-то совершенно незаметно и естественно воспринимают в себя христианский смысл. В некоторых сказках это превращение представляется вполне законченным; в других мы видим пестрое смешение христианского и языческого.
Мы уже видели, что в трудные минуты вещая невеста советует своему герою “молиться Спасу”. Вполне естественно, что сказочный подъем к чудесному на высших своих ступенях превращается в подъем молитвенный. Когда сказочный богатырь проникается сознанием своего человеческого бессилия перед сверхъестественным, он тем самым уже явно приближается к идеалу христианского смирения. Поэтому в минуту, когда никакая человеческая сила не может спасти героя от неизбежной гибели, когда перед ним развергается змеиная пасть “от земли до неба”, у него сам собою вырывается возглас: “Господи, сохрани меня и спаси мою душу” [1]. И молитва разрушает чудеса черной магии, спасает от плена морского царя [2].
Просто и естественно совершается превращение волшебного в чудесное в христианском значении слова. Существует, например, целый христианский вариант известной народной сказки, где волшебная щука достается праведнику за усердную молитву. Щука исполняет всякие его желания, снабжает его в изобилии напитками да кушаньями, строит ему богатый дворец; но христианизация сказки выражается и тут в новой волшебной формуле, которую щука дает своему повелителю: “только скажи, по щучьему велению, по Божьему благословению, явись то-то и то-то — сейчас явится”. Поэтому, когда “по щучьему велению” у царевны родится ребенок, он признается ребенком Божьим.
Так же легко христианизируются в сказке и человеческие типы; в особенности просто и естественно сказочный “дурак” превращается в “блаженного” или юродивого. Превращение это известно многим христианским народам. Так, в немецком сказании о Граале “чистый глупец” Парсиваль подвигом целомудрия превращается в блаженного и христианского подвижника. В русской сказке это превращение облегчается самим сходством между дураком и “блаженным”. Общая черта того и другого — вещее безумие, отсутствие человеческого “здравого рассудка” и в то же время обладание иною чудесною мудростью. У дурака эта мудрость волшебная, а у юродивого “ум Христов”, но в сказке легко стирается грань, отделяющая одно от другого; тогда в одном и том же лице смешиваются черты дурака и юродивого.
Совершается это очень просто — путем религиозного истолкования обычных речей и поступков дурака, вопреки житейскому здравому смыслу. Затрата всего состояния на кошку и собаку приводит его к счастью; и вот, истолкование придает этому странному поступку оттенок прозорливости. Обычная черта сказочного дурака — презрение к деньгам путем истолкования же превращается в добродетель бессребренника. Случайно ему достались за кота три бочонка золота. “Экая пропасть золота, куда мне с ним деваться”, — подумал дурак и пошел по городам да селам оделять нищую братию; роздал два бочонка, а на третий купил ладану, сложил в чистом поле и зажег: воскурилось благоухание и пошло к Богу на небеса. Вдруг появляется ангел; “Господь приказал спросить, чего ты желаешь?” “Не знаю”, — отвечает дурак и спрашивает совета у старца. А тот ему в ответ: “Коли тебе богатство дать, ты, пожалуй. Бога забудешь. Пожелай лучше жену мудрую” [3].
Тип “блаженного” вообще принадлежит к числу любимых в сказке; мы уже встретились с ним в рассказе о Царевне Несмеяне. Он же воспроизводится в поэтической сказке “Три копейки”, где работник (а по другим вариантам мальчик-сиротинка) отказывается брать с хозяина более трех копеек вознаграждения за три года службы. Получив условленную мзду, он бросает деньги в реку: “Если, — говорит, — я служил верой и правдой, то моя копейка не утонет”. На третий год “глядь — все три копейки поверх воды”. Одну копеечку отдал работник купцу — в церкви свечку ставить; тот ее на полу обронил, и “вдруг от той копеечки огонь возгорел”; “люди взяли по свечке и зажгли от той копеечки”. На вторую копеечку другой купец купил работнику кота, продал его в “ином государстве” за три корабля; а третья копеечка чудесно воспламенилась в царском дворце и тем спасла царскую дочь от “Ерахты” (сатаны), пытавшегося ее похитить. Смешение различных планов нравственного сознания, христианского и сказочного, замечается и тут. Юродивый уже здесь, на земле, получает награду, становится богачом и женится царевне [4].
Земное счастье в конце рассказа составляет вообще обычное отличие этого сказочного стиля от церковного стиля “жития”, коему благочестивая сказка видимо подражает.
Глубоко сродно христианству и любящее жалостливое отношение сказки к животному миру. Тайна солидарности всей живой твари, открывшаяся сказателям, есть в то же время одно из христианских откровений и, в частности, одна из любимых тем русского “жития святых”. Не удивительно, что и здесь происходит слияние между сказочным и христианским. Благодарность животного человеку, его пожалевшему, в сказке благочестивой получает значение Божьей награды. Это также обычная черта о сказочных блаженных. В сказке “Три копеечки” сиротинка выкупает из жалости котенка, которого малые ребятишки мучают [5], в сказке о Несмеяне работник, у которого одна забота “как бы перед Богом не согрешить”, вознагражден за то, что роздал животным все свои денежки [6].
Самое существо христианства выражается в учении о всеобщем воскресении, о вечной целостной жизни, в которой весь мир достигает совершенного и полного исцеления. Поэтому христианству не может не быть близко сказочное искание вечной молодости и живой воды. И “молодильные яблоки” и “вода целящая”, суть как бы языческие, мифологические предварения величайшего из христианских откровений. Поэтому не удивительно, что и здесь намечаются точки соприкосновения и как бы переходные ступени от сказочного к христианскому. Есть, например, сказка “О серебряном блюдечке и наливном яблочке” [7], одно из прекраснейших созданий народного творчества, где рассказ о “живой воде” прямо-таки получает значение чуда в христианском смысле слова.
Героиня этой сказки — обиженная сестрами дурочка, блаженная, своего рода “золушка”, всеми притесняемая и работающая за всех. Достается ей в руки чудесное блюдечко и наливное яблочко; сестры из зависти заманивают ее в лес и убивают. На могиле в лесу вырастает тростинка, из тростинки пастушок делает дудку, а дудка сама поет, выговаривает: “Свет мой батюшка родимый! Меня сестры в лес зазвали, меня, бедную, загубили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко, не пробудишь ты меня от сна тяжкого, пока не достанешь воды из колодезя царского”. Отец достает у царя живую воду, оживляет дочь и идет с нею в царские палаты. И видит царь старика с тремя дочерьми: “две за руки связаны, а третья дочь как весенний цвет, очи — райский свет, по лицу заря, из очей слезы катятся, будто жемчуг падают”. И показывает блаженная царю чудеса, все его царство и весь мир на серебряном блюдечке, города, корабли, полки с воеводами. “Яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному; в блюдечке все небо красуется, солнышко за солнышком кружится, звезды в хороводе собираются. Царь удивлен чудесами, а красавица льется слезами, перед царем в ноги падает, просит помиловать: “Царь-государь, говорит она, возьми мое серебряное блюдечко и наливное яблочко, лишь прости ты сестер моих, за меня не губи ты их”.
Тут христианство выражается не в отдельных чертах и подробностях, а во всем жизнечувствии сказки. Вообще христианское жизнечувствие проникает в сказку очень глубоко: оно сказывается и там, где оно не с первого взгляда бросается в глаза. В частности, недаром Василиса Премудрая учит своего суженого молиться: в самом отношении сказочного героя к высшей мудрости, которая им руководит, есть столько близкого и сродного христианству, что предположение о влиянии, о бессознательном проникновении христианских мыслей и в особенности чувств в сказку возникает само собою. Отзвуки христианства чувствуются и в глубоком сознании человеком своего ничтожества, и в беззаветной отдаче себя высшей чудесной силе, и в самом образе вещей невесты, которой он обручен. Сочетание во едином женственном образе высшей Премудрости, красоты и власти над всею тварью — чрезвычайно напоминает тот лик Софии Премудрости; Божией, коим вдохновлялись наши отдаленные предки — строители храмов и иконописцы. Во всяком случае, в лице Василисы Премудрой, Мудрой жены и Ненаглядной Красоты воплотились те искания человеческой души, которые во образе Софии находят себе высшее, полное удовлетворение. В отдельных случаях трудно решить, где кончается сказочное предварение христианского откровения и где начинается прямое влияние этого откровения на сказку. Одно представляется несомненным — сказка заключает в себе богатое мистическое откровение, ее подъем от житейского к чудесному, ее искание “иного царства” представляет собою великую ценность духовной жизни и несомненную ступень в той лестнице, которая приводит народное сознание от язычества к христианству.
[1] (108). Покати горошек, примечание к сказкам №74, b.
[2] (109). Скорый гонец, № 145.
[3] (110). Мудрая жена, № 123.
[4] (111). Три копеечки, № 124, b; ср. вар. а.
[5] (112). № 124, а.
[6] (113). № 166.
[7] (114). № 137.
Христианское в русской народной сказке. Глава VII из статьи Е. Трубецкого “Иное царство” и его искатели в русской народной сказке.
Данная статья Е. Трубецкого была напечатана полностью, без каких-либо цензурных изъятий в 1923 году в журнале “Русская мысль”, возобновленном издании под редакцией П. Струве (“Русская мысль”, Прага – Берлин, 1923, № 1-2, с. 220-261). Все ссылки на сказки даются по изданию: Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. Т.I – II. М., 1897.
Текст сканирован из журнала “Литературная учеба”, №2, 1990 г. С. 114-117.
Православная беседа >> Библиотека >> Трубецкой Евгений 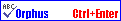
На правах рекламы: