|
|
Отец Арсений
Часть вторая.
ПУТЬ
СодержаниеВ этой части собраны воспоминания и рассказы об о. Арсении, а также о людях, так или иначе соприкасавшихся или встречавшихся с ним. Одни больше, а другие меньше.
Вы встретитесь здесь с людьми, имена которых уже встречались в первой части – “Лагерь”, встретите и новых людей, то ли духовных детей о. Арсения, то ли тех, кто, однажды узнав о. Арсения, навсегда унес с собой веру в Бога, понял, что такое настоящий верующий человек, несущий людям добро, радость и исцеление от тягот жизни.
Он, о. Арсений, умел брать на себя трудности и грехи других людей, учил их молиться, так что они могли найти путь к Богу, он воспитывал в человеке веру, давал ему понимание радости сотворения добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привел к Господу и дальше вел по этой дороге веры, но мы знаем, что таких людей было много, очень много. Прочтя собранные воспоминания, рассказы и записки, вы поймете и увидите жизненный путь о. Арсения, а также людей, жизнь которых служит для нас примером. Мы должны глубоко благодарить всех духовных детей о. Арсения, знакомых и друзей его, написавших о нем или о своей жизни, связанной с ним в той или иной степени.
Читая воспоминания, рассказы и записки эти, невольно чувствуешь ту необычайную святую любовь и глубокое почитание о. Арсением Матери Божией, к Которой он постоянно возносил молитвы о нас, грешных.
Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!
Поезд остановился, и о. Арсений вышел из вагона. Шла весна 1958 г, буйная, радостная, веселая. Было утро, яркое, солнечное. Местами на земле лежал нерастаявший снег, блестели голубые от весеннего неба лужи.
Пройдя по перрону и выйдя на привокзальную площадь, о. Арсений осмотрелся. Чистый, прозрачный воздух прочерчивал узоры далеких колоколен, главы церквей с погнутыми крестами на куполах.
В телогрейке, шапке-ушанке, с вещевым мешком за спиной, с небольшой седой бородой, о. Арсений, при первом взгляде на него, казался колхозником, приехавшим в город за продуктами, но какие-то еле уловимые черты в одежде, походке, манере общения говорили, что он вернулся из заключения.
Город был тот же, что и два с половиной десятилетия тому назад, но еще больше обветшал, стал грязнее и мрачнее, и даже весенняя погода не оживляла его, а наоборот, подчеркивала убожество давно не ремонтированных домов, разбитых булыжником мостовых, замусоренных дорожных канав, обшарпанность ларьков и палаток, гнетущую одноцветность всего окружающего.
Отец Арсений опустил руку в карман телогрейки, достал записку с адресом и пошел разыскивать дом Надежды Петровны. Все было сейчас новым: люди, разговоры, поведение людей и сам маленький городок, который он когда-то часто посещал и подолгу в нем жил.
Монастырская, Заречная, Посадская улицы стали улицами или проспектами Энгельса, Марата, Советской, Гражданской, Ильичевской.
Отец Арсений долго расспрашивал, ходил, и наконец перед ним появилась, поднимаясь в гору, нужная ему улица. Он разыскал дом и, подойдя к закрытой калитке, дернул ручку звонка в отверстии забора.
Позвонив несколько раз и услышав, как в доме дребезжит колокольчик, но никто не выходит, о. Арсений беспомощно оглянулся, не зная, что же делать. Стало холодно, дорога утомила, пересадки, волнения, томительная неизвестность, оторванность от привычной лагерной жизни, суета свободы заставили потерять внутреннюю собранность и спокойствие. Оставаясь стоять у калитки, о. Арсений растерялся. Куда же идти? Что делать? В городе он никого не знал, был второй адрес, но, обыскав все карманы, не нашел его. Необходим был человек, который помог бы снять в городе комнату. Надо было отдохнуть, пожить одному, привыкнуть ко всему новому, понять, войти в жизнь на воле, от которой он отвык за долгие годы лагерной жизни, и затем уже списаться с духовными детьми и друзьями. Что делать? Может быть, Надежда Петровна уехала? У калитки стояла небольшая скамейка, потерев ее рукавицей, о. Арсений в изнеможении сел.
“Я задумался, – рассказывал потом о. Арсений, – задумался о том, что незаметно поддался духу гордыни, возомнил, что справлюсь с новой жизнью один, без друзей своих и духовных детей, привыкну к новому, а Господь показал сейчас мои заблуждения. Все окружающее пугало, было незнакомо, чуждо. Одна надежда была на Господа”.
По улице проходили редкие прохожие, а старик в телогрейке, вещевым мешком за спиной, полусогнувшись, сидел на скамейке, прислонившись к забору, и как будто дремал. Городок, улица, запертый домик – все отдалилось, ушло, и осталась только одна молитва к Господу и Матери Божией, в которой о. Арсений просил простить его за гордость, неверие в помощь близких своих.
Время шло, и часа через три из соседнего дома вышла женщина и спросила: “Вам кого, гражданин?” – и о. Арсений удивленно увидел себя на скамейке, рядом с забором, незнакомую улицу и женщину, стоящую около него, и с трудом осознал, где находится. Разыскав в кармане записку, отец Арсений ответил: “Надежду Петровну”, – но вопросы продолжались: “Кто? Откуда, зачем? Давно ли в городе?”
Отец Арсений отвечал односложно: “Знакомый. В гости, давно не виделись”. Казалось, что прервать любопытствующий допрос нельзя, но в этот момент подошла женщина к калитке, и о. Арсений понял, что это Надежда Петровна. Так произошел его приезд в город и встреча с Надеждой Петровной, у которой он прожил более 15-ти последних лет своей свободной жизни.
Жизнь Надежды Петровны была далеко не обычна. Дочь учителя, она в 16 лет вступила в партию, участвовала в гражданской войне, руководила женотделом губернии, работала в партийных органах, поступила в Институт красной профессуры, кончила его и перешла на работу на так называемый “идеологический фронт”.
Статьи, брошюры, книги, написанные ею, обрели известность. Работала со Скворцовым-Степановым и Варгой, избиралась делегатом различных съездов, но в 1937 году арестовывается и только в конце 1955 года освобождается “по чистой” в возрасте 55 лет. Из троих детей в живых осталась старшая дочь Мария, которая к моменту выхода Надежды Петровны из лагеря уже давно была замужем за военным врачом. Сын Юрий, пробыв несколько лет в детском доме, был взят на фронт, где и погиб 19-ти лет, младший, Сергей, умер в этом городе в детском доме. Жить в Москве Надежда Петровна не захотела и решила поселиться там, где умер и похоронен маленький Сергей. Убеждения, любовь, интерес к жизни, когда-то волновавшее прошлое – все было вытравлено, стерто допросами, унижением, лагерем. В душе осталась постоянная боль. Дочь и зять купили в этом городке для Надежды Петровны небольшой, но хороший домик с уютным садом. В 1952 году встретил о. Арсений в лагере мужа Надежды Петровны – Павла, тяжело болевшего, но почти до самой смерти продолжавшего работать на тяжелых работах. Павел сдружился с о. Арсением и попросил, если о. Арсению удастся выйти из лагеря, разыскать жену, рассказать о его жизни и, если будет возможно, помочь ей. В конце 1956 года, еще находясь в лагере, о. Арсений списался со своими друзьями, и они с большим трудом нашли Надежду Петровну, которая к этому времени уже жила своем домике в Р. Отец Арсений написал ей обстоятельное письмо об умершем муже, о последних днях его жизни, и вот тогда-то и пригласила она, чтобы после освобождения приехал о. Арсений к ней жить.
Приняла Надежда Петровна о. Арсения хорошо, он подробно рассказал ей о жизни ее мужа в лагере, о его несгибаемой стойкости, мыслях, высказанных им перед смертью. Многое рассказал. Слушая о. Арсения, Надежда Петровна то плакала, то лицо ее становилось гневным, злым, и она повторяла одну и ту же фразу: “Какой человек был Павел! Какой человек! Погубили сознательно, преднамеренно. Мерзавцы!”
Прожил о. Арсений у Надежды Петровны несколько дней и почувствовал, что трудно ему, чуждо все здесь. Молиться стеснялся и все время чувствовал себя гостем, хотя и жил один в комнате, да и второй адрес нашел за это время в кармане телогрейки.
Поблагодарив Надежду Петровну за гостеприимство, ушел жить к Марии Сергеевне, своей хорошей знакомой и духовной дочери из Москвы. “Пришла я, – рассказывает Надежда Петровна, – дней через десять навестить о. Арсения, тогда звала его Петром Андреевичем. Смотрю – домик ветхий, живет в каком-то чулане, кровать складная, ломаная, одеяло старое, ситцевое, а сама Мария Сергеевна от старости еле двигается и не только помочь о. Арсению не может, а и сама требует ухода. В общем, битый битого везет. Стала звать его опять к себе жить, а он посмотрел на меня как-то по-особому, кротко-кротко и сказал: “Возможно ли это? Я ведь священник, иерей, молюсь подолгу и богослужение дома совершаю, а у Вас взгляды другие, вы неверующая, атеистка, кроме того, ко мне и друзья приезжать будут, и не один, а много. Неподходящий я для Вас постоялец”.
Вижу, что и Мария Сергеевна не одобряет его переезда ко мне, но почему-то неизмеримо стало жалко мне его, пришла я на второй день и увела к себе. Поселила о. Арсения в большой комнате, окна в сад выходят, тихо, спокойно там. Стала ухаживать за ним, одна ведь живу. Дочь с мужем хорошо, если один раз в месяц из Москвы приедут, а внучка только на каникулы зимой приезжала. Времени свободного много, читала все больше, а тут вроде бы и занятие, да и вижу – человек он очень интересный и какой-то особенный. Вначале не понимала, что в нем особенного? Первое время все молился – днем, вечером, ночью, утром. Иконочку взял у Марии Сергеевны, повесил в уголок, лампадку постоянно поддерживал горящей. Странно мне все это было, непонятно. Думала – без образования он, фанатик, или лагерь сильно повлиял, но по разговору – интеллигентный. Стала присматриваться к нему, иногда вечерами подолгу разговаривали, и поняла я тогда, что передо мною человек огромных знаний, культуры и какого-то особого, высокого духа и доброты необычной. Поняла все это в течение полутора месяцев. Присматриваясь к о. Арсению, заметила, что не привык он еще к свободе и лагерь не оставляет его, со всем его страшным прошлым. Хотя и сказал он мне, что будут к нему приезжать друзья, но никто ни разу не приезжал, а писем он также никому не писал и, как потом узнала, запретил и Марии Сергеевне сообщать кому-нибудь, что живет здесь.
Первые три недели на улицу не выходил, а потом стал сидеть на улице на скамеечке. Состояние его было мне понятно, так как и со мною, и с моими друзьями по выходе из лагеря происходило нечто подобное: одни замыкались в себе, а в других просыпалась нервозно-кипучая деятельность, сменявшаяся потом депрессией”.
“Стала я, – рассказывала потом Надежда Петровна, – больше говорить с о. Арсением, расспрашивать, рассказывать о себе, а также попросила разрешения заходить к нему, когда он молился или совершал богослужение, и в эти моменты становился он другим человеком, ранее мною не виданным, поражавшим, меня.
Помню: как-то вечером охватила меня тоска гнетущая, давящая. Дети Юрий и Сергей неотступно стояли перед глазами, вспоминала все время мужа, и что-то темное заползало мне в душу, хотелось броситься на пол и биться головой, кричать, рыдая, обо всем потерянном, утраченном. Жизнь казалось бесцельной и ненужной теперь. Для чего жить? Для чего? Я металась по комнате, кидалась на кровать, закусывая зубами подушку, вставала и беззвучно плакала, слезы заливали лицо. Кто мне поможет? Кто мне ответит за то, что случилось? Кто?
Было так тяжело, что я хотела умереть. Мне вспоминались страдания детей в детских домах, ужас расставания с ними при аресте, их расширенные глаза, полные страха и мольбы, обращенные ко мне, уходящей с арестовавшими меня работниками НКВД. Смерть мужа в лагере. Допросы и моя жизнь. Все проносилось с какой-то особой четкостью, обостренно, болезненно. Хотелось куда-то бежать и потребовать ответа: ЗАЧЕМ все это было?
Я одна в доме, Петр Андреевич – изможденный и оторванный от жизни человек, не могущий мне помочь, но рядом никого не было, и я, плача, все же пошла к нему. Тоска, скорбь и какая-то особая озлобленность охватили меня. Я вошла без стука. Петр Андреевич стоял в углу перед иконой Божией Матери, неярко горела лампадка, и он в полный голос молился. Я вошла, громко, резко открыв дверь, но он не обернулся. Остановившись, услышала слова молитвы, четко произносимые им:
“Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, защитница сирым и странным, обидимым Покровительница, погибающим спасение и всем скорбящим утешение, видишь мою беду, видишь мою скорбь и тоску. Помоги мне, немощному, укрепи меня, страждущего. Обиды и горести знаешь Ты мои, разреши их, простри руку Свою надо мною, ибо не на кого мне надеяться, только Ты одна защитница у меня и предстательница перед Господом, ибо согрешил я безмерно и грешен перед Тобою и людьми. Будь же, Матерь моя, утешительницей и помощницей, сохрани и спаси мя, отгони от меня скорбь, тоску и уныние.
Помоги, Матерь Господа Моего!”
Отец Арсений окончил молитву, перекрестился, встал на колени, положил несколько поклонов, прочел еще какую-то молитву, которую я не запомнила, и встал с колен. А я, ухватившись за косяк двери, рыдала громко, обливаясь слезами, и только слова молитвы к Божией Матери отчетливо звучали передо мною. Забегая вперед, хочу сказать, что они запомнились мне на всю жизнь, запомнились мгновенно, навсегда, запомнились так, как я восприняла их тогда. Сквозь охватившие меня рыдания я смогла сказать только одно: “Помогите, мне очень тяжело!”
Ничего не спрашивая, Петр Андреевич оторвал меня от дверного косяка и посадил на стул. Захлебываясь от рыданий, я стала говорить, сперва озлобленно, потом раздраженно и наконец успокоилась. И вся моя жизнь, вся до мельчайших подробностей вставала передо мной, и я выплескивала ее на о. Арсения. Рассказывала о себе, детях, муже, о горе, страданиях, о своей жизни, об ошибках, стремлениях, о прошлой работе. Прошлое, обнаженное прошлое вдруг предстало передо мной совершенно по-другому. Рассказывая о себе, я увидела не только себя, но и тех людей, которым я приносила страдания, боль, унижение, возможно, и смерть. Все прошло перед моими глазами. Слова молитвы, услышанные мной, во все время моего рассказа, незримо присутствовали, как бы освещая мне путь. Говорила я долго, несколько часов, а о. Арсений, опершись руками на стол, недвижно слушал меня, не прерывая, не поправляя. Когда я кончила, сама удивившись тому, что рассказала, о. Арсений встал, подошел к иконе, поправил лампадку, перекрестился несколько раз и стал говорить. Говорил он, вероятно, недолго, но то, что сказал, еще и еще раз заставило меня понять все свои страдания иначе, чем я понимала их раньше. Ведь страдала и мучилась я и за те дела, которые когда-то совершала, ведь и от моих поступков и действий страдали люди, а я не думала о них, забывая об их мучениях. Почему я должна быть лучше их?
Отец Арсений сказал: “Хорошо, что Вы мне рассказали свою жизнь, ибо полная откровенность – это кладезь очищения совести человека. Вы найдете себя, Надежда Петровна”, – и трижды благословил меня. Я не стала сразу верующей, но поняла, что есть многое, то многое, что упущено мною в жизни, и это упущенное и ранее не найденное с помощью Божией и о. Арсения я нашла. Сперва я привыкла к нему, потом привязалась и увидела в нем человека совершенно необычного, несущего в себе глубокую духовность, веру и доброту к людям. Никогда не могла я предположить, что худой усталый человек, пришедший ко мне в лагерной телогрейке, окажет такое влияние на меня и я стану верующей, ранее отрицавшая Бога и гнавшая Его.
Этот разговор в очень большой степени сблизил меня с о. Арсением, и он стал меньше стесняться, постепенно оттаивать, интересоваться окружающим и к исходу второго месяца написал уже несколько писем, и, вероятно, дня через четыре приехало к нему сразу несколько человек. Нечего греха таить, показались мне эти люди несколько странными, но только вначале, а потом я поняла их, и сама, вероятно, стала такой же, как и они. Со многими сдружилась и полюбила их”.
“Месяцев через пять-шесть я уже стала духовной дочерью о. Арсения, – рассказывала Надежда Петровна, – но одно событие, происшедшее в это время, особенно повлияло на меня.
Был у нас с мужем большой нам друг и товарищ Николай. Арестован он был одновременно с Павлом – моим мужем – и проходил по одному и тому же делу. В 1955 г. выпустили его, реабилитировали, восстановили во всем и вся. Работая в Харькове на большой хозяйственной должности, был он в командировке в Москве и решил заехать ко мне. После лагеря не виделись мы, а только переписывались.
Приехал! Я расспрашивать стала, как в лагере жил, о себе рассказываю, почему вдруг в этом городе живу, о детях плачу. Николай о себе рассказывает, конечно, арест, лагерь, допросы, вспоминает, кто донес о несуществующем деле. Стал о моей дочери расспрашивать, а потом вдруг спросил, смеясь: “Надежда, а ты замуж не вышла? Раздевался когда, увидел – мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят. Чьи это?”
А я ему ответила что-то резкое, но тут же спохватилась и сказала, что живет у меня жилец, хороший знакомый, с мужем в лагере в последний год его жизни сидел. Николай, вероятно, машинально, спросил: “Кто он?” – Я назвала: “Священник, Стрельцов Петр Андреевич, ты его знать не можешь, ведь последние четыре года вы сидели в разных лагерях с Павлом”.
Николай буквально подскочил и закричал: “Отец Арсений! Здесь! Где он?”
Ворвался без стука к о. Арсению в комнату, и я слышала, что он кричал: “Отец Арсений! Отец Арсений!”
Я следом за Николаем вошла в комнату и увидела, как Николай обнимает о. Арсения и, что меня крайне удивило, плачет, и еще более удивило, что он вдруг сказал: “Господи! Какая радость, что Вас встретил. Запрашивал о Вас, искал через знакомых, а ответа нет. Благословите меня, Бога ради”, – и пошел под благословение.
Сели, разговаривают и меня забыли. Вышла я чай приготовить. Готовлю и удивляюсь! Что такое с моим покойным Павлом произошло и с Николаем? Почему они оба от о. Арсения, можно сказать, без ума? Чай я поставила, но о. Арсений и Николай его так и не пили. К ночи Николай пришел. Пока его не было, я все размышляла. Хороший, добрый о. Арсений, но чтобы Николай, коммунист, под его благословение подошел, было мне непонятно.
О чем они тогда говорили несколько часов кряду, я не знала, а уже потом, через несколько лет, Николай сказал мне, что исповедовался.
Пришел Николай какой-то просветленный и первое время молчал, а потом всю ночь говорил об о. Арсении. Вначале это меня даже обозлило. Приехал человек ко мне, не видел бездну лет и внезапно ушел. Конечно, хороший человек о. Арсений, но поступать так по отношению ко мне, столько перенесшей, казалось бестактным и неправильным. Мог бы с о. Арсением и потом поговорить, и я раздраженно сказала: “Послушай, Николай! Сама вижу, что Петр Андреевич человек хороший, но ты-то почему так к нему относишься? Под благословение подошел, меня оставил, к нему бросился! Ведь столько лет меня не видел!”
Посмотрел на меня Николай удивленно и начал рассказывать. Долго говорил, очень долго, и увидела я Петра Андреевича, о. Арсения, совершенно по-другому.
Помню его рассказ: “Лагерь, Надя, мне жизнь по-новому показал: взгляды, людей, идеи, события, свое прошлое и настоящее оценил я иначе, чем раньше рассматривал. Сама в лагерях была, знаешь! На воле человек добрый, верный, отзывчивый, цены ему нет, и веришь в него, а попал этот человек в лагерь – и сразу видишь: шкурник, доносчик, предатель – дрянь. Отца и мать предаст. Мы с тобой таких видели, из-за них сидели многие годы, близких потеряли.
А этот человек, Надя, не одну сотню людей спас от смерти и мук. Чем спас? Добрым словом, заботой, помощью. Ты знаешь, что в лагере значила внутренняя, моральная поддержка? Все значила, больше, чем еда.
Мы в лагерях к своим тянулись: партийный к партийному, интеллигент к интеллигенту, колхозник к колхознику, вор к вору, шпана к шпане, и если помогали, то только своим, да и помогали-то редко, больше предавали, а он, о. Арсений, всем помогал. Не было у него своих и чужих, а просто были люди, которым нужна помощь. Так он и меня с Павлом нашел. Были мы на грани отчаяния, хотели бежать, а ведь это было равносильно смерти. Ничего никому не говорили, а он накануне нашего побега с этапа подошел к нам и заговорил.
Мы смотрим на него как обалделые. Откуда он знает? Растерялись. Страшно нам, Надя, стало с Павлом. Отговорил убежденно, ласково, и успокоились мы.
Когда я в бараке услышал, что он поп, презрительно к нему отнесся, да и вид у него был самый неказистый. Прожил я с ним в бараке около года, и стал он для меня и Павла как звезда путеводная. Присмотрись, Надя, к нему, – присмотрись, и тоже к нему под благословение пойдешь!”
Сильно повлиял на меня рассказ Николая, да я к тому времени и сама, как уже говорила, к о. Арсению привязалась, это меня просто уход к нему Николая расстроил”.
Продолжу рассказ об о. Арсении и его жизни.
Комната, которую ему предоставила Надежда Петровна, была большая. Окна выходили в сад, засаженный яблонями, вишнями, рябиной. Соседний двор был далеко и совершенно не виден, зимой чуть-чуть просвечивал.
Рано утром рыжий петух взлетал на забор и задиристо кричал несколько раз, в это время о. Арсений вставал и начинал утренние молитвы. Потом опять ложился, а в семь утра начинал службу до девяти. От семи до девяти, когда он служил, присутствовали все приехавшие к нему духовные дети и иногда Надежда Петровна. После службы он беседовал с приехавшими или работал. Писал письма, иногда диктовал их, когда плохо себя чувствовал. Много читал книг по искусству и также писал.
Приезжало очень много народа, именно очень много.
Вера Даниловна. Высокая, седая и внешне строгая и недоступная, а на самом деле милейший и добрейший человек. Самый близкий друг и духовная дочь о. Арсения, пришедшая к нему когда-то одной из первых. Почти все из нас лечились у нее, она была врачом. Приезжали еще два врача – Людмила и Юля, почти одних лет. Приезжала с мужем и детьми Ирина, красивая, лет 45-50. Вместе с Верой Даниловной они лечили о. Арсения и иногда даже увозили его в Москву, чтобы положить то в одну, то в другую клинику. Отец Арсений всегда отказывался, не хотел, спорил, но под общим нажимом сдавался. В этих случаях к ним присоединялась Надежда Петровна, собирала вещи, и о. Арсений буквально выставлялся из дома, при этом он всегда, уходя, говорил одну и ту же фразу: “Здоров я, выдумки все это, выдумки”.
Ирина была особенной: мягкой, женственной, необычайно доброй, и никто бы не подумал, что это уже известный врач-хирург, имеющий звание профессора и свою кафедру. Жизни Ирины я не знала, но видела, что о. Арсений с каким-то особым уважением относился к ней.
Помню приезды инженера Сазикова, красивого, всегда элегантно одетого человека, буквально обожавшего о. Арсения. Размеренной походкой, бывало, ходили они по саду и часами о чем-то говорили. Сазиков был остроумен, находчив и, казалось, весел, но в его больших карих глазах жила постоянная глубокая скорбь. Приезжал он часто и в один из своих приездов разговорился со мной, сказав, что сидел вместе с о. Арсением в лагере и что он бывший вор-рецидивист.
Я страшно удивилась и сказала, что он, вероятно, шутит, но Сазиков ответил: “Я не смеюсь, я старый уголовник, которого вырвал из этой среды о. Арсений”. Сазиков производил впечатление человека, всецело поглощенного верой и работой. Кто и что он за человек, я не знала, о. Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать, так было заведено, но года через четыре после первого знакомства мы встретились с Сазиковым в Москве, и он стал частым гостем в нашей семье, вот тогда-то он и рассказал мне и мужу свою жизнь.
Помню, приезжал совершенно седой человек с волевым лицом, военной выправкой и проницательными глазами. Проходя к о. Арсению, он молча здоровался со мной и другими людьми, сидевшими в комнате Надежды Петровны.
Отец Арсений встречал всех приезжавших к нему всегда радостно и приветливо, но этого человека как-то особенно и тепло, и задушевно. Кто был приезжающий, мы не знали, а интересоваться, как я уже говорила, не полагалось, но однажды о. Арсений позвал меня и сказал: “Познакомьтесь! Иван Александрович Абросимов. Меня не будет – не оставляйте его”. Я хотела что-то возразить, но о. Арсений настойчиво и требовательно повторил: “Не оставляйте, не оставляйте! Вы, Иван Александрович, поддерживайте знакомство с Таней, хорошее, доброе знакомство. Меня не будет – другого иерея ему найдите”.
Вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем.
Частым гостем был Алеша, лагерный Алеша-студент. Рассказывать о нем не нужно, так как каждый из нас хорошо его знает как о. Алексея, принявшего паству о. Арсения на свои плечи и руки.
И все-таки я не могу удержаться, чтобы не написать о нашем отце Алексее.
Милый, светящийся, голубоглазый Алеша еще при жизни отца Арсения стал его опорой и надеждой. Мягкий и добрый, он был отзывчив на человеческое горе, ласков с людьми, хорошо знал богослужение и проникновенно молился. Кто бы мог подумать, что Алексей станет духовным отцом многих из нас!
Помню встречу Сазикова и Абросимова у о. Арсения, помню их встречу с Алексеем. Это встречались люди, которых связывало что-то значительно большее, чем дружба, вряд ли так могли встречаться даже любившие друг друга братья. Сына Алексея Петю Сазиков и Абросимов буквально боготворили, задаривали игрушками и еще Бог знает чем.
Иногда приезжал колхозник или агроном, появлялся поэт-писатель или рабочий-токарь, какие-то старушки интеллигентного вида или старый ученый с женой из Ленинграда, а иногда подолгу живал старенький владыка Иона, находившийся на покое, но сохранивший юношескую память и трезвый ум, большой знаток истории Русской Церкви и богослужения.
Приезжало много народу, обо всех не напишешь, но хочется вспомнить еще и Наталью Петровну, которая многим из нас помогала, многих спасла и сохранила в то время, когда о. Арсений был в лагерях.
Страстная, порывистая, Наталья Петровна всегда была в действии. Как-то мне пришлось наблюдать ее разговор с одной из духовных дочерей о. Арсения. Трудно вспомнить сейчас, о чем происходил разговор, но я почему-то тогда обратила внимание на ее руки. Худая рука ее то сжималась в кулачок, то взволнованно постукивала по ручке кресла, то чертила узоры на столе или нервно теребила кромку скатерти, и было видно, что рука соткана из нервов, нервов, которые живут одной жизнью с мыслью и движением передают собеседнику весь смысл разговора, пытаются заставить его понять самое главное и основное.
Когда разговор приобретал страстный характер, то и руки начинали передавать напряжение мысли, страстность души, и я, почти не слыша слов, понимала все сказанное, понимала значение спора и его принципиальность для Наталии Петровны. Иногда рука в отчаянии бросалась в пространство – это означало, что собеседник не понимает, но постепенно движение руки замедлялось, и она спокойно ложилась на ручку кресла, и я понимала, что спор окончен и Наталия Петровна что-то доказала.
Люди входили и уходили, писали и получали ответы и уносили с собой спокойствие, веру, надежду на лучшие и часть души самого о. Арсения. Часто замечала я, что и сам о. Арсений, говоря со своими духовными детьми и друзьями, получал от них что-то новое и с нетерпением ждал приезда многих.
“Каждый человек, с которым ты общаешься, обогащает тебя, приносит тебе кусочек света и радости, и даже если принес он горе свое, ты находишь во всем волю Божию, и видя, как человек вместе с тобой преодолевает горе, радуешься за него.
Но есть среди моих духовных детей такие, которые обновляют меня каждый раз, когда я встречаю их. Они для меня свет и радость!”
Много раз приходилось мне молиться с о. Арсением. Бывало, стоим мы в комнате, полутемно. Освещены лампадками только иконы, о. Арсений служит. Читает отчетливо, ясно, и чувствуется, что весь ушел в молитву, молится так, что и ты, только что приехавший и сошедший с поезда и еще не отрешившийся от дороги и московской суеты, постепенно идешь за ним, забываешь все окружающее и только видишь иконы Божией Матери, вникаешь в слова молитв, и где-то внутри тебя начинает загораться радость общения с великим таинством Господней службы.
Склонившись на колени, читает о. Арсений про себя иерейские молитвы, и тогда входит тишина, и ты начинаешь в это время молить Господа о милости к тебе, о прощении грехов, о даровании исполнения своих просьб. Нет комнаты, нет рядом стоящих с тобой, ты стоишь в храме, горят лампады, лик Божией Матери, Владимирской и Казанской, смотрит с икон, как бы обнимая тебя своей всепрощающей милостью, и о. Арсений ведет к согревающему и освещающему свету молитвы. Молиться рядом с о. Арсением для всех нас всегда было большой радостью.
Много еще можно рассказывать об о. Арсении, очень много, но мне думается, что главное я рассказала.
Приезд о. Арсения в город написан мною на основе его рассказа нам. О Надежде Петровне написала с ее разрешения, остальное – мои личные впечатления, а у тех, кого упомянула, тоже спрашивала, можно ли о них писать. Перечитывая написанное, вижу, что не смогла я рассказать об о. Арсении так, как надо, не хватило у меня нужных слов. Господи, прости меня, грешную Татьяну. Воспоминания мои не могут быть полными, так как я пришла к о. Арсению только в 1959 г., привела меня к нему Юлия, у которой я лечилась долгие годы. Познакомилась я с Юлией Сергеевной как пациентка в 1951 году, и с тех пор связала нас долгая крепкая дружба. Красивая, высокая, стройная, привлекла она меня с первой встречи внимательностью, ласковостью, добротой. Болезнь моя была запущена за военные годы, недоедание также отразилось на здоровье, лечение не помогало. Юлия Сергеевна, а потом для меня Юля, вылечила, помогла мне во многом, привела к церкви, а потом и к о. Арсению. Духовная дочь о. Арсения, она сама заслуживает специального рассказа, но, к сожалению, по многим причинам я не могу этого сделать.
В 1964 году я прочла воспоминания о ссылке Юлии в Корсунь-Ерши. В этих воспоминаниях очень полно раскрыт характер Юлии Сергеевны как человека, воспитанного о. Арсением, и в этих же воспоминаниях показывается то огромное влияние, которое оказывал о. Арсений на своих духовных детей.
Воспоминания написаны Т.П. на основе рассказа
о. Арсения и его духовных детей.
Мы были почти одногодки. Петр был старше меня на один год, учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах, однако потом пути наши разошлись. Он пошел в Московский Университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое.
Был Петр всегда серьезен, добр, зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку, но я никогда не замечал его приверженности к религии. На несколько лет потерял его из вида и только после окончания мною МВТУ стороной услышал, что Петр досрочно окончил университет, написал книгу, являвшуюся результатом его исследований, каких, я тогда точно не знал, а еще через несколько лет мне сказали, будто он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило.
Я женился, как говорят, “по сильной любви”, но через год жена внезапно ушла к моему товарищу, причем это было так неожиданно и непонятно для меня, что я буквально сходил от горя с ума. Не находил себе места, временами меня захватывала мысль о самоубийстве, бросался то к одним, то к другим людям, пытаясь найти помощь, и даже начал временами пить.
Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. Внезапно пришла мысль о Петре, решил разыскать его. Узнал, в каком храме служит. Поехал, нашел церковь – она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из приделов. Петр служил обедню, молящихся было много и в основном интеллигенция.
Обедня кончилась, все стали подходить под благословение, и я видел, как люди целовали руку Петру и он как-то по-особенному добро говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре.
Благословив всех, он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне, при этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моем пребывании в храме.
Народу в церкви было еще довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином, поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично.
“Что случилось?” – спросил Петр, и этот вопрос, и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил:
“Ничего, я попал сюда случайно”, – хотя ответ был явно нелеп и глуп.
Не отходя от меня, Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же, в храме, и, когда тот подошел, сказал:
“Отец Иоанн! Прошу, отслужите молебен, я сегодня не могу, – и, обратившись ко мне, произнес: – Пойдемте ко мне домой”.
Жил он недалеко от церкви. Шли молча. У него дома я все рассказал, при этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу, и, рассказывая, плакал надрывно и, вероятно, даже по-пьяному.
Отец Арсений – я уже узнал, что он теперь не Петр, – слушал меня не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего рассказа приходил, пытаясь что-то сказать, но о. Арсений отвечал, что занят.
Когда я окончил свой длинный и сбивчивый рассказ, о. Арсений просто и обыденно сказал: “А виноват-то ты сам. Ты же оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремления, желания”. Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз – я осознал и понял многое, чего раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него три дня и ушел примиренным с жизнью, пришел к вере и в церковь.
Вот с этого-то времени и стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником.
Проходили годы, жизнь моя изменилась, я женился, любил вторую жену, шли звания, степени, жизненные успехи часто обгоняли мои способности, я стал известен, но, приходя к о. Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед убеленным сединами профессором, и в то же время это был мой друг и товарищ.
Лагерь и ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли, и, когда он после “особого” обосновался в городке Р., я постоянно ездил к нему и вот об этих поездках и хочу рассказать.
...Сегодня я еду к о. Арсению, как всегда, волнуюсь. Жду от этой встречи чего-то большого и радостного.
Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна.
Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид.
Покинув вокзал, я торопился к о. Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимое ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость, и я шел, волнуясь, в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шел, ожидая, что встреча принесет мне нечто новое и заставит жить лучше.
Вот и улица, знакомая, милая улица. Одноэтажный домик, где жил о. Арсений. Сейчас он был центром притяжения моей души, источником, откуда я должен был унести ту “живую воду”, благодаря которой может жить вера, надежда и человеческая любовь.
Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев. Завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют и заставляли еще больше стремиться в него, и в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нес в себе сомнение в правильности совершенных мною поступков и дел.
Вот и калитка с большим железным кольцом, которое держит в зубах оскалившийся лев, – чудо искусства древних русских кузнецов. Звонок прикреплен на заборном столбе. За калиткою дорожка, покрытая крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она, пропев на несколько голосов, открывается, и меня сразу охватывают сладковатые запахи прелых листьев, увядшей травы, еще теплой земли. Посаженные вдоль забора рябины краснеют гроздьями ягод, висящими в воздухе, и кажется, что находишься ты не в городе и сошел не двадцать минут назад с современного поезда, а попал в какое-то необыкновенное, полное очарования царство ожидаемой радости.
Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери и жду, когда Надежда Петровна откроет мне. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у ее ног, и сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается, лицо Надежды Петровны, вначале строгое, озаряется доброй улыбкой, и она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь, радуюсь предстоящей встрече, волнуюсь. Волнуюсь и думаю: вот иду сейчас к самому близкому мне человеку, которому через несколько минут отдам все свои сомнения, грехи, мысли, раздумья, так чего же волноваться, ближе у меня никого нет. И все равно волнуюсь.
Если в момент моего приезда у о. Арсения находится кто-нибудь из его духовных детей или друзей, я жду, и иногда это бывает долго. Если же он один, то Надежда Петровна тихо стучит к нему и говорит, что я приехал, и тогда через несколько мгновений открывается дверь, и он, мой о. Арсений, идет ко мне, радостный, светлый.
Я подхожу под благословение, потом мы обнимаемся и несколько раз целуемся. Садимся, о. Арсений начинает расспрашивать о Москве, знакомых, друзьях, новых книгах, новостях, и особенно церковных. Задает вопрос за вопросом, я отвечаю. Иногда, услышав что-нибудь смешное, заразительно смеется.
Мы говорим, и я вижу ту же комнату, те же диван и письменный стол с креслом, иконы Божией Матери в углу, горящую лампадку, книги на столике под Иконами, знакомые портреты по стенам и опять книги – в шкафах, на полках, на письменном столе. Все как всегда и в то же время новое, милое, дорогое, хотя и десятки раз виденное мною.
Все новости мною рассказаны, и я замолкаю. Нет, нет, мне еще многое хочется рассказать, но я просто боюсь утомить о. Арсения, отнять у него время. Замолкает и он, задумчиво смотря на меня и в то же время куда-то поверх меня, и от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе. В памяти всплывает все происшедшее за последнее время, и особенно то, что совершено мною плохого.
И вот именно в этот момент о. Арсений скажет мне: “Зачем? Зачем Вы так обидели человека, мы с Вами христиане, и нам не должно поступать так!”
От ожидания этих слов я и волновался, идя к нему, потому что стыжусь своих поступков: я сделал не так, как он учил. Я, начиная рассказывать, пытался оправдаться, найти извинительные причины, но, слушая сам себя, понимал, что не прав.
Приходил час исповеди, и мне делалось не по себе, о. Арсений становился почти гневен, глаза его темнели, я готов был провалиться сквозь землю от ощущения собственной отвратительности и греховности. Молились мы подолгу, и вместе. Молился он необычно легко, молитва с ним очищала, возвышала и поднимала. Он учил, наставлял, вел по пути веры, и в то же время это был самый близкий мой друг, с которым мы по-настоящему дружили, говорили обо всем много, и конечно, о главном – о вере и пути верующего. Он много рассказывал о себе, о своей жизни, о людях, с которыми встречался, унес от них что-то хорошее, научился любить человека, молиться, идти к Богу. Отец Арсений бескрайне любил человека, видя в нем образ Божий.
Бывало, после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знание веры и находил духовные силы.
Я уезжал от него обновленным и от встречи до встречи жил тем, что он мне давал. И мне казалось, что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком, но, конечно, это было наивно. Приезжало очень много его духовных детей и друзей, для которых он был тем же духовным отцом и другом, как и для меня, но каждый из нас считал, что только с ним и именно с ним был о. Арсений таким, как я рассказываю. О нем много говорили, рассказывали о чудесах, бывших с ним, и я помню, как в одном из разговоров я спросил об этом о. Арсения. Он сразу погрустнел, задумался, потом сказал мне: “Чудесного, чуда? Нет, со мной ничего такого не было, что бы можно назвать чудом. У каждого иерея – исповедующего, причащающего, напутствующего умирающих, ведущего своих детей духовных – бывает много замечательных, с духовной точки зрения, событий, так же много необычного происходит и у каждого верующего человека, но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего, раскрыть в них Волю Божию, Его руку, Промысел, Руководство. То, что происходило со мной, или то, что я видел вокруг себя, часто потрясало меня, повергало в трепет, и я начинал отчетливо видеть Волю Господню. Я не раздумывал и не задавал себе вопросов, чудо ли это Господне или результат необычайного стечения обстоятельств в жизни. Я твердо верил и верю, что Господь привел нас к совершившемуся, а следовательно, какими бы путями мы ни шли, во всем была только Его и Его Воля.
И только так понимая совершаемое, человек постигает Господню Волю. Были ли то действия, происходившие вокруг меня, или события, где я сам был участником, – они глубоко поражали меня, и я говорил себе: это чудо, но, сознавая свое ничтожество и несовершенство, понимал, что не мне созерцать чудесное.
В жизни все является чудом, а самым главным – то, что Волею Господней человек живет на земле. Верьте в это!”
И я увидел, что вопрос мой расстроил о. Арсения.
Как-то я спросил о. Арсения: “Отец Арсений! Мы, духовные дети ваши, часто говорим о прозорливости духовных отцов и, нечего греха таить, о том, что и Вы обладаете этим даром, и...”
Отец Арсений резко прервал меня, сказав: “Не продолжайте! Вы плохо знаете, что такое прозорливость. Иерей, постоянно общающийся с людьми, выслушивающий их горести, тяжести жизненные, радости, невольно познает душу человеческую, а если он искренен в любви своей к духовным детям и глубоко внимателен к ним и памятлив, то есть все помнит о них, то невольно начинает видеть, подмечать и ощущать любое движение души верующего, которого он знает и с которым постоянно общается.
Возьмите мать малого ребенка, ведь она все видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия, потому что это ее ребенок, которого она знает и любит. Так и иерей замечает все в пришедшем к нему человеке и часто безотчетно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать, но это не прозорливость, а духовная наблюдательность, которую имеют многие. Прозорливость – это Дар Божий, который дается избранным, таким, как о. Иоанн Кронштадтский, а не нам, грешным. Закончим этот разговор, он ни к чему”.
Уезжал я всегда от о. Арсения спокойным, радостным, однако расставание с ним расстраивало меня. За несколько дней домик, улица, городок становились родными, а комната о. Арсения была обетованной обителью, но приходилось уезжать. Обнимая о. Арсения, получая прощальное благословение, прощаясь с ним, я что-то терял, но жил ожиданием новой встречи.
Вы просили меня прислать Вам воспоминания об о. Арсении. Я никогда не задумывался, что надо написать воспоминания о человеке, оказавшем на меня огромной влияние, потому что все его действия, поступки, его облик, высказанные им мысли живут, для меня в настоящем, а не в прошлом.
Прочтите! То, что я написал, – это рассказ о жизни трудной, убогой, изломанной, не имевшей вначале внутреннего содержания, но в конце жизни освещенной верой, которую мне принес о. Арсений.
...В камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор. Жесткие официальные слова и фразы бьют меня, как острые камни... Диверсия, враждебная агитация, шпионаж в пользу иностранного государства; передал сведения, признан виновным по статье... Слова падают и падают, однотипно, буднично, и вдруг происходит взрыв... “Приговорен к расстрелу”.
Приговор объявлен, а я стою. Кто приговорен к расстрелу? Я, Сергей Николаевич Денисов?
Откуда-то издалека опять приходит жесткий голос: “Распишитесь”, – и передо мною появляется бумага, я тупо смотрю, отталкиваю ее и кричу: “Это ложь, ложь, неправда!! ”
Трое вошедших спокойно стоят, они привыкли к этим крикам. Один из них нарочито громко говорит: “Можно не расписываться, приговор объявлен в законном порядке. Приведут в исполнение в течение десяти дней, на это время улучшат питание”.
Я сажусь на койку, они уходят.
Мне двадцать пять лет –1913 года рождения, сейчас 1938 год. Я комсомолец, секретарь обкома комсомола. Я люблю Родину, партию, работу. Я делал все, как требовала партия, Сталин. Я знал, что врагов народа стало особенно много с 1934-35 гг., когда убили Кирова. Я сам всюду выступал, требуя их смерти.
Но причем тут я? Я всегда шел с партией. Почему меня били, требовали признания, а я доказывал следователю, что он ошибается? Потом я понял, что он враг и пробрался в органы. Я требую прокурора, пишу в ЦК, Сталину, но следователь смеется, показывает мне мои письма и еще больше бьет меня.
На очной ставке Яшка Файнберг – второй секретарь обкома комсомола, мой лучший друг, – показал, что я хотел убить Сталина и вовлекал его, Яшку, в свою группу. Вид у Яшки смущенный, и, когда я кричу: “Ты врешь, негодяй!” – у него делается испуганный вид, но он упрямо твердит: “Ты меня вовлекал, вовлекал”, – и с опаской глядит на следователя. Приводят других свидетелей, и они тоже говорят, что я враг.
Проходит день, два, десять, кормят меня так же плохо, как и раньше. Каждый раз, как дверь камеры открывается и входит надзиратель, я жду, что меня поведут на расстрел.
На 12-й день входит надзиратель и бросает слова: “Быстро, с вещами!” “С какими вещами, у меня их нет”, – думаю я. Я собираюсь на расстрел, но сейчас мне уже почему-то безразлично.
В “черном вороне” набито много народу, стоим, тесно прижавшись друг к другу. Везут долго. Трясет. Молчим. Слышатся паровозные гудки. Останавливаемся. “Выходи!” – раздается крик. Кто-то плачет. Соскакиваем. Охрана стоит коридором, моросит нудный дождь. Куда-то ведут. Толкают, бьют прикладами, гонят к товарным вагонам.
“Выходи, мать твою...” – я взбираюсь по настилу из досок, удар прикладом в спину – и я влетаю в полунабитый вагон. Заключенных гонят и гонят, уже трудно стоять. Закрывают дверь. Едем. Два дня не кормят. Где-то за Горьким – узнали случайно – отцепляют наши вагоны, выгоняют из них заключенных, дают воду и какой-то селедочной протухшей баланды.
Привозят в этапный лагерь. Опытные заключенные, “зеки”, говорят, что расстрел нам заменили работой в тяжелых лагерях: два года в Магадане, на приисках, потом лесоразработки и специальные лагеря “особого режима”. Узнаем, что началась война, от вновь прибывших заключенных и по тому, что многих из нас в первые дни войны неожиданно расстреляли.
...Кончилась война, пришли 50-е годы. Я уже многое понял и насмотрелся, но все равно пишу и пишу в прокуратуру и в ЦК. Никто не отвечает, и я знаю, что из этих лагерей не выходят.
Опух, отек, сердце отказывает, мне еще только 38 лет, а я совсем старик, на вид мне далеко за 60. Почему я еще живу и сколько еще проживу, мне непонятно, но конец должен быть скоро.
...Я пишу эти записки через 10 лет после выхода из лагеря. Сейчас 1967 год, мне уже 54 года, а на вид все 70 с лишним, в метро даже уступают место, что теперь делают редко.
Работаю, конечно. Лучшие годы моей жизни прошли в лагерях, но это было у многих. Годы, проведенные в лагере, не прошли для меня даром. Я стал верующим.
Три последних года был в лагере вместе с о. Арсением. Присмотрелся к нему, к его жизни, поступкам, действиям, увидел веру его, помощь людям. Разговорился с ним, понял его. Невозможно рассказать, сколько он помогал, поддерживал в трудные минуты, отводил от меня опасности, учил переживать неприятности, находить утешение и силы в молитве.
Сам обездоленный, голодный, больной, непонятно, где он находил силы помогать людям и еще по ночам молиться. Но именно в помощи людям и в беспрестанной молитве черпал он силы для себя и других, это давал ему Господь.
Вышел я из лагеря раньше о. Арсения, но разыскал его и встретился только в 1959 году и вот живу теперь от встречи до встречи с ним.
Мне кажется, что большего об о. Арсении не скажешь: Великий Молитвенник у Бога и помощник людям, спасший и помогший множеству страждущих. Молитвой его живу сейчас и буду жить.
Когда он говорит с человеком, то самые простые слова в его устах приобретают другой смысл, очищают, успокаивают и зовут к Богу.
ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О. С.
...Приезжала я часто, подолгу жила около него и поэтому хорошо знала его жизнь.
Писем приходило к о. Арсению много, они приносили радость людей, волнение, страдание, тоску, горе, страстную мольбу о помощи, боль сердца, сомнение или чувство глубокой веры. В каждом письме жил человек, в той или иной степени отражалась его душа. Одни люди открывали жизнь полностью и не находили нужным щадить себя, другие в отрывочных и подчас неоконченных фразах пытались раскрыть душу, третьи только напоминали о себе, глубоко уверенные, что о. Арсений знает, что волнует писавшего и что сейчас нужно предпринять.
Письма редко приходили почтой, в основном, писались на московские адреса знакомым и привозились оказиями приезжавшими духовными детьми и друзьями и передавались Надежде Петровне. Письма шли из самых разных городов, потому что многие друзья о. Арсения, приобретенные им в ссылках и лагерях, были разбросаны по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Каждое письмо читалось внимательно, и писавший знал, что обязательно получит ответ, от содержания которого многое зависело в жизни.
Часто и подолгу живя у о. Арсения и невольно наблюдая, я видела, что, читая письма, он мгновенно внутренним взором охватывал все, что когда-то было связано с жизнью человека, писавшего ему. И этот человек со всей его прошлой и настоящей жизнью, казалось, сейчас же входил в комнату, становился рядом с о. Арсением и продолжал рассказывать о себе даже и то, что не высказал в своем письме.
Прочтя письмо, задумчивый и сосредоточенный, сидел о. Арсений за столом, временами рассеянно вглядываясь в качающиеся за окном ветви деревьев, и, казалось, слушал невидимого собеседника, рассказывающего ему о своих горестях и бедах.
Отрешившись от окружающего, писал он ответные письма, временами осеняя себя крестным знамением, не вставая с кресла, молился и опять продолжал писать.
Для о. Арсения не было простых писем, все они были важными, так как за каждым письмом видел он мечущуюся и страждущую душу человека.
Иногда о. Арсений по нескольку раз начинал писать ответ, но откладывал написанное и снова писал, видимо, что-то заставляло его беспокоиться и сомневаться. Бывало, он подолгу задумчиво сидел в кресле, комнату слабо освещали лампадки, горевшие перед иконами, круг света от настольной лампы вырывал из темноты кусок стола с лежавшим на нем недописанным письмом. В эти минуты лицо о. Арсения становилось усталым и грустным, открытые глаза смотрели на мерцающее пламя лампад, но он не видел ни своей комнаты, ни письменного стола с недописанным письмом, ни меня, вошедшую в комнату. Он видел сейчас только человека, который писал о своих бедах и горе, он был с ним всей душой и, молясь, думал, как вымолить помощь у Господа этому страждущему и заблудшему. Весь охваченный больно за человека, он молился и иногда плакал. Молился за человека, терпевшего духовное или физическое бедствие, которому нужна была помощь. И в этот момент, уйдя в молитву, отрешившись от окружающего, он стоял рядом со страждущим, душой своей ощущая его страдания, волнения, заблуждения, и принимал решение, беря на себя всю ответственность за душу, жизнь и поступки человека.
Наступал момент, когда лицо о. Арсения прояснялось, светлело, он вставал, распрямлялся, подходил к иконам, склонялся в поклонах, осеняя себя несколько раз крестным знамением, прикладывался к образу Владимирской или Казанской Божией Матери и спокойно садился и заканчивал письмо.
Смотря в эти минуты на о. Арсения, я понимала, что это была тяжелая борьба добра и любви со злом и мраком за человека, которому он писал.
Но бывало, ответ не получался, и тогда он глубоко страдал, что-то беспокоило его и не удовлетворяло. Отец Арсений оставлял письмо и долго-долго молился и в молитве находил ответ.
Он брал на свою душу страдания и тяготы духовных детей и нес их во имя Бога, Любви, Людей, а мы, отдавая ему грехи, не видели, что перекладываем на него всю тяжесть, даже не думали об этом.
Каждый из приходивших к нему думал, что только его здесь Больше всех любят и лучше всех к нему относятся, – такова была неисчерпаемая сила любви к людям, дарованная Богом о. Арсению.
Своей любовью к людям вымаливал он у Господа и Матери Божией помощь, прощение, утешение многим и многим. Безжалостны мы были к нему. Сколько писали ненужного, вздорного, необдуманного, заставляли его страдать за нас, но скольких из нас он спас силой своей молитвы, скольким отдал часть своей жизни, здоровья, тепла! Можно ли сосчитать дни и ночи, что он простоял за нас на молитве, и какой радостью для него было то, что он облегчил нам жизнь, утешил, отвел милостью Божией беду, наставил на путь веры, добра и любви, спас колеблющегося. Он был богат любовью, ее хватало на всех приходящих, но не просто пришла эта любовь к о. Арсению, не просто. Долгими годами внутренней работы, беспрестанной молитвой к Господу и Матери Божией, тяжкими жизненными и лагерными испытаниями, подражанием отцам нашей Церкви, наставлением и заимствованием опыта людей глубокой веры достиг о. Арсений великого дара любви к людям. Милость Господа была с ним!
...Однажды я застала о. Арсения за писанием письма, которое он откладывал несколько раз, и, видимо, то, что ответ не получался, беспокоило его. Благословив меня, он сказал: “Простите, не могу говорить с Вами. Расстроен! Наказал Господь: не могу написать письмо, а так нужно ответить, подождите!” Подошел к иконам и стал молиться. Я села в кресло. Молился он долго. Кончив, сел и начал писать. Написав страницу, положил ручку и задумался. Я забылась и очнулась, услышав слова о. Арсения, обращенные ко мне: “Раздваиваюсь временами. Человек и иерей расходятся во мне, а этого не должно быть. Вот и сейчас долг иерея подсказывает одно, а чувства человеческие – другое. Труден и многострадален путь человека. Понять себя, оценить свои силы может не всякий, и духовному отцу надо взвесить, что может и на что способен его духовный сын или дочь, и вовремя указать правильный путь.
Ошибся духовный отец – и погубил человека, душу его. Мудрствовать или полагаться на свое разумение духовному отцу пагубно, недопустимо. Необходимо опираться только и только на помощь Божию, находя это в молитве и только в молитве. Вот сейчас получил письмо, в котором очень хороший человек, проживший сложную, в житейском понимании красивую жизнь и в конце концов победивший себя и пошедший по пути глубокой и истинной веры, просит и молит меня благословить его на путь священства.
Путь иерейства, путь истинного священства всегда был труден, а теперь в особенности. Это не одно служение в храме, как часто считают, это трудный и неизмеримо тяжелый подвиг, когда должно отречься от себя во имя других людей. Ты должен принять в свои руки души многих, а потом вести их. Путь истинного священства труден, на него не каждый способен. Многим же думается, что иереем настоящим быть просто. Да! Просто, если ты не отдал всего себя людям, но трудно, когда ты принадлежишь им.
Тяжело писать мне, чтобы этот человек не шел в священники, так он жаждет этого, но это не его путь. Не приняв иерейства, больше принесет людям добра, но люди, окружающие его, советуют стать ему иереем, видя, что он прекрасной души человек, – и, уже не обращаясь ко мне, сказал, подойдя к иконам: – Верую, Господи, что поможешь ему, верую!” – и стал молиться.
Помню, приходили письма, читая которые он радовался и возносил благодарственные молитвы. Иногда, прочтя письмо, радовался, словно ребенок, молился, благодаря Матерь Божию и Господа.
Я много писала о. Арсению, и часто в письмах моих было много мелкого и ненужного, и только увидев, как он относится к нашим письмам, поняла всю нашу жестокость и безжалостность к нему.
В свои ответы о. Арсений вкладывал душу, он отрывал частицу ее и передавал человеку. Получая от него письмо, ты вдруг со страхом и удивлением узнавал о себе то, что еще еле-еле определилось в тебе, о чем ты никому и ничего не говорил, а только отрывочно думал и даже старался скрыть от самого себя, а даваемый им совет оказывался единственно правильным решением.
Особенностью о. Арсения было то, что он никогда ничего не требовал, а только мягко и вдумчиво советовал тебе, а ты сам делал выбор, но приходившие к нему как-то само собой поступали именно так, как говорил он, ибо все совершалось во имя Божие. Я знаю, только два или три раза он требовал выполнения данных им советов. Память его была неисчерпаема, помнил он сотни имен, адресов своих духовных детей, помнил всю их жизнь, все, что они говорили и рассказывали о себе, помнил родных их. Он помнил и знал все. Если кто-либо не писал ему, то беспокоился и сам писал этому человеку.
Иногда, служа у себя в комнате обедню, вдруг начинал поминать новопреставленного раба Сергия или болящую Антонину, а дня через три мы узнавали из писем или от приезжих, что умер Сергей Георгиевич, или тяжело больна Антонина, или Антонина приезжала и говорила о болезни. Что это было? Прозорливость, знание совершившегося? Мы никогда не спрашивали об этом о. Арсения, но так было.
Беседы, исповеди, разговоры с ним надолго оставались в памяти. Можно было не видеть о. Арсения месяц, полгода и, приехав к нему, начать рассказывать или исповедоваться, и ты вдруг начинал понимать, что он уже все давно о тебе знает, знает твои поступки, ошибки, грехи.
Бывало, рассказываешь о себе во время исповеди, еще только начинаешь фразу, а он уже, тихо перебивая тебя, полностью ответит на твой невысказанный вопрос или выскажет свое мнение о твоем поступке. Случалось, что только поздороваешься, зайдешь в комнату, а он посмотрит на тебя и скажет: “Не ожидал я ссоры с братом из-за мамы, не ожидал. Вы к матери ближе, чем он, и должны понимать”. Стоишь перед ним, готовая провалиться сквозь землю. Так бывало со всеми.
Многие из нас замечали, что у о. Арсения была особая привязанность к “лагерникам”, как мы заглазно называли тех его духовных детей, которые сдружились с ним в лагерях и ссылках. В одном из разговоров я как-то сказала об этом о. Арсению, сказала в виде укора. Слушая меня, о. Арсений задумался на минуту, а потом сказал: “Вы правы. Я, действительно, привязан ко многим из них. Лагерь показал мне жизнь и людей по-другому, дал мне возможность понять промысел, и милость Божию, и людей иначе, чем я когда-то знал их в условиях воли.
Все обнажено, обострено до предела, мера страданий человеческих доведена до черты, ты обречен на смерть, медленную и мучительную, и все это сознают. И вот в это время мучительного долговременного умирания найти в себе человека, сохранить веру, помогать другим очень трудно, но были такие люди, много было таких, которые именно в лагерях на грани мучительной смерти находили в себе столько духовных сил, что поражали меня. Эти люди научили меня в условиях лагеря понимать и находить Бога, показали великую силу веры, значение добра, человечности и духовного подвига. Они – эти люди – спасли меня от смерти, удержали от сомнений и уныния и дали возможность выжить в условиях лагеря, научили молиться среди ругани, драк и разговоров. Да, я бесконечно благодарен моим лагерным друзьям, благодарен Господу и Матери Божией, пославшим их мне. Встречаясь и вспоминая этих людей, я каждый раз вижу то большое, что сделали они для меня и многих, многих других. Сделали во имя Господа и Человека. Я их вечный должник, вот почему я так привязан к ним”.
Сказал и задумался. Вспоминая жизнь о. Арсения в лагере, думала, скольких людей он сам спас от смерти и привел к вере.
...Во время болезни и в последний год жизни о. Арсений сильно ослабел, я читала ему присланные письма и писала под диктовку ответы. Меня поражала его духовная мудрость. Читая ему письма, полученные от духовных детей, я вначале удивлялась, что ответы часто совершенно не совпадали с вопросами письма, и думала, что о. Арсений ошибается, и два-три раза пыталась его поправить. Отец Арсений сразу сбивался и не мог дальше диктовать ответ, так что приходилось откладывать письмо. Потом я поняла, что просто ошибалась. Приходили ответные письма, в них люди благодарили о. Арсения за наставления и советы, которых, как мне казалось, они не просили. Вот тут-то я и поняла всю глубину его прозорливости, мудрости и понимания души человеческой.
Он был необычайно мягок в обращении с людьми, но непоколебимо тверд в избранном пути. Молитва и жизнь для людей были основой его подвижничества.
Здоровье и силы возвращались медленно. За три года, прошедших с момента освобождения, о. Арсений изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда державшийся прямо, внешне он производил впечатление здорового человека, а приветливость и внимательность к собеседнику заставляли тебя забывать, что он тяжело болен и устал.
Только глаза его часто становились грустными и печальными, и временами казалось, что горе и страдания многих людей, прошедших перед его взором, продолжали стоять перед ним. Мы знали, что встреченных им людей он никогда не забывал. Там, в лагере “особого режима”, он не замечал своих болезней, хотя казалось, что именно там они должны были особенно сказываться. Здесь, на воле, болезни обострились: суставный ревматизм, жестокая, внезапно приходящая стенокардия часто прерывали течение размеренной жизни и приковывали о. Арсения к постели. Годы и болезни наступали неумолимо, но о. Арсений не замечал ни того, ни другого. Болезни он скрывал от окружающих, и только внимательные глаза врача Ирины подмечали его заболевания, и она, не слушая возражений, укладывала его в постель. Но это мало изменяло образ его жизни. Лежа, он говорил с приезжими друзьями, писал или диктовал ответы на письма. Писем приходило много. Ежедневно кто-нибудь приезжал. Хорошо, если это был один человек, бывали дни, особенно выходные, когда приезжало до 10-ти человек. С каждым надо было поговорить, ответить на вопросы, вдуматься в его жизнь и дать совет. Без молитвы о. Арсений не мог жить, а на нее не оставалось времени, поэтому молился он, в основном, ночью, сокращая и без того короткий промежуток времени, отведенный для сна.
Друзья и духовные дети любили его, но, приезжая или присылая письмо на нескольких страницах, каждый думал, что он только один у о. Арсения, а в результате все это складывалось в огромную, непосильную работу для тяжелобольного человека, и, хотя каждый из нас жалел и старался сделать ему что-то хорошее и приятное, все вместе губили и утомляли его.
Иногда возникала необходимость в поездке о. Арсения в другой город для неотложной встречи с духовными детьми.
В конце 1960 года о. Арсений решил выехать в Ленинград для розыска и встречи с теми двумя людьми, адреса и имена которых назвал умирающий Михаил (см. воспоминания о Михаиле). Сопровождала его я. Приехали рано утром. Отец Арсений не захотел зайти к знакомым, а прямо с вокзала поехал по адресу, когда-то данному Михаилом. Я отговаривала и предлагала съездить самой узнать, живут ли они еще по этим адресам, но он ответил: “Не надо, поедемте. Они не уехали”.
Вышли на вокзальную площадь. Было шумно и, как всегда, когда приезжаешь в новый город, запутанно и бестолково. Отец Арсений не захотел ехать на такси, а, спросив, какой троллейбус идет по Невскому проспекту, заторопил меня к остановке. Ехали молча. Отец Арсений с особым вниманием рассматривал людей, дома, улицы. Сошли где-то в середине Невского и пошли по улице, отходящей от него в сторону. Дом был большой, шестиэтажный, светлый, с двумя широкими подъездами, у одного из которых висело несколько бронзовых и гранитных досок, говоривших, что когда-то здесь жили известные всему миру ученые. Поднялись на лифте на четвертый этаж. На входной квартирной двери блестела медная табличка с фамилией разыскиваемого нами человека. Я позвонила. Довольно быстро открылась дверь, и женщина лет сорока пяти, выйдя на площадку, спросила: “Вам кого?” Отец Арсений назвал фамилию, имя и отчество хозяина квартиры. Вытирая руки о передник, женщина приветливо сказала: “Проходите”. Мы вошли в переднюю. “Подождите, он сейчас выйдет, – и, прикрыв дверь в одну из комнат, негромко сказала: – Сергей Сергеевич! К Вам пришли”. И почти тотчас в переднюю вышел высокий человек, с красивым удлиненным лицом, окаймленным черной бородой. Большие черные глаза его поражали живостью и проницательностью. Окинув нас взглядом, он спросил довольно резко: “Чем могу служить?” – “Я по одному давнему поручению пришел к Вам”, – ответил о. Арсений. “Очень рад, очень рад. Прошу, раздевайтесь”. Мы разделись, втиснув наши пальто на вешалку, и вошли в большую комнату, из которой перед этим только что вышел Сергей Сергеевич.
Огромный письменный стол стоял у окна и занимал четверть комнаты. Старинная мебель стояла у стен, сплошь завешанных картинами вперемежку со старинными иконами. Тяжелые высокие шкафы были заставлены книгами. Книги заполняли стол и лежали на некоторых креслах. Середину комнаты занимал небольшой четырехугольный стол, покрытый белой скатертью. Вся обстановка комнаты и ее хозяин как-то особенно врезались мне в память и подчеркивали профессию Сергея Сергеевича. “Чем могу служить?” – спросил Сергей Сергеевич и пригласил нас садиться. Женщина, открывшая нам дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола.
“В 1952 году было угодно Богу встретить мне человека, Михаила Терпугова. Встретился с ним в лагере “особого режима”, из которого сам вышел только в 1958 г. Исповедуясь, Михаил назвал мне Вашу фамилию и адрес и просил обязательно встретиться с Вами, сказав мне, что обоим нам это необходимо. Просил не забывать его в молитвах Ваших и рассказать о последних минутах его жизни”.
Сергей Сергеевич почти приподнялся с кресла, весь подался вперед, сжал подлокотники, при этом глаза его стали еще темнее и в них промелькнуло что-то тревожное. Несколько мгновений смотрел он неподвижно на о. Арсения, потом резко встал и, отчеканивая каждое слово, произнес: “Простите, но не ко мне Вы. Ошиблись, вероятно, адресом”.
Женщина, стоявшая около стола, шагнула вперед и, издав что-то похожее на стон, проговорила со слезами в голосе: “Сережа!” – “Оставь, Лиза! Да! Да! Ошиблись. Пришли не по тому адресу. Извините! Не задерживаю! Ошибка у Вас произошла, государи мои милостивые”, – произнес взволнованно Сергей Сергеевич. И в произнесенной им фразе чувствовалось, что слова “государи мои милостивые” звучали насмешкой. Мы поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Я оделась и стала подавать пальто о. Арсению. Женщина оставалась стоять в комнате, но потом быстро подбежала к нам и, схватив о. Арсения за руку, сказала: “Скажите, кто Вы? Ваше имя?”– “Петр Андреевич Стрельцов – иеромонах Арсений, – и также назвал мое имя,– приехали из Р... Специально к Вам!”
“Подождите! Не уходите, вернитесь, сядьте! Подождите 20 минут, не уходите. Не сердись, Сережа!” – И женщина бросилась назад в комнату и стала куда-то звонить по телефону.
Мы растерянно стояли в передней. Из комнаты слышались возгласы: “Это я, Лиза! Прошу тебя, немедленно приходи. Понимаешь, немедленно! Бросай все. Очень, очень надо! Все узнаешь, поможешь”. Сергей Сергеевич угрюмо стоял около нас. Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала: “Прошу Вас, разденьтесь и подождите минут 20, может быть, я Вам чем-нибудь помогу. Сережа! Не сердись, сейчас все разъяснится”.
Мы прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью, а Сергей Сергеевич беспомощно и рассеянно сел за письменный стол. Женщина побежала на кухню, и минут через пять на столе стоял чайник, чашки и что-то из печенья. Некоторое время все молчали, было тяжело и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, я заговорила о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо пересиливая себя, рассказал нам о двух или трех пейзажах, назвав имена художников, но о. Арсений, встав, подошел к одной из икон Божией Матери и стал внимательно рассматривать, а, рассмотрев, сказал: “Прекрасная икона, такой иконописный и в то же время божественно-человеческий лик Матери Божией редко удается увидеть на иконах”.
Сереже тоже нравится эта икона, но он не может все еще определить точно время и место ее написания. Вы понимаете в иконах?”
“Должен понимать”, – ответил о. Арсений и, еще раз подойдя к иконе, стал ее рассматривать. “Разрешите снять и взять в руки”, – обратился он к Сергею Сергеевичу, тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать о. Арсению. Отец Арсений протянул к иконе руки, Сергей Сергеевич отстранился, видимо, не желая, чтобы незнакомый человек брал икону, но, взглянув на о. Арсения, сразу бережно передал ему ее.
Я и стоявшая женщина с удивлением смотрели на о. Арсения. Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры были так молитвенны, благостны, что казалось, брал он “Пречистую Чашу с Кровью и Телом Спасителя”, и это, конечно, понял и увидел Сергей Сергеевич.
Держа икону в руках и подойдя с ней к окну, бережно осматривал ее о. Арсений. Взгляд его, строгий и молитвенный, долго и пытливо задерживался на изображении; наклоняя икону к свету, он долго всматривался в лик, медленно повернул обратной стороной, осмотрел врез шпонки, а потом торцы, но не возвратил икону Сергею Сергеевичу, а положил ее аккуратно на стол.
Свет из окон падал на белую скатерть и лежащую икону, и мне захотелось вскрикнуть – таким несказанно дивным оказался вдруг лик Божией Матери. Там, на стене, этого не было видно. На руке Матери Божией свободно сидел Младенец, и Она, Мать, прижимала Его к Себе и смотрела взором, полным нежности и любви на Младенца Своего, и в то же время в глазах Ее лежала затаенная скорбь, ибо знала участь Сына Своего и знала, для чего должна была растить Его. Знала о предстоящей крестной Его смерти. И казалось, материнская любовь, и божественное знание, и предначертание жизни Сына и Его страданий жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбен.
Отец Арсений молчал, а Сергей Сергеевич смотрел на икону, полный восторга. Он увидел Ее такой впервые.
Нежная кружевная вязь золота, разбежавшаяся по одежде Матери и Младенца, подчеркивала и усиливала впечатление красоты и неземного величия. В мягкой полуулыбке Матери была милость, и лицо говорило: “Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Придите, и Я успокою вас!”
Оторвав глаза от иконы, я взглянула на Сергея Сергеевича, он смотрел, пораженный, на лежащую на скатерти икону, он не видел ее такой раньше. Медленно подняв голову, он посмотрел на о. Арсения, и я уже поняла, что он верит ему и хочет, чтобы о. Арсений оказался именно тем человеком, который знал Михаила.
Отец Арсений распрямился и, смотря на икону, произнес: “Разве важно время и место написания, разве надо знать мастера – это нужно искусствоведам. Вы взгляните на лики Младенца и Матери Божией, и, если Вы верующий, поймете, что один человек, без помощи Божией, не мог бы написать такую икону. Взгляните!
Когда писана? В начале XVII века в Великом Устюге. Мастер? Знает Бог один, который вдохновлял иконописца. Доска очень старая и много раз записанная, а эта запись реставрировалась, но очень давно. Все это неважно, в этой иконе живет Дух Божий. Взгляните! Каким беспредельным душевным миролюбием веет от ликов младенца и Матери Божией. Иконописец был полон любви и веры Христовой, и свой великий талант он умножил верой и любовью, и поэтому лик Богоматери стал духовно-вещественен, он утешает всех, кто изнемогает в скорби и печали, кто обездолен, наг, сир, находится в узах, кто терял веру в людскую справедливость, кто немощен. Он ободряет людей этих, он вселяет в них надежду, напоминает им, что есть другая жизнь, очищенная от скверны и страха, от крови и злобы мира сего. Лик Матери Божией зовет нас к Себе, дает нам надежду на спасение”.
В передней раздался звонок. Елизавета Андреевна – так нам представил ее потом Сергей Сергеевич – кинулась открывать дверь. В передней разговор велся шепотом. Говорили две женщины, слышалось, что снимали пальто. Сергей Сергеевич напряженно смотрел на дверь, весь вид его говорил, что для него будет ужасно, если о. Арсений окажется не тем человеком, за которого он несколько минут тому назад принял его.
Дверь в комнату порывисто открылась, вошла Елизавета Андреевна и за ней женщина, которая, взглянув на о. Арсения, бросилась к нему: “Отец Арсений! Отец Арсений! Как же Вы не сообщили о своем приезде! Господи! Как хорошо, что Вы приехали. Лиза говорит, что Сергей Сергеевич Вас за шпика принял! Я о Вас Лизе рассказывала, вот она и догадалась позвонить мне. Давно хотела Сергея с Лизой к Вам привезти, а Вы сами приехали. Господи! Это же замечательно. Благословите!” И все сразу переменилось. Отец Арсений прожил у Сергея Сергеевича четыре дня. Второго знакомого Михаила я разыскала и пригласила к о. Арсению.
На обратном пути о. Арсений сказал мне: “Неисповедимы пути Господни! Сколько прекрасного, нужного дала мне эта встреча”. Потом в течение многих лет встречала я у о. Арсения Сергея Сергеевича, Лизу и третьего ленинградского друга инока Михаила.
1967 г.
...Я помню! Я никогда не смогу забыть лагеря “особого режима”. Даже теперь, через много лет, вся обстановка лагеря и жизнь в нем постоянно возникают передо мною. Вспоминается все до мельчайших подробностей, а ночью все это переходит в повторяющиеся кошмары.
Арест, беспрерывные допросы с применением физического воздействия, тюремная камера, долгий пеший переход в колонне, окруженной конвойными с автоматами и сторожевыми овчарками, моросящий осенний дождь, крики охраны перед началом движения: “Два шага в сторону – стрельба без предупреждения!” Все это было пугающим, страшным, но постоянно жила надежда на какое-то лучшее будущее. И вот, наконец, лагерь особо усиленного режима, и я только в нем понял, что все предыдущее было еще не самым страшным. Восемь месяцев, прожитые в “особом”, оказались тяжелейшими, непереносимыми испытаниями.
Ночь. Барак заперт. Вдоль коридора, образованного уходящими в темноту нарами, тускло светят электрические лампочки, то почти затухая, то наливаясь красноватым, еле тлеющим огнем. Полутемно, только сквозь забитые снегом и льдом окна вдруг пробьется скользящий луч прожектора, захватит кусок стены или нар и мгновенно исчезнет. За стенами барака 30-ти градусный мороз, ветер бьется в окна, рыскает, стонет и плачет на тысячу ладов. В бараке люди, их много, но ты один, совсем один, чужой для всех, и для тебя все чужие. Ночь, у которой нет конца, охватывает тебя. Звуки постепенно смолкают, и ты начинаешь прислушиваться, как тишина окружает, подступая к нарам, стенам, окнам, как она выходит из темноты и становится рядом с тобой, и тогда ужас охватывает все твое существо, и сознание беспомощности и безысходности не покидают тебя всю ночь. В тишине отчетливо возникало прошлое, безысходное настоящее и будущее, и даже отдельные бредовые крики, стоны и ругань спящих заключенных не отгоняли тишины, а еще более подчеркивали твою отрешенность от жизни. Временами создавалось впечатление, что ты мог бы тронуть руками окружающую ночную тишину, облепившую твои мысли тоской и страхом. Барак молчал. Ушедший день вспоминался как тяжелый, давящий кошмар. Смерть все время стояла рядом с тобой, сопровождаемая побоями, унижением, голодом, осквернением и унижением человеческой души.
“В карцер тебя, гнида! На расстрел пошлю!” – с искаженным от злобы лицом кричало лагерное начальство. “Убью, пришибу!” – ежеминутно орали уголовники, и это были не пустые угрозы, а реальные действия, совершаемые ежечасно перед глазами. Ночь не возвращала сил, она истомляла, заставляла страдать больше, чем ушедший тяжелый день. Заключенный “особого” жил без срока, один срок кончался – добавляли неведомо за что новый, и так, пока не умрешь. Надеяться не на что. Сотни дней, каждый из которых прожит на грани смерти и похож один на другой.
...Перевели меня в новый барак. На четвертый день замечаю, идя к парашам, недалеко от входа в барак человека, постоянно стоящего около своих нар. Что он делает ночью и стоя? Когда же спит? Случайно узнаю, что этот заключенный молится. Иногда уголовник, проходя мимо старика, скажет: “Шаманишь, поп?”
Все равно мы должны здесь сдохнуть, а этот еще молится. Зачем? Для чего молитва? Там, на воле, до лагеря я слышал, что есть верующие и их ссылают, потому что они борются против власти. У нас в семье религия и суеверие считались признаком отсталости, некультурности. Что может дать человеку вера вообще, и во что можно верить здесь, я лагере: “особого режима”, где все мы должны обязательно погибнуть? Отчаяние все сильнее охватывало меня, жить не хватало сил. Я решил умереть. Для родных я давно уже умер, в Москве на их запрос, вероятно, уже дан ответ: “Не числится”. Решение принято: так жить нельзя. Я хочу умереть не тогда, когда захочет охрана или уголовники, добьет мороз или голод. Я хочу умереть сейчас, теперь. Отмучился – и конец. Может быть, это трусость? Нет, необходимость. Бороться за жизнь можно тогда, когда есть надежда. В “особом” нет этой надежды – впереди мученическая смерть. Ночью я иду к парашам, там выступает балка, она уже испытана многими. Веревку я украл на работах, обмотал вокруг себя и пронес. Скорее кончать, а потом меня не будет – и хорошо.
Иду по коридорам между нар, мимо старика. Он стоит и молится по-прежнему. Кругом спят. Старик, как всегда, ничего не замечает, он целиком ушел в себя. Хочу быстро пройти и кончить. Иду, но старик вдруг оборачивается, шагает ко мне в проход между нарами, берет за руку и говорит: “Садитесь! Вы не один здесь, нас таких много, но с нами Бог!”
Я сажусь, а он говорит тихо, спокойно, проникновенно и доброжелательно. Слушаю старика и вдруг начинаю полушепотом отвечать ему. Сейчас я ненавижу его, он мешает мне, это не его дело, как я распоряжусь со своей жизнью. Но он говорит о моей жизни и почему-то знает ее, знает настолько подробно, что это пугает. Откуда он может знать?
Разговор его спокоен. Да! Он понимает – мне трудно. Я болен, истощен, оскорбления, унижения, голод страшны, но все это можно победить и надо обязательно победить, и если я захочу, то победа останется за мной.
Я озлобленно отвечаю, оскорбляю, стараюсь уйти, а он, сжимая мне руку, тихо и спокойно говорит. Прерываю его, но он продолжает говорить о жизни, о том, что человек не имеет права сам уничтожать ее, а должен сделать все, чтобы сохранить. И вот наступает минута, когда я уже слушаю старика и начинаю отчетливо понимать, что он неведомыми путями уже подал мне руку помощи. Ничего не изменилось для меня в “особом”, но я уже не одинок.
Он не навязывает мне своего Бога, он только упомянул о Нем. Сейчас старик просто помогает мне, и я вижу и понимаю, что он имеет какую-то особую внутреннюю силу, которой у меня нет. Я начинаю чувствовать, что этот человек берет на себя все мое безысходное горе и тяжесть лагерной жизни, он понесет это вместе со мной, и я не иду больше к балке и навсегда остаюсь с этим стариком. Потом я узнаю, что он совсем не старик, а просто прожил несколько лет в “особом” и изможден до последней степени. Одни зовут его “Петр Андреевич”, другие “отец Арсений”, и это имя, образ и жизнь его забыть никогда нельзя.
Отец Арсений открыл новую жизнь, привел к Богу, заново создал мое внутреннее “я”.
Поэтому хочу рассказать о нем самое главное, самое основное. Говорить о нем можно бесконечно, дела его беспредельны, и имя им – Господь и Любовь, творимая во имя Бога, ради людей. Помню его слова: “Каждый человек что-то должен оставить в жизни: построенный своими руками дом, посаженное дерево, написанную книгу – и все это необходимо совершить не для себя, а для человека. Люди будут смотреть на взращенное тобою дерево или сделанную вещь, и в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесешь им радость, и, вспомнив тебя, они призовут Господне благословение. Неважно, что именно делаешь, важно – к чему ты прикасался, что меняло форму, становилось лучше, чем было раньше, чтобы в этом новом оставалась частица тебя самого, и все совершалось бы во имя Господа и любви к людям”. “Но самое главное, – говорил о. Арсений, – в любом своем делании помогать человеку, облегчать его страдания, молиться за него”.
Так поступал о. Арсений и учил тех, кто приходил к нему. Он отдавал самое лучшее, самое сокровенное тепло своей души, веру, опыт исповедания веры, учил молиться и разжигал в соприкасающемся с ним человеке искру Божественного. Кто из знающих его забудет дела, совершенные им? Сколько людей пришло к нему и унесло с собой все это, и сколько радости, умиротворения и спокойствия взяли мы у о. Арсения!
Я пережил все это сам, я видел, как на моих глазах перерождались, созидались и обновлялись души людей, и люди уходили верующими, унося с собой тепло, взятое у него. Вспоминая прошедшее и видя свое настоящее, я и сам начинал передавать людям Свет Веры, любовь и доброту, полученные от о. Арсения.
Много людей, живших с ним рядом, ушло из жизни, но они уходили уже не озлобленными и ожесточенными, а озаренными и освященными верой в Бога, и прошедшая мучительная жизнь не казалось им страшным кошмаром, а воспринималась как неизбежное испытание, как путь к Богу.
И часто, перед тем как уйти из жизни, эти люди сами успевали осветить своими делами путь другим. Если же человек встречался с о. Арсением в свой последний смертный час, то и тогда он облегчал его страдания, и уходил этот человек со светлой, успокоенной душой. Дар души, данный о. Арсению Господом, был так велик и приумножен трудами и жизнью, что, щедро раздавая людям свое богатство, этот человек не беднел, а только увеличивал его, сам не ведая того. Когда он говорил, то ты сам отчетливо понимал, что он знает о тебе больше, чем ты сам. Он знал, что будет с тобой. Глаза его смотрели открыто, внимательно, ласково. Смотря в них, ты начинал черпать силы и спокойствие, а когда он говорил, голос его убеждал, и человек верил ему и убеждался потом, что он прав.
Он был мужественный и сильный во всем, он ничего не боялся в жизни. Бог, Бог и Бог был его знаменем, силой, прибежищем и упованием, и с этим он шел среди тягот, мучений, страданий.
В монашестве ему дали имя Арсений, что значит мужественный, и это было символично.
Я вышел из лагеря на несколько лет раньше о. Арсения, много писал ему, а после освобождения разыскал и встретился с ним в старинном русском городке.
Небольшой домик, комната, где он прожил последние годы своей жизни, не изгладятся из моей памяти. Сколько радостных дней и часов было проведено здесь, разве можно когда-нибудь забыть!
Вы входили в комнату о. Арсения, и первое, что видели, – это иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, Нерукотворный Спас, Николая Угодника и Иоанна Богослова. Иконы были древнего письма, необычной тонкой работы, перед ними постоянно горели две лампадки: красная и зеленая, стоял хрустальный стакан, в котором всегда было несколько живых цветов. Здесь же, на столике, покрытом белой скатертью, лежали: Евангелие, Псалтирь, Служебник и очередная Минея, на письменном столе, стоявшем у окна, лежали книги – богословские, по искусству и древней архитектуре, стихи современных и старых поэтов, технические труды, брошюры и журналы.
У одной из стен стоял шкаф, забитый книгами, у другой стены располагался диван, на котором о. Арсений отдыхал днем и спал ночью. Три удобных старинных кресла дополняли обстановку, на стенах висело несколько картин, подаренных известными художниками, с которыми дружил о. Арсений. Почти все картины изображали природу, и только на одной была написана женщина на фоне лагерного барака. Красивое и привлекательное лицо было изможденным, усталым и почти серым от страданий, и только в глазах жили убежденность, сила и несгибаемая воля. Портрет был написан до пояса. Фоном картины служил серый барак, на женщине была серо-зеленая телогрейка, коричневая мятая шапка-ушанка. Все это создавало впечатление безысходного страдания человека, но стоило только взглянуть в глаза, и ты сразу видел, что человек жив; дух его не сломлен, он живет, несмотря на страдания, ожидание смерти, и ты понимал, что женщина никогда не согнется, не сдастся, не отречется. Сейчас она немощна, физически раздавлена, но дух Божий живет в ней и никогда не умрет, и глаза, смотрящие с портрета, рассказывали о6 этом. Портрет писал большой художник, друг о. Арсения.
Кого изображал портрет, мы не знали, но было известно, что это была духовная дочь владыки Макария, погибшая в лагере.
Вернувшись из лагеря, о. Арсений не стал служить в церкви. Первые месяцы после выхода из лагеря жил уединенно, но потом центром его жизни стала большая духовная семья, разбросанная по разным местам Советского Союза.
Люди приезжали, писали (эта фраза ошибочна, писали очень много, но не в г. Р., а московским духовным детям, привозившим полученные письма о. Арсению, в среднем в день получалось 18-20 писем. – От составителей). Приезжали каждый день не менее одного-двух человек, в субботу и воскресенье приезжали иногда недопустимо много – 8-10 человек, и хозяйка дома, Надежда Петровна, в эти дни волновалась за о. Арсения.
Духовных детей было много, и почти каждый приезжал два раза в год. В одной из комнат домика Надежды Петровны стояли две кровати, на которых спали приезжие, если же народу бывало много, то приходилось располагаться на полу.
Свою работу искусствоведа о. Арсений не забыл и посвящал ей иногда свободное время, но практически этого времени не бывало. Он написал несколько статей, но не смог опубликовать. Печататься не давали, хотя бывшие “лагерники” помогали, кое-кто из них вернулся к работе в издательстве, имя искусствоведа Петра Андреевича Стрельцова не было забыто.
Вставал о. Арсений в пять утра, ложился в 12 ночи. Молился беспрерывно, каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжающими.
Горели лампадки, и в тишине комнаты слышался его негромкий голос, произносящий слова молитвы. Молиться с ним было необыкновенно радостно, благодать Господня осеняла тебя. Как-то особенно тепло, духовно, с чувством глубочайшей любви и в то же время величественности молился он Госпоже нашей Владычице Богородице – Матери Божией.
Акафист Владимирской Божией Матери читал так, что ты начинал забывать, где находишься и что вокруг тебя. Произнося заключительные слова икоса: “Радуйся, Пресвятая Владычица Богородица, благодать и милость иконою Твоею нам являющая”, – он прославлял все безначальное совершенство Царицы Небесной, а, умоляя и обращаясь к Ней, он просил и говорил от имени всех детей своих духовных.
Раз в неделю он служил панихиду, и это было моление о тысячах душ, и эти панихиды потрясали нас, молящихся. Слыша и видя, как он молился об умерших, мы отчетливо понимали, что о. Арсений видит каждого поминаемого, чувствует его душу. Временами о. Арсений плакал, и мы, присутствующие, понимали, что произносимые им имена умерших не что-то ушедшее, а родное, близкое, любимое, знаемое.
Приезжали и уезжали друзья и духовные дети, унося с собою полученный запас сил, веры, желания помогать другим, желание быть лучше.
Когда-то большая, собранная о. Арсением община за долгие годы его ссылок и заключения уменьшилась: одни умерли или сильно состарились, другие тяжело болели, третьи отошли из страха, но все же большая часть осталась. Много пришло и новых, значительно больше, чем утратилось. Пришли те, которых о. Арсений встретил в ссылках, лагерях, или те, кого привели его прежние духовные дети или лагерники, вроде меня.
Я знал и помню многих, но кратко расскажу только о тех, кого часто встречал в свои приезды к о. Арсению или встретил в лагере и там полюбил, а потом так же, как и они, стал его духовным сыном.
Врач Ирина, отец Алексей, раньше называемый Алексеем-студентом, Абросимов, Сазиков, Авсеенков, хозяйка домика Надежда Петровна и многие, многие другие вспоминаются мне, добрые, хорошие, замечательные люди. О них много написано и рассказано их друзьями.
Вспоминается приезд к о. Арсению в 1962 году владыки Н., это был серьезный богослов и философ и, как Многие говорили, хороший духовник. Приехал для исповеди. Многие духовные дети о. Арсения ходили в церковь, где служил владыка.
Прожил он два дня, исповедовался и сам исповедовал о. Арсения. Много говорил о судьбах Русской Церкви в настоящее время, о том, что важно сейчас для верующего, и, смотря на обилие книг в комнате, сказал: “Только Евангелие, Библия и Творения Святых Отцов нужны верующему, а остальное не стоит внимания”.
Отец Арсений, помолчав несколько мгновений, ответил: “Вы правы, Владыка, главное в этих священных книгах, но человек бурно развивающегося века резко отличается от верующего IV века. Горизонт знаний необычайно раздвинулся, понятия стали иными, наука раскрыла много неизвестного, обилие знаний внесло массу противоречий. Современный иерей и верующий должны много знать для того, чтобы разобраться в окружающем. Теория относительности, современное состояние воинствующего атеизма, знания по биологии, медицине, а тем более современная философская наука должны быть известны ему. К иерею приходят: студент, врач, ученый-физик, рабочий, и часто каждому из них надо ответить, ответить так, чтобы Бог, вера не звучали анахронизмом или полуответом”.
Молитва и молитва всегда была с о. Арсением, размышлял ли, шел или куда ехал, он все время молился, и в еле уловимом движении губ угадывались слова: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”.
Помощь людям, помощь в любой ее форме была основой его жизни. В тяжелейших условиях лагеря, будучи истощенным, больным, находясь на грани смерти, он отдавал себя людям, делая за них работу, ухаживая за больными, заботился о немощных и вновь пришедших в барак, делился Своим скудным пайком с обездоленными.
Здесь, на воле, он по первому зову ехал куда угодно, лишь бы помочь, отдавая все, что имел. Мы часто старались уберечь его от таких поступков, понимая, что, отдав последнее, он останется ни с чем. Материальную помощь он не принимал, считая, что сам должен обеспечивать себя, но мы через хозяйку домика – Надежду Петровну – пытались незаметно заботиться о нем” хотя он, вероятно, и догадывался об этом; Неисчислимому количеству людей помог он, помог именно тай, как сказано в Евангелии – неся тяготы человеческие и этим исполняя закон Христов.
Вот таким я знаю о. Арсения, другие люди, знающие и любящие его, еще много расскажут о том, что он сделал для них, но я думаю, что для меня он сделал самое главное, главное – вдохнул в душу мою Веру и Любовь.
Великий Молитвенник и подвижник, о. Арсений осветил и освещает духовный путь многих и многих людей...
Взято из книги воспоминаний Ш-ва А. Р.
1967-1969 гг.
Декабрь 1956 года уходил в морозах и вьюгах. Лагерь опустел, и о. Арсений находился в преддверии освобождения. Переписка была разрешена, и тяжесть заключения скрашивали письма, а их приходило много. Одно из писем пришло от Ирины, и было оно порывистым, радостным, добрым. Казалось, вся Ирина с ее характером жила в этом письме.
“Петр Андреевич!
От бабушки Любы узнала, что Вы живы. Бог сохранил Вас. Я чувствовала, знала, что Вы переживете все трудное, ужасное, страшное, потому что Господь должен был сохранить Вас. Вы нужны людям, а как необходимы мне! Прошлое – мучительное, кошмарное – постепенно уходит, верю в хорошее будущее. Дети выросли, Таня уже большая. Алексей в пятом классе. Вы не видели его. 15 лет я ничего не знала о Вас, за это время многое переменилось в моей жизни, по Вашему совету стала врачом. С мужем по-прежнему большие друзья. В нем есть искры веры, которые я стараюсь раздуть в пламя. Он все знает о Вас и всегда говорит мне: “Помни о. Арсения, хорошее не забывай, будь с людьми как он”.
Скорее приезжайте, скорее, хотя это и не зависит от Вас. Встречу и заставлю жить у себя. Матерь Божия всегда с нами. Она привела меня к вере, спасла Татьяну и неотступно помогает семье. Сколько хорошего дала мне Ваша бабушка Люба! Мама умерла, и она заменила мне ее.
Господи! Какая я счастливая, что встретила Вас!
Анна”.
Это небольшое письмо наполнило сердце о. Арсения воспоминаниями и дало возможность еще раз окинуть внутренним взором прошлое и неисповедимость путей Господних.
Шел 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок, начались ссылки: Кострома, Архангельская, Пермская, Вологодская области. Отдаленные районы, и только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Поселок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился о. Арсений, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью.
Тайно, в день Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, первого августа по старому стилю приехал к своим в город о. Арсений и остановился у Наталии Петровны Астаховой, одной из самых близких духовных дочерей.
О приезде его знали только семь человек, глубоко преданных вере и ему духовных детей и друзей. Квартира Астаховых находилась на третьем этаже большого каменного дома. Приехав, о. Арсений на улицу не выходил, Наталья Петровна с мужем уходили на работу, а о. Арсений оставался в квартире один и дверь никому не должен был открывать. На случай экстренного прихода кого-либо из “семерки” договорено было давать условный звонок, на который о. Арсений открывал дверь, не спрашивая, кто пришел. Пребывание о. Арсения в городе скрывалось, и для всех он жил на Севере в ссылке. Приезд его в родной город был вызван встречей с двумя Владыками и несколькими иереями для решения вопросов о жизни Церкви в эти трудные для нее времена. Встреча была назначена на 25 августа на даче в поселке Абрамцево, у одного художника. Было 19 августа по новому стилю, праздник Преображения Господня.
Все дни, прожитые у Астаховых, о. Арсений посвятил писанию писем духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде о. Арсения, а те, в свою очередь, отдавали их верным друзьям для передачи адресатам. Получавшие письма считали, что они привезены из ссылки с оказией.
Шесть дней, прожитые в городе, прошли спокойно. Вечером о. Арсений служил предпраздничную вечерню утреню, исповедовал. Утром торжественно отслужил обедню, причастил Наталию Петровну с мужем и всех остальных шесть человек, бывших у обедни и исповедовавшихся вечером.
Затем все ушли на работу, и о. Арсений остался в квартире один. После торжественной службы на душе было радостно и спокойно. Оснований для тревоги не было. Марфа Андреевна – хозяйка домика на севере, где жил о. Арсений, условной телеграммы не давала, значит, о нем не спрашивали. Здесь также оснований для волнений не было – как будто никто не следил.
Опустившись на колени, о. Арсений долго молился, благодарил Господа за милости Его: приезд в город, встречу с любимыми духовными детьми, радость общения с ними и за то, что Господь сподобил его, грешного иерея, торжественно отслужить обедню Преображения Господня. В квартире было тихо и спокойно. Отец Арсений сел за стол и стал писать маленькие короткие записочки на тонких полосках тонкой, но плотной бумаге. Мелкий убористый почерк заполнял всю полоску, и сколько важного, огромного таили эти письма для духовных детей. Ответы наставляли, предостерегали, уговаривали, требовали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали этих маленьких узких полосок бумаги, которые несли нам свет и жизнь, освещенные словами духовника. Время от времени о. Арсений вставал и ходил по комнате, иногда подходил к окну и, становясь за занавеской, смотрел на противоположную сторону улицы, где находился большой продовольственный магазин, и ему казалось, что около него то прохаживалась, то стояла одна и та же фигура женщины. Эта женщина несколько дней подряд появлялась в одно и то же время и внимательно смотрела на окна дома, где жил о. Арсений.
“Следят, или кажется мне?” – думалось о. Арсению. Из дома он не выходил, в дороге слежки не замечал, а здесь о его приезде знали только самые близкие люди. “Мнительность”, – ответил он сам себе и, помолившись, сел писать. Время подходило к одиннадцати дня. Отец Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький язычок лампадного огонька то вспыхивал, то еле-еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всем окружающем, о. Арсений читал акафист Владимирской Божией Матери, прославляя, величая и смиренно моля Владычицу.
И вдруг молитву разорвал резкий звук входного звонка. Звонили условным способом, длинный, три коротких, продолжительный и опять короткий. “Кто это? – подумал о. Арсений. – Сегодня никто не должен прийти! Что случилось?”
Звонки повторялись, настойчиво, требовательно.
Встревоженный, о. Арсений потел открывать дверь, звонить могли только свои, значит, что-то случилось.
“Вероятно, пришла телеграмма с севера от Марфы Андреевны”.
Войдя в переднюю, перекрестившись и возложив упование на Матерь Божию, о. Арсений быстро открыл дверь, и сейчас же, отталкивая дверь ногой, вошла, ворвалась женщина, лет двадцати-двадцати двух. Быстро закрыв дверь и наступая на о. Арсения, она прошла в комнату.
“Я из органов, вот удостоверение, смотрите. Вы – Стрельцов Петр Андреевич, называемый о. Арсением, живете здесь шесть дней. Я веду за Вами наблюдение днем, ночью и вечером ведут другие”.
Отец Арсений растерялся: на столе лежали письма, он без разрешения приехал из ссылки. Получилось плохо, он подвел многих людей.
“Господи, Матерь Божия, помогите!” – мысленно произнес он, но уже отчетливо понял: все погибло, арестуют многих.
Женщина, молодая и красивая, с явно интеллигентным лицом, была одета слишком обыкновенно и серо, казалось, для того, чтобы не выделяться из общей массы людей, раствориться в толпе, стать незаметной.
Понимаете, я из органов, веду наружное наблюдение за Вами, но у меня случилось несчастье. Заболела дочь, звонила домой, температура за 40 градусов, распухло внутри горло, посинела, хрипит, задыхается. И все так внезапно, утром уходила из дома – была здорова, а сейчас мама только повторяет по телефону: “Таня умирает!” Звонила в управление, просила заменить, отказали. Нет подменщика, который бы всех вас в лицо знал. Приказали не уходить. Что делать? Дочь умирает. Надо срочно оказать помощь, позвать врача, а мама совершенно растерялась. Умирает Татьяна! Мне надо домой, а сменщик придет только в 17 часов. У меня к Вам просьба – не уходите никуда. Дайте слово, что не уйдете. Очень прошу не уходить, если уйдете, погубите меня. Еще просьба, если кто придет к Вам, пока меня не будет, скажите, ведь того, кто придет к Вам, могут “вести” до квартиры, а я должна сообщить потом, что были люди. Ваши, которые работают у нас, говорят, что Вы добрый, помогаете людям.
Не уходите, прошу Вас. Скажите, что сделаете. Плохо Татьяне, а управление не отпускает”.
Отец Арсений уже все понял, и эта женщина, говорившая отрывочными фразами, могла больше ничего не говорить. В ее глазах он прочел во много раз больше, чем она могла рассказать о себе.
“Идите к дочери, я никуда не пойду, а если кто придет, то скажу Вам. Идите!”
“Спасибо, гражданин Стрельцов! Спасибо. Я только до 15-ти часов, а потом опять встану на наблюдение, – и, заканчивая разговор, почему-то сказала: – Меня зовут Анной”.
Дверь хлопнула, и о. Арсений остался один. Горела лампадка, лежал открытый молитвенник, пачка написанных писем была на столе.
Все открыто. НКВД знает, что он здесь, и ведет наблюдение за ним и остальными, оно хочет выявить всех людей общины и общающихся с ним, для того чтобы взять их потом.
Эта Анна, ворвавшаяся в дом и знающая условный звонок, отказ начальства ее сменить, брошенная ею фраза: “Ваши, которые работают у нас”, назначенная встреча с Владыками, неожиданная болезнь дочери Анны – было цепью одних событий, руководимых Промыслом Божиим.
Тяжесть происшедшего навалилась на о. Арсения, придавила и смяла его в сумятице мыслей и переживаний. Пугала, страшила ответственность за судьбы людей, муки их, переживания. Да, конечно, приезжать было нельзя, это было ошибкой.
Отец Арсений подошел к раскрытому молитвеннику, тяжело опустился на колени и стал читать акафист Владимирской Божией Матери с того места, где его прервал звонок Анны.
Путались фразы, не понимались знакомые и любимые слова, путались мысли, но, постепенно овладевая собой, о. Арсений отбросил житейское и ушел в молитву. Почти четыре часа молился о. Арсений, прочитаны были акафист, молитвы, отслужен благодарственный молебен.
То, что произошло сейчас, было великой милостью Божией, Его заботой, Произволением о тех, кто был вместе с о. Арсением. Страхи, тревоги, волнения ушли.
В три часа раздался условный звонок. Отец Арсений открыл дверь, вошла Анна.
“Слава Богу! Вы здесь”, – вырвалось у нее.
“Здесь, никуда не уходил, и ко мне тоже никто не приходил. Идите на свой пост, Ирина”.
Женщина была измучена, но когда о. Арсений назвал ее Ириной, она выпрямилась, вздрогнула и голосом, в котором слышалось удивление и испуг, спросила: “Почему вы назвали меня Ириной?”
“Идите, Ирина! Идите!” – ответил о. Арсений.
В глазах ее появились слезы, и она еле слышно сказала: “Спасибо Вам”.
Отец Арсений закрыл дверь и вернулся в комнату.
Господи! Это Ты повелел мне назвать ее Ириной. Тебе ведомо все, Господь Вседержитель”.
На противоположной стороне улицы, около магазина ходила Ирина, в пять вечера ее сменил мужчина.
Наталье Петровне и ее мужу, а также пришедшим в этот вечер друзьям о. Арсений рассказывать ничего не стал. Его рассказ ничего бы не изменил, а только встревожил бы всех и испугал. Внутренний голос говорил о. Арсению, что надо ждать завтрашнего дня – все в руках Божиих.
Отец Арсений приготовился к худшему, сжег письма и попросил Наталию Петровну так же уничтожить все лишнее.
20-го августа отслужил ранним утром обедню и после ухода Наталии Петровны и ее мужа встал на молитву, но молитва не шла. Одолевало беспокойство, тревога, душевное смятение. Около 11-ти часов раздался звонок, о. Арсений открыл дверь, на пороге стояла Ирина.
Пропустив ее в комнату, о. Арсений сел около стола.
Я к Вам. Таню с большим трудом удалось положить в больницу. Беспокоюсь, волнуюсь страшно, что-то будет? Спасибо за вчерашнее, звонила вечером в управление, докладывала, сказали, что к Вам никого “не вели”. Не был у Вас никто”.
“Садитесь, Ирина! Удивился я, как Вы решили зайти ко мне, к человеку, за которым ведете наблюдение. Вы меня, вероятно, врагом считаете?”
“Я пришла поговорить с Вами, не бойтесь меня. Поверьте, я сама пришла, и болезнь дочери не выдумка. Расскажите мне, кто и что Вы за люди? Почему с Вами так борются? Ваши, что дают о Вас сведения, много рассказывают о каких-то добрых делах, помощи, взаимных заботах. О Вас лично много хорошего говорят, но нам разъясняли, что Вы фанатик, классовый враг, сколачиваете враждебную группу из церковников, а добро Ваше вредное, для агитации. У меня сейчас три часа свободного времени, никто не придет проверять. Проверки бывают очень редко, и, как правило, в 14 часов. Расскажите о себе. Временами буду смотреть в окно и, если потребуется, срочно уйду”.
Смотря в лицо Ирины, о. Арсений начал рассказывать о вере, верующих, потом – почему борются с верой, и о том, что верующие люди не против власти.
Рассказывая, о. Арсений ничего не боялся, да и чего он мог сейчас бояться, когда видел, что Ирина знает про общину и отдельных людей значительно больше, чем он мог рассказать ей. Рассказывая, о. Арсений так увлекся, что забыл о времени, забыл, кто такая женщина, сидящая перед ним, он говорил человеку, говорил убежденный в своей правоте, защищая веру.
Ирина внимательно, но, казалось, недоверчиво вслушивалась в каждое слово. Знала она про общину много, по-своему – одно слово, враги, а здесь о. Арсений рассказывает все по-иному, и получаются две правды. Кто прав, возникал вопрос?
Там, в НКВД, знали многое, но пока выжидали, надо было забрать всех людей общины, послать в лагеря, ссылки. Надо было взять не за веру в Бога, а за борьбу с властью, но борьбы не было, никто не боролся, была только вера в Бога, объединяющая людей.
“В органах с нами ведут систематические занятия и говорят, что вы враги, но Вы рассказываете по-другому, да и я, наблюдая за вами, вижу в вас только несовременных людей. На занятиях нам подробно рассказывали о Вашей организации, о Вас, демонстрировали Ваши письма, из которых можно понять, что кто-то о ком-то заботится, есть поручения, много о Боге. Может быть, это шифр?
Несколько человек “Ваших” давно работают в органах, в основном все сообщения идут от них. Я назову их фамилии”.
“Не надо, не называйте, не хочу!” – воскликнул о. Арсений.
“А я назову! Назову! Не люблю предателей, эти люди так же легко предадут нас, как предали своих. Я присутствовала однажды на допросе. Противно смотреть, глаза бегают, извиваются, словно ужи, боятся, а пишут.
Я слушала, сидя в стороне, и мне казалось, что многое было полуправдой. Вот фамилии тех, кого я знаю: Кравцова, диакон Камушкин, Гуськова, Полюшкина”.
Отец Арсений вздрогнул, внутренне возмутился и вскрикнул: “Вы говорите неправду, они не могут предавать”, – но, взглянув на Ирину, понял: “правда” и вдруг заплакал. Заплакал по-настоящему, навзрыд.
Что Вы? Что Вы, гражданин Стрельцов, я правду говорю. Шестнадцатого августа я Кравцову сама вела в управление. Правда это все, правда. Успокойтесь, дрянные они люди.
Не должна была говорить Вам, но жалко мне Вас. Не расстраивайтесь. Я пойду. Зайду завтра. Вас еще не скоро должны взять, хотят выявить все связи. Позвоню из автомата маме, что с дочерью. Расстроила я Вас”.
Потрясенный и раздавленный, остался о. Арсений.
Слезы заливали лицо, и мысли, одна тяжелее другой, приходили и приходили.
Катя! Катя Кравцова – одна из самых близких ему людей, неутомимая помощница, добрейшей души человек, молитвенница, знаток церковной службы. Она знала все об общине. Все знала. Что толкнуло ее на путь доносов, предательства? Катя, которую в общине называли “Катей беленькой”, в отличие от других Екатерин. Красивая, умная Катя. Что толкнуло ее – страх, разочарование, обида, испуг, временное малодушие, угрозы?
Отец диакон Камушкин, его духовный сын и раньше постоянный сослужитель на всех богослужениях, и эти двое Лидия Гуськова и Зина Полюшкина, верные его духовные дочери. Да! Они были верными, любящими, глубоко верующими и любимыми его духовными детьми, но что произошло, почему они так пали? Только ли страха ради? Не я ли, духовный отец, проглядел где-то, не уберег овец стада своего от падения? Не я ли виновен в этом? Господи! Прости меня, грешного, научи, наставь! Моя вина, спаси их, останови и сохрани остальных.
Вспоминая исповеди, разговоры, письма этих духовных детей своих, о. Арсений по отдельным крупицам попытался восстановить прошлое и определить начало падения.
Да! Он, иеромонах Арсений, должен был вовремя заметить колебания детей своих, их ошибки и остановить.
Упав на колени, плача молился о. Арсений, умоляя Господа и Царицу Небесную о помощи, восклицая: “Господи! Господи! Не остави меня! Простри руку помощи Твоей, будь милостив. Спаси детей моих от погибели!”
21 августа Ирина также пришла. Дочери стало совсем плохо. Нарыв в горле резко увеличился, крупозное воспаление легких развивалось, дыхание было прерывистым. Врачи предупредили, что состояние безнадежное.
С поста Ирину не отпускали, днем в больнице дежурила бабушка, ночью Ирина. Войдя в комнату, Ирина заплакала.
“Успокойтесь! Успокойтесь! Господь милостив. Таня поправится”, – говорил о. Арсений и, смотря на Ирину, видел растерянную, убитую безутешным горем молодую женщину, опустошенную, не имеющую ни на что надежды.
“Безнадежна Татьяна, умрет. Две болезни сразу. Сказали, умрет, а я не могу днем быть около нее”, – проговорила она и, рыдая, упала головой на стол.
Отец Арсений подошел к шкафчику с иконами, открыл его, зажег вторую лампадку и сказал: “Буду молиться о Тане, буду просить Господа”.
“Я тоже буду просить Вашего Бога, я готова делать все, лишь бы спасти Таню, но не умею молиться и не знаю Бога”.
Пламя лампадок тихо колебалось, освещая то одну, то другую икону, но наиболее ярко выделялась икона Владимирской Божией Матери.
“Будем, Ирина, просить Матерь Божию, Заступницу нашу, о выздоровлении Тани”, – и начал молиться громко и отчетливо. Молясь, о. Арсений не видел Ирины, забыл о ней, он помнил только о безутешном человеческом горе, страдании. Моля Царицу Небесную исцелить младенца Татиану, всю свою душу, всю свою духовную силу иерея вложил о. Арсений в эти молитвы. Рассказывая мне об этой молитве почти через 25 лет, о. Арсений говорил: “Вы знаете, что я редко плачу, а здесь плакал, умолял Господа и Матерь Божию о помощи, просил как иерей, дерзновенно просил и – страшно сказать – требовал, да, именно требовал, так велико и безысходно было горе Ирины. Не было у нее ни надежды, ни веры, но в глазах ее я видел доброту и любовь. Я умолял Господа исцелить Таню, просил Матерь Божию осенить светом Своим, светом веры Ирину, зажечь в ней веру Христову, дать ей Надежду. Потом я каялся владыке Ионе за свою дерзновенность”.
Прошло два часа, кончив молиться, о. Арсений обернулся и увидел Ирину – она стояла на коленях, с лицом, залитым слезами, и не отрываясь смотрела на икону Владимирской Божией Матери, ничего не замечая вокруг себя и что-то шепча. Сердце о. Арсения наполнилось неизмеримой жалостью к Ирине. Подойдя, он положил руку на ее склоненную голову, сказав: “Идите, Ирина. Господь поможет. Будем просить оба, Вы и я. Матерь Божия, наша Заступница, не оставит Вас, Она поможет”.
Ирина поднялась с колен, шагнула к о. Арсению, крепко схватила его за руку и, плача, проговорила: “Петр Андреевич! Я на всю жизнь поверила Вам и Ей, ведь Она тоже была Матерью, и, если все так, как Вы говорили, Она поможет. Матерь Божия! Помоги и спаси Таню. Все сделаю, только спаси”.
До прихода Наталии Петровны о. Арсений молился. Вечером, когда в квартире была Наталия Петровна с мужем и двое из так называемой “семерки”, около 11 часов раздался телефонный звонок. Отец Арсений быстро встал и, подойдя к телефону, взял трубку и сказал: “Анна! Слушаю Вас”.
“Спасибо, спасибо, все хорошо. Она помогла, я теперь на всю жизнь верю Вам и Ей. Спасибо. Звоню из автомата”.
Все присутствующие в комнате почти одновременно заговорили: “Зачем, зачем Вы взяли трубку. Телефон прослушивают”.
Отец Арсений подошел к иконам, перекрестился и сказал: “Так нужно. Великую милость явили Господь и Матерь Божия, и не только мне, а главное, вновь рожденному человеку. С кем я говорил, никто знать не может, Анн на свете много”, – и, подойдя к иконе Божией Матери, начал молиться.
Стоит вспомнить, что при допросах о. Арсения много раз потом спрашивали, кто такая Анна.
Внезапное появление Ирины все изменило. Многое продумав и моля у Господа помощи, о. Арсений решил не встречаться с Владыками и уехать 25 августа из города, а до дня отъезда из квартиры не выходить.
Надо было сохранить общину, духовных детей от арестов, какими-то путями изолировать тех, кто предавал.
До самого дня отъезда Ирина приходила к о. Арсению в 11 часов и уходила в два часа. Приходила, расспрашивала, рассказывала, но, главным образом, слушала о. Арсения и первый раз в своей жизни исповедовалась и причастилась, став духовной дочерью о. Арсения.
Договорено было, что Ирина будет писать под именем Анны, а о. Арсений запомнил адрес ее двоюродной сестры, на имя которой должен писать ответные письма. Для того чтобы Ирина могла узнать основы веры и иметь надежного верующего человека около себя, о. Арсений дал ей адрес бабушки Любы, глубоко верующей женщины, не связанной с людьми общины. В записке было написано: “Помогите, наставьте, никогда не оставляйте. Молитесь вместе”.
До того как о. Арсений попал в “особый”, удавалось два-три раза в год посылать письма Ирине, из “особого” писать уже было нельзя.
Призванная в органы по комсомольскому набору, Ирина после встречи с о. Арсением с большим трудом ушла на учебу в медицинский институт и потом работала врачом в одной из московских клиник.
Все это о. Арсений узнал по выходе из лагеря в 1957 году. Сейчас, в конце декабря 1956 г., вспоминая августовские дни тридцать девятого года, помнил о. Арсений свои мучительные раздумья о Василии Камушкине, сестрах Зинаиде и Лидии, помнил, что не нашел в их исповедях, беседах с ними и письмах ни малейшего сознания, понимания своего падения, предательства. Этих людей о. Арсений не мог остановить.
Помнил исповедь Кати Кравцовой тогда же, 23 августа. Исповедь кончилась, о. Арсений ждал, хотел, чтобы Катя сказала, но она молчала. Отец Арсений молился, взывая к Господу. Катерина ждала разрешительную молитву, не понимая, почему медлит о. Арсений. Помнил ее недоуменную фразу: “Батюшка! Я кончила”, – и о. Арсений прочел разрешительную молитву. Окончена исповедь, но не окончен разговор.
“Катя! Почему Вы предали общину, зачем рассказываете о наших делах следователю? Зачем? Скольких Вы губите. Вы моя опора и одна из любимейших и верных духовных детей. Катя!” Испуганное, полное ужаса лицо, глаза огромные, залитые стыдом, слезами и страхом, искаженные, закусанные губы.
Откуда Вы узнали? Кто Вам сказал? Они, о. Арсений, и без меня все знают, все. Знают, что Вы приехали. Все знают, я и половины не говорю правды, я... – и вдруг лицо стало решительным, собранным: – Я хотела спасти общину, людей, Вас, я врала им, но они многое знают. Запуталась я теперь”.
Разговор был долгим и окончился тем, что Катя должна уйти от дел общины. Так и было. Через год Катя вышла замуж, перестала общаться со старыми друзьями и только в 1958 году встретилась с о. Арсением.
В 1942 году на изнурительных допросах, материалах следствия, предъявляемых ему следователем, он еще раз убедился в правоте Ирины, назвавшей ему имена доносителей.
Бывший диакон в 60-х годах работал в патриархии на высоких должностях.
Надо было уезжать. Отец Арсений долго говорил с Наталией Петровной и Верой Даниловной, рассказал им истинную причину своего приезда, не упомянул об Ирине и откуда он все узнал. Предупредил и о диаконе Василии, Лидии Гуськовой, Зинаиде Полюшкиной. О Кате Кравцовой – Кате Беленькой – о. Арсений ничего не сказал, он верил ей, понял ее заблуждение, ошибку, – нет, не предательницей она была.
Отец Арсений понимал, что арест его предрешен, но необходимо, чтобы произошел он не здесь, в городе, а в ссылке.
Пусть потом допрашивают, сажают в карцер, бьют, показывают донесения агентов – он не уезжал из ссылки, не был в городе.
На 25 августа Ирина взяла билет на ночной поезд, а 24-го о. Арсений писал письма, написал и Кате “Беленькой” – Кравцовой.
В 1966 году Катя отдала это письмо Вере Даниловне, рассказала, как она стала сотрудником органов и почему. Вот отрывок из этого письма:
“Господа молю о Вас. Укрепите себя молитвой, просите Божию Матерь о помощи. Вы упали, найдите силы подняться. Я понял Вашу ошибку, не осуждаю Вас. Вы сильная, решительная, стойкая и, когда Вас позвали, надеялись на себя, а надо все упование возложить на Бога, и тогда решительность и стойкость Ваши помогли бы в борьбе со злом. Ваш героизм превратился в ошибку, а потом во зло.
Отойдите от дел, выдержите напор зла и победите, хотя понимаю, что это не просто. Противоборствуйте злу.
Силы утешения черпайте в молитве. Матерь Божия наша помощница и защитница.
Да хранит Вас Бог. Ваш духовный отец иеромонах Арсений. Настанет время, и встретимся мы еще с Вами, молюсь постоянно о Вас.
Да благословит Вас Бог”.
25 августа о. Арсений во время дежурства Ирины в 11 часов утра ушел на вокзал, где и переждал до вечера. На вокзал о. Арсения провожала мать Ирины – Варвара Семеновна, принесла в дорогу продукты, прощалась ласково, добро, заботливо.
Отъезд для о. Арсения был тягостен, он потерял троих своих духовных детей, потерял безвозвратно, но на Катю он надеялся, верил ей, она не сойдет с пути веры.
Ирина простилась с о. Арсением утром, прощалась трогательно и просила молиться о ней и всех домашних. К вере, к ее неисчерпаемому источнику утешения и жизни пришел новый человек, и в этом для о. Арсения была большая радость.
Помню, о. Арсения спросили: “Как Вы могли сразу поверить Ирине?” И он ответил: “Поверил, ибо неисповедимы пути Господни и неисчерпаема милость Его”.
Записано по рассказам о. Арсения,
Ирины, Веры Даниловны
и Наталии Петровны, объединено,
обработано и пересказано
одним из участников этих событий.
1968-1975 гг.Он все записывал. Где-то доставал обрывки грубой серой бумаги, складывал их в тетрадку, сшивал и обрезал ножом, сделанным из куска ножовки.
Приходя с работы, быстро проглатывал миску баланды, заедая куском черствого мерзлого хлеба, усталый и полуголодный, садился на нары и начинал огрызком химического карандаша писать на мятых листах бумаги.
Карандаш быстро скользил по поверхности грубых бумажных листов, оставляя после себя строчки, связанные из аккуратно выписанных букв.
Казалось, что он пришел сюда корреспондентом газеты, набраться впечатлений, понять психологию живущих заключенных, администрации лагеря, окунуться в этот новый для него мир, а потом дать серию очерков под названием: “Лагерь „особого режима””.
Так казалось, но он был обычный заключенный номер К-391, осужденный по 58-й статье на двадцать лет лагеря “особого режима”. Пока он успел прожить в лагере меньше года, исписав при этом несколько тетрадок, в которых заключенные и жизнь лагеря были показаны со всей правдивостью и откровенностью.
Жажда описать все, оставить свои записки людям буквально сжигала его, особенно первое время. Встречая нового заключенного, он бросался к нему и закидывал его вопросами.
“Кто Вы? Откуда? За что? Кто и как вел следствие?” – и казалось, что следующим вопросом будет: “Ваши впечатления о лагере “особого режима?”, но этого вопроса он не задавал. Все было предельно ясно. Он ухитрялся куда-то прятать свои записки, и за это приходилось отдавать уголовникам часть пайкового хлеба.
Изредка, при обысках, у него находили обрывки записей, отбирали, сажали его в карцер, но это не отбивало у него желания писать.
Этот человек видел мир глазами журналиста, и, вероятно, даже за несколько минут до смерти он записывал бы свои впечатления, ибо так был создан. Беря очередное “лагерное интервью”, он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношерстным населением был им ощупан, осмотрен и взвешен, только несколько заключенных не были расспрошены. В числе их был и о. Арсений.
В бараке этого человека прозвали “Журналист”, и казалось, что он гордится этим, ведь и на воле он был журналистом, его статьи появлялись в “Известиях”, “Правде”, “Труде”.
Торопливость, нервозность, желание обо всем расспросить собеседника вначале вызывали у заключенных подозрение, но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических и уголовников. Полицаи, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно. Через полтора года жизни в лагере он многому научился и понял многое, “интервью” стал брать реже, записывая, подолгу задумывался, видимо, что-то заново переоценивая и переосмысливая.
С о. Арсением в бараке встречался. Стороной услышал, что поп, искусствовед с университетским образованием, пользуется среди заключенных авторитетом и многие любят его. Но то, что о. Арсений был служителем культа, заставляло журналиста относиться к нему с внутренним презрением и сожалением.
Пребывание о. Арсения в лагере казалось журналисту в известной мере правомерным, т.к., по его мнению, верующие, и особенно служители культа, так или иначе были враждебны советской власти и боролись против нее. Журналист обобщал полицаев, лиц, сотрудничавших немцами, и верующих во что-то одно общее, сторонился этих людей и “интервью” у них не брал.
Считая, что он попал в лагерь в результате какого-то особого вредительства, журналист возмущался нахождением под одной крышей с этими людьми. Он, боровшийся всю жизнь, как ему казалось, за истину и верящий в нее, вдруг вынужден был общаться с “диверсантами” и попами, своими идейными противниками.
Однако интервью с о. Арсением все же состоялось. Журналист заболел, и его оставили вместе с о. Арсением убирать и топить барак. Убирали барак молча, журналист не разговаривал, носил дрова, выгребал золу, рвал кору и строгал щепу. Человек молодой и сильный, он довольно быстро сложил поленья у своих печей, а о. Арсений все еще только носил. Сложив дрова, журналист приступил к растопке, заложил щепу и кору и, зажигая спичку за спичкой, пытался разжечь огонь. Сжег коробок спичек, но дрова не разжег. Перешел к другой печке, и тоже ничего не получается. Время идет, журналист нервничает, барак надо было протопить к приходу заключенных.
Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печки, подложил растопку и с одной спички разжег каждую печь и стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит, подошел и сказал: “Разрешите, помогу”, – а тот, раздраженный, ответил со злостью: “Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь”. Отец Арсений молча отошел, но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извелся, нервничает, понимает, что вечером его обязательно изобьют, а заодно попадет и о. Арсению за холод в бараке. Прошло еще минут двадцать, о. Арсений помолился, подошел к журналисту, тихо его отстранил, вынул из печки дрова, положил стоечкой растопку, обложил дровами, поджег бересту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошел ко второй печке журналист за ним, смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжег сам. Лицо у журналиста в саже, но доволен: “Спасибо, что научили. Думал, просто, а оказывается, целая наука”. “Я, – ответил о. Арсений, не одну сотню печей в лагерях разжег, вот и науку эту превзошел”.
Печи разгорелись, надо было только дрова подбрасывать да подносить. Слово за слово, разговорились. Журналист, по своей привычке, стал вроде бы “интервью” брать, а получилось, что минут через десять сам о себе стал рассказывать. Время подошло к приходу заключенных, и журналист вдруг обнаружил, что не он попа расспрашивает, а сам о себе рассказывает все до малейших подробностей.
Рассказал незнакомому человеку свою жизнь, и почему-то от этого на душе стало спокойнее и легче.
Пришел с работы народ, зашумели, прошла первая поверка, потом вторая, заперли барак, журналист лег на нары и почти до самого подъема пролежал с открытыми глазами, думая, почему так случилось, что он открыл свою жизнь незнакомому старику, да и как раскрыл! И этот человек внезапно стал ему близким и родным.
Вот и пошло от одного разговора к другому, и незаметно легла душа журналиста в руки о. Арсения.
Первое время журналист говорил об о. Арсении: “Старик-то – силища! Душа его как мир – все и вся вмещает” – а через месяц: “Отец Арсений – человек необъятной души, доброты великой. Понял и увидел я настоящего верующего христианина”. Сдружился он с о. Арсением на всю жизнь.
Любил журналист стихи, и знал их великое множество, и вечерами, когда запирали барак, сидя на нарах, читал вполголоса для себя или по просьбе друзей. Читал проникновенно, раскрывая душу поэта. Блок, Брюсов, Пастернак, Симонов, Гумилев, Лермонтов, Есенин были особенно им любимы. Читая, он перерождался, голос делался четким, ясным, выразительным, оттеняющим каждое слово и фразу. Известное стихотворение в его чтении становилось новым, задушевным и слушалось с интересом. Помню, читал он “Незнакомку” Блока, и, слушая его, мы забыли барак, голод, холод, заключение и были в тот момент где-то в старом Петербурге, с “Незнакомкой”.
“...И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна... ”
И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину.
Читая Есенина, он раскрывал нам его мятущуюся больную душу, глубокую, но растраченную нежность, задушевность его лирики и тоску и плач по сломанной и бесцельно прожитой жизни. Читал журналист много, но помню, что особое впечатление тревожного ожидания оставило на нас тогда стихотворение Симонова “Жди меня, и я вернусь”.
Собралось вокруг журналиста человек 5-6, разговорились, а потом кто-то попросил его прочесть стихи. Журналист читал минут десять, резко оборвал чтение, задумался, видимо, что-то перебирая в памяти, и, ни к кому не обращаясь, сказал: “Прочту Симонова, когда-то на фронте в 42-м году читал он мне это стихотворение военных лет”, – и начал читать:
“Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет...”
Первые строки стихотворения воспринимались окружающими почти безразлично, но потом задушевность чтения, проникновенность, теплота слов захватили нас, а окружающая лагерная жизнь, безысходность и обреченность напомнили близких, всколыхнули ушедшее дорогое прошлое.
“Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет – повезло”.
Голос журналиста звучал громко, заполняя часть барака, заключенные стали собираться вокруг.
Охваченные воспоминаниями, затаив дыхание, боясь пропустить сказанное слово, стояли люди, вспоминая семью, родных, дом и всех тех, кто жил на воле, и каждый думал: “А могут ли ждать меня? Помнят ли? Ведь меня уже давно официально нет. Я не числюсь. Я списан, умер”. Голос тем временем продолжал:
“Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой –
Лросто ты умела ждать,
Как никто другой”.
Журналист кончил, низко склонил голову и сразу ушел в себя. Окружающие тихо и медленно стали расходиться по своим нарам.
Высокого роста человек, лет сорока, неожиданно сказал: “Войну прошел, в госпиталях валялся, опять сражался за Россию. Думал, вот-вот вернусь. Жене с фронта писал: жди, вернусь. Вот и вернулся! А жена все равно ждет, да не дождется, мы в “особом”... – и неожиданно закончил: – Может, и выйдем!”
..Журналист пережил смерть Сталина, вышел на свободу, вынеся никому не ведомыми путями свои записки. Фамилия его теперь часто встречается на страницах толстых журналов и центральных газет. Вышло несколько книг, в которых я нахожу знакомые отзвуки перенесенных страданий и встреч с о. Арсением, дружба с которым осталась у него на всю жизнь. Я часто встречаюсь с журналистом, мы вспоминаем лагерную жизнь, о. Арсения и тех, кто вышел из лагеря и остался жив. Самое главное, что мы с журналистом верим в одно, и нам обоим о. Арсений принес новую жизнь. Многое из записок журналиста использовано в воспоминаниях об о. Арсении.
Высокий, худой, оборванный и, как все, бесконечно измученный, появился этот человек в бараке.
Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие черные задумчивые и печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно.
На работах норму не выполнял, почему и получал только часть пайки, и поэтому с каждым днем все больше и больше слабел.
Приходя с работы, медленно съедал паек, садился на нары и, ни с кем не разговаривая, смотрел в мутное окно барака, за пределами которого открывалась унылая картина лагерных улиц. Временами лицо оживлялось, и длинные пальцы рук, лежащие на коленях, начинали двигаться, и тогда казалось, что человек играет на рояле.
О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал, но как-то все случайно разъяснилось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак, окружающие привыкли к его молчаливости и отчужденности.
Вечером около одних нар собралось несколько заключенных, о. Арсений также присутствовал. Вначале разговор велся о лагерных делах, но незаметно перешел к прошлому, вспомнили театр, музыку, и в этот момент к говорившим подошел молчаливый заключенный.
Разговор о музыке углубился, кто-то заспорил о каком-то особом влиянии ее на душу человека, о “партийности” музыки. Отец Арсений, как всегда, не участвовал в спорах, но здесь неожиданно заговорил и высказал мнение, что музыкальные произведения, имеющие глубокое внутреннее содержание, должны благотворно влиять на душу человека, облагораживать слушателя, неся в себе элементы религиозного воздействия на душу человека.
Молчаливый и всегда замкнутый, заключенный оживился, глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычайно задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно, продолжая развивать мысль о. Арсения о влиянии музыки на человека.
Один из заключенных, стоявший около нар, стал пристально вглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул: “Позвольте! Позвольте! А я Вас знаю, Вы пианист”, – и назвал фамилию выдающегося музыканта.
Музыкант вздрогнул, смутился и проговорил: “Если бы Вы знали, как мне не хватает музыки! Если бы Вы только знали! С ней я прожил бы даже здесь”.
Кто-то глупо спросил: “За что Вы здесь?” И музыкант необычайно серьезно ответил: “По доносу друга, а вообще за то, за что мы все здесь”, – сказал и, сразу отойдя, лег на свои нары.
Выражение тоски и отчужденности после этого разговора еще больше легло на его лицо, взгляд стал совершенно отсутствующим, отзывался он только на второе или третье обращение.
Мы видели, что человек ушел в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти.
Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб, с трудом ходил на работу, нормы выполнял все меньше и меньше, соответственно уменьшался и паек.
Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно. Музыкант не слушал, отвечал невпопад или уходил. Как-то о. Арсений обратился к окружающим: “Гибнет человек без музыки, что бы ему достать для игры?” – и один из уголовников, любивший о. Арсения, сказал: “В красном уголке есть гитара разбитая, попробую ее с ребятами позычить”.
В “особом” имелся красный уголок, в котором никогда не проводилось никаких мероприятий, хранилось несколько десятков книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальства числился как необходимая принадлежность для “политической перековки” заключенных – зеков. Неизвестно, какими путями “взяли” уголовники гитару из запретного уголка и принесли в барак. С треснутой декой, оставшимися пятью струнами, облезлым лаком, она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится, при первом же обыске ее отберут, но появление гитары в бараке было событием и развлечением.
Нашелся заключенный, который приклеил деку, почистил лак. Два дня гитару уголовники прятали, а на третий день, когда дека подсохла, после вечерней поверки и обысков положили гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака.
Пришел музыкант и, сев на нары, задел рукой струны, они жалобно зазвенели, он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл.
В пяти-шести местах уголовники резались в самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах, и вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей, ругань стихла, стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом.
В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин, друзей.
Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели или лежали притихшие, озаренные прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечески билось нечеловеческое сердце музыканта, которое, вопреки окружающей нас обстановке, все осветило, дало жизнь и радость.
Звуки лились, объединяя необъединимое, они были среди нас, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей, и наступил момент, когда струны зазвучали все печальней и печальней, они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности.
Вдруг по коридору прогромыхали шаги, раздвигая стоявших людей, к музыканту шел высокий, черноволосый человек, искаженное лицо покрывали размазанные слезы – это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный.
“Прекрати, зануда, музыку, не береди душу. Прекрати, пришибу”. Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой, но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака.
Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах, лагере. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдание и горе стали постепенно исчезать из музыки, приходило спокойствие, умиротворенность, казалось, что человек нашел свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушатели прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: “Спойте нам!” Подняв голову, музыкант запел тихим и хрипловатым, но чрезвычайно выразительным голосом. Это была старинная русская песня:
“Что вы голову повесили, соколики мои?
Разлюбила! Ну так что ж,
Стал ей больше не хорош,
Буду вас любить, соколики мои”.
И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались.
Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нем теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс “На сопках Маньчжурии” в замедленном темпе, и тихие, всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и сблизили всех.
Расходились молча. Музыкант сидел на нарах, прямой, спокойный, просветленный, бережно держа в руках гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару.
Мы с о. Арсением сидели на нарах, лицо его было задумчивым и сосредоточенным. “Он верующий, глубоко верующий, – проговорил о. Арсений, – он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки”.
Гитара прожила в бараке два дня, и за эти дни музыкант переродился: повеселел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище “Артист” и взяли его “под закон”, что соответствовало лагерной терминологии “охраняем”.
Отобрали гитару на утренней поверке, нашли в тайнике, донес кто-то из “сексотов”. Музыканту дали три дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым, но потом сник.
Недели через три, ночью, о. Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. “Извините меня, извините! Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с Вами. Знаю, Вы священник. Давно хотел подойти к Вам, да все боялся, а теперь чувствую, что пришло время мое. Спасибо Вам за гитару. Узнал стороною, что от Вас все исходило. Выслушайте! Я коротко. Простите, что разбудил”.
Склонив голову к о. Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шепотом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. “Господи! Господи! Как я грешен!” – повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано.
Слезы временами падали на руку о. Арсения. “Господи! Господи! Грешен я очень, но зачем они отняли у меня музыку?”
Отец Арсений долго молился вместе с музыкантом.
Недели через три музыканту на работах раздробило кисть левой руки, а через недели две из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключенных пришло от музыканта письмо.
В записке было: “Не забывайте меня перед Господом, смерть стоит со мною рядом. Молите Бога обо мне”.
Записано по воспоминаниям лиц, бывших в лагере,
и рассказу о. Арсения. 1959 г-Знакомство мое с о. Арсением было давнее, по тогдашним лагерным временам, около года, но, зная друг друга, встречались мы мало, а слышал я тогда о нем много.
Потянулся я к нему в пятьдесят третьем году.
Летом перегоняли нас этапом на “времянку”, строить в необитаемом месте бараки и заложить ствол шахты.
Идти надо было сорок километров, в общем-то недалеко. За три дня с ночевкой и тащимым грузом дойдешь. Солнце невыносимо жжет, гнус и комары забираются в малейшую щелку. Идем одетые, душно, тяжко. Лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота. Летом в жару часто бывало даже труднее, чем зимой в морозы. Идем, ноги свинцовые, груз оттягивает руки, плечи; одежда прилипла к телу, и это еще больше затрудняет движение. Желание у всех одно: броситься на землю, распластаться, прижаться к ней и никогда, никогда больше не вставать, что бы ни случилось, что бы ни произошло после, но какая-то непреодолимая сила заставляла двигаться вперед, волочить по земле ноги, мучительно, переживая каждый пройденный метр, идти и идти...
Устали все: охрана, заключенные и сторожевые собаки. Дорога казалось бесконечной, хотя многие проходили ее не раз. С каждым шагом сил становилось все меньше.
Колонна растянулась, ряды изогнулись и почти перемешались. Временами слышалась команда: “Не растягиваться, ближе ряды!”, но команда отдавалась голосом усталого человека, который так же изнемогал от жары, тяжести оружия и напряженного внимания к движущейся растянувшейся колонне. Ноги тонули в красно-оранжевой листве, покрывавшей дорогу. Листья ольхи, осины и березы медленно падали с веток на головы проходивших, тихо кружились в воздухе и шелестели под ногами.
Рядом со мной шел о. Арсений. Несколько раз я спотыкался, и он заботливо подхватывал меня под руку. Два или три раза я взглядывал на него и думал: “Почему он еще идет?”, а он шел– прямой, сосредоточенный, ничего, казалось, не видящий. Губы его двигались, и я уже тогда знал, что он молится.
Дорога проходила между грядами холмов, откосы которых поднимались сразу около обочины и были покрыты опавшей листвой, принесенной ветром, и редким, уже оголенным от листьев кустарником.
Впереди нас шел татарин, высокий, худой, с лицом аскета. Пустой вещевой мешок болтался на спине, сам татарин был оборван, грязен. В бараке знали, что он из Казани и, попав в лагерь, “дошел”, т. е., просто говоря, опустился до последнего предела и был на краю гибели.
В бараке он жил от меня через трое нар. Видя, что человек погибает, многие из окружающих людей пытались хоть чем-нибудь ему помочь, но было уже бесполезно. Сейчас татарин шел спотыкаясь, руки беспорядочно болтались, весь он как-то неестественно качался.
Когда же отдых? Временами кто-нибудь падал, упавшего обходили, и тогда уставшая охрана ударами ног поднимала его.
Собаки шли на поводках конвоиров, понуро уткнувшись мордами в землю, и, казалось, ничего не замечали.
Воцарилось спокойствие, все шли молча, команд охраны не было, и только ноги идущих, погруженные в листву, ворошили ее, и от этого над колонной стоял постоянный тревожный шорох.
Болели ноги, разламывалась голова, неимоверно болело и устало тело. Я думал только об отдыхе. Когда же он придет? От усталости темнело в глазах, фигуры впереди идущих расплывались в кровавой дымке, качались и временами пропадали, а затем возникали вновь.
Все! Сил больше нет. Сейчас упаду! И вдруг шорох от ног разорвал пронзительный крик: “Бегу! Бегу!” Раздалась необычная возня, состояние оцепенения мгновенно прошло, и я увидел, что высокий татарин, расталкивая заключенных, перескочил через канаву и побежал вверх по откосу холма, покрытого листвой. Бежал он медленно, видимо, не хватало сил.
Колонна зашевелилась, проснулась от усталости. Конвоиры направили автоматы на заключенных, а лейтенант и один из солдат повернулись к бегущему и стали стрелять. Пули ложились рядом, поднимая облачка пыли, а татарин медленно поднимался по склону.
Такой побег назывался “побег к смерти”, это случалось часто. Дойдет человек до “последнего” и тогда устраивает демонстративный побег, для того чтобы его пристрелили.
Охрана знала эти “побеги” и настигала заключенного с помощью собак, била его и направляла опять в колонну, а иногда убивала при “попытке к бегству”. Все зависело от начальника конвоя.
Татарин еле-еле поднимался по склону, а лейтенант и солдат, видя, что силы сейчас оставят его, крикнули, чтобы спустили собак. Остановят, изобьют, доложат начальству, добавят зеку еще срока, но жив будет.
Колонна замерла, переживает, понимает, что конвой спасает татарина, и вдруг сбоку застрочил автомат. Третий бил метко, с первых же выстрелов изрешетил всего татарина, и тот, падая, какие-то мгновения пытался как будто ухватиться руками за сияющее солнечное небо и, протянув одну руку к солнцу, упал головой вниз по склону, а автомат все продолжал стрелять.
Татарин лежал на склоне и хорошо был виден всей колонне. Лицо разбито, одежда в крови, а третий конвойный все стреляет...
Колонна заключенных от внутреннего напряжения и волнения подалась на конвой, и тогда начальник охраны дал над головами заключенных предупредительную очередь из автомата и закричал: “Садись на землю!”
Люди упали на дорогу, покрытую листьями. Над головами прошлась вторая очередь, и тот же голос, срываясь от крика, продолжал: “Пригнись, распластайся!” – и тяжелый мат закончил фразу. Стало тихо, и было слышно, как солдат сказал лейтенанту: “Товарищ лейтенант! Я его, гада, по-снайперовски уложил с первой очереди”, – в голосе солдата слышался татарский акцент.
И в это время кто-то из колонны крикнул: “Собака! Своего татарина убил. Смерть тебе!” Солдат-татарин резко обернулся к колонне и направил на заключенных автомат, и в этот момент начальник конвоя крикнул: “Ибрагимов! Отставить!”
Распластались, прижались к земле. Слышу, кто-то около меня плачет. Голову повернул – вижу, о. Арсений стоит на коленях, возвышаясь над всеми лежащими, лицо в слезах, и временами тихо-тихо всхлипывает, а губы двигаются и произносят что-то полушепотом.
Я его рукой ударил и говорю шепотом: “Ложись! пристрелят!” – а он продолжает стоять на коленях, смотрит куда-то невидящими глазами, шепчет и крестится. Второй раз толкнул его – не ложится. Ну, думаю, пусть стоит, меня бы только не пристрелили. Прошло минут 10–15, охрана по обочинам дороги бегает, слышим, тело поволокли по земле, а потом раздалась команда: “Вставай! Ряды держи – не путайся. В сторону шаг – стреляю!”
Встали с земли, ряды выровняли. Пошли. Смотрим – тело убитого убрали, только кровь осталась на листьях, где он лежал. Идем. Охрана злая, чувствуем: чуть что не так – автоматной очередью прошьют. Посмотрел я на о. Арсения – в глазах слезы, лицо серьезное, печальное-печальное, но вижу, что молится. Почему-то вид о. Арсения обозлил меня, нашел тоже время молиться и плакать! Спрашиваю: “Что, Стрельцов? Разве такого не видели?”
“Видел, и не раз, но ужасно, когда убивают безвинного человека. Ты все видишь и ничем не можешь помочь”. А я ему с издевкой сказал: “Вы бы Бога-то своего на помощь призвали. Он бы и помог татарину, или хоть бы прокляли убийцу. Хоть словесная и бесполезная, но месть”.
“Что Вы! Что Вы! Разве можно проклинать кого-нибудь, а Бог и так сейчас многих из нас спас. Я видел это. Солдата Господь покарает. Ангел Смерти уже встал за его спиной. О, Господи! Как я грешен!” – закончил о. Арсений. Сказал и пошел, грустный-грустный.
Расстрел заключенного татарина снял со всех нас усталость, и колонна пошла быстрее, но шла молча.
Через день пришли на времянку. Месяц надо было здесь нам прожить. Работали по 15-18 часов. Питание давали по самой низкой лагерной норме. Каждый день хоронили мертвецов. Комары, гнус заели. До того измучились, что многие прямо с лопатой или топором замертво падали на рабочих местах.
Охранник подойдет, прикажет другому заключенному топор или лопату взять и отойти от лежащего, а сам ногой толкнет упавшего. Кто отойдет, отлежится, а других прямо на повозку и к врачу. Тот осмотрит, зафиксирует смерть, подпишут акт – и кончился твой лагерный срок...
Стал я к Стрельцову приглядываться. Поразил он меня на перегонном этапе. Я вижу, необычный он человек, какой-то особенный. Работает так же, как все, в лагере много лет, старый, вконец измотанный и почему-то живет, не умирает. Молится все время, во что-то верит, и так верит, что от этого только и живет еще.
Вот так и присмотрелся я к нему. Главное, что удивило меня: устает ведь, как все, но всем старается помочь и помогает. Относится ко всем внимательно, приветливо. Его даже охрана по-своему любила и щадила.
Проработали месяц. Пришло шестьсот человек, а назад гнали не более двухсот.
Шли до лагеря четыре дня. Шли медленно. Охрана не торопит, понимает, что во всех нас только что и осталось душа, да и та еле-еле держится. Пришли в “особый”, дали день отдыха, даже паек хороший выдавали три дня, там тоже люди бывали. Месяц на “времянке” крепко привязал меня к о. Арсению. Все меня в нем поражало. Доброта необыкновенная, помощь людям безотказная и главное, что помогал он в самую трудную для тебя минуту. Бывало, тяжко, тоскливо, грустно на душе и жить не хочется, а он подойдет, положит руку на плечо и скажет два-три самых простых слова, которые сразу осветят, согреют тебя или ответит на то, что тебя сейчас угнетало и мучило.
Таких, как я, получающих помощь от о. Арсения, было много. Одни уходили, другие приходили и образовывали около него какой-то особенный круг.
Почему я начал воспоминания об о. Арсении с этапа на “времянку” и с убийства заключенного татарина? Да только потому, что поведение о. Арсения во время перехода было для меня совершенно необычным, а его отношение к окружающим людям во время месяца работ на стройке поражало даже охрану. Помню, что охрана иногда называла его “отец” за его настоящую помощь другим.
Солдата-татарина Ибрагимова убили на другой день в лагере. Доведя нас до “времянки”, конвой вернулся в “особый”. Убили в казарме – солдатской, убили зверски. Выкололи глаза и перерезали горло. Заключенные этого сделать не могли, так как убит он был вне зоны, а там жило только начальство. Убил кто-то из своих, татар-охранников. Узнали мы об этом только через неделю после возвращения в “особый”, и я рассказал об этом о. Арсению. Помню, о. Арсений страшно расстроился и сказал мне: “Господи! Господи! Как это все ужасно. Еще одна смерть. Мучительная, страшная. Смерть без примирения со своей совестью и хотя бы внутреннего покаяния”. Сказал и отошел, а я с радостью подумал: “Собаке – собачья смерть”.
Вышел я из лагеря на три года раньше о. Арсения, но уже вся моя жизнь была связана с ним. Я всегда благодарю Господа, что Он дал мне возможность встретить такого человека, как о. Арсений. В 1958 году я вторично встретил о. Арсения, но это уже было на воле.
Записано человеком, духовно любимым и воспитанным
о. Арсением. 1966-1967 гг.Петра Андреевича? Конечно, помню, на всю жизнь запомнил. В дороге, можно сказать, познакомились. Вышли из лагеря утром. Мороз градусов 30, да при этом еще ветрено, а одеты только в телогрейках. Идти недалеко, около 10-ти километров, а по времени часов 4-5 с лагерным “сидором” на спине (“сидор” – это вещевой мешок). Скоро холод стал прохватывать до костей, а часа через два я окончательно замерз. Оглядываюсь, вижу, ребята тоже мерзнут, охрана в тулупы одета, но, видно, и ей холодно. Собаки, охраняющие колонну, покрылись инеем. Идем, крепимся, стараемся быстрее, чтобы согреться. Чувствую, что ноги и руки окончательно отмерзли и одеревенели, колонна замедлила движение. Охрана кричит: “Ходу, ходу! Шевелись! Замерзнете!” Стал спотыкаться, ног уже не чувствую, бреду кое-как. Слышу, меня кто-то поддерживает за локоть. Смотрю, старик рядом идет. Удивился, что ему до меня? Иду, качаюсь, сил уже больше нет. Старик схватил меня за руку и держит, чтобы не упал и говорит: “Духом не падайте. Держитесь, двигайтесь больше, согревает это, и дойдете с Божией помощью”. Прошли еще с полкилометра, иду в забытьи, дороги уже не разбираю, поскользнулся и упал. Пытаюсь подняться, руки, ноги не действуют. Сознание после падения прояснилось, и понял я, что конец. Замерз, погиб. Лежу и вижу: ряды заключенных размыкаются, обходят меня, а старик остался около меня. Порядок знаю: последний ряд пройдет, и охрана, замыкающая колонну, подойдет ко мне, и если я не подымусь, то, чтобы со мной не возиться, пристрели и сообщи потом по начальству: “Убит при попытке к бегству”.
Старик стоит около меня зачем-то. Подошел старший лейтенант, начальник охраны, толкает ногой: “Вставай”, – а я отчетливо соображаю, но ни сказать, ни двинуться уже не могу. Слышу, старик говорит старшему лейтенанту: “Гражданин начальник! Помогите ему, замерзнет”.
А тут подошел старшина с автоматом и как-то просительно сказал: “Товарищ старший лейтенант! Ему бы спиртишку, у меня во фляге есть”. Старший лейтенант дал команду колонне идти вперед, а сам со старшиной остался. Старик опять просит помочь мне, а где тут помогать, когда я совсем замерз, охрана возиться со мной не будет, холодно, хлопотно, да и ни к чему ей, проще пристрелить. Одним меньше, одним больше. Что из этого? Старик просит, не боится. Я хоть мерзлый упал, а он порядок нарушил, из колонны вышел. Пристрелят его непременно. Старший лейтенант посмотрел на старшину, и вижу – тот автомат снимает. Ну думаю, конец, поехали мы со стариком в могилевскую губернию. Старшина автомат старшему лейтенанту отдал, подошел ко мне и говорит старику: “Давай, дед, поднимем его”. Подняли. Старшина фляжку со спиртом достал и мне в рот сунул. Полился спирт в глотку. Сжег все внутри, а я судорожно глотаю. Выпил изрядно. Стали старшина со стариком меня от одного к другому перебрасывать. Задвигался я, а спирт изнутри согревает. Минут 5-10 меня бросали, роняли нарочно, подниматься заставляли с земли. Разогрелся, руки, ноги чувствую, иголками колоть их стало, и больно. Значит, отошли, и сам-то я бодрей стал. Говорю охранным: “Спасибо”, – а они в ответ: “Не нам спасибо говори, а старику. Поразил он нас тем, что с тобой остался”. И к нему обратились: “Как же это ты отстать не побоялся? Приказ знаешь? Два шага в сторону – стреляем без предупреждения!”
Старик поклонился им в ответ и сказал: “Чего же бояться вас, душа человеческая у всех людей есть, да и видел, что поможете. Человека в беде Бог не оставит”.
Догнали колонну. Ребята потом удивлялись, как это нас не пристукнули. Я ничего не рассказывал, как жив остался. Вот так и познакомился с Петром Андреевичем, старик-то – это он был. Сперва знал как Петра Андреевича, потом как иерея Арсения. Вошел Петр Андреевич – о. Арсений в мою жизнь как что-то огромное, светлое, радостное, так что не только помню, а постоянно живу им. Вспоминая многое, думаю: “Прав был о. Арсений, у многих людей живет в душе доброта, человечность, но где-то скрыта она, и только надо суметь найти ее, так было со старшиной и старшим лейтенантом”.
Году в 63-м встретил в Калуге старшего лейтенанта из охраны. В штатском он был и, как потом узнал, на каком-то заводе работал. Подошел к нему. “Здравствуйте, – говорю,– товарищ старший лейтенант!” а он не узнает, напомнил – обрадовался, к прошлому вернулись, он мне сказал: “Страшное время было, сейчас вспоминать даже трудно”.
Спрашиваю: “Как это Вы тогда нас не пристрелили, да еще старшина спиртом поил?”, –а он в ответ: “А мы что, не люди? Да и старик нас поразил. На смерть ведь шел, а не побоялся Вам помочь. Скажу по правде, у нас в охране об этом старике разговоры были. Особенный он был, добрый, говорили, священник”. И спросил: “А где он сейчас?” Я сказал, что о. Арсений жив. Разговорились со старшим лейтенантом, зашли в кафе, выпили по маленькой, вспомнили жизнь нашу лагерную. Вот так было. Переписывался я с о. Арсением долго, до самой его смерти. Письма все сохранил. Скажу Вам: Человек был большой!
Записано со слов председателя колхоза – агронома
из Калужской области.Спрашиваете, что помню?
Да все помню. Все это рассказано тысячи раз: допросы, приговор, лагерь, голод, избиения, уголовники, постоянно стоящая рядом с тобою смерть и неистребимая память о близких. Помните:
“Ты теперь далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти четыре шага...”
А до нее действительно было рукой подать, эта старуха всегда сторожила нас то в виде нового приговора, то убийства уголовником из-за куска хлеба, то от голода и от тысячи других причин.
Вообще все было как у сотен тысяч таких же, как я, горемык. Нечего вспоминать об этом, не я один перенес это, а тысячи, и никакого в этом подвига нет. А вот суметь найти себя в лагере не всякий мог. Отец Арсений нашел свое место в лагере, и не один, а сотни подвигов совершил.
Тому, кто не был в лагере, трудно понять, в чем заключается лагерный “подвиг” и можно ли сравнить его с подвигом на войне. Скажу, можно. На войне бросок вперед сделал в горячке и спешке – или сам пропал, но людей спас, или жив остался и дальше идешь, а в лагере все время под смертью ходишь, а если другому помогаешь, то вдвойне тяжело.
Мое знакомство с о. Арсением произошло зимой из-за валяных сапог, а до этого не знал его. Зимой главное, чтобы ноги были сухие, а здесь, в “особом”, сапоги всегда мокрые, отмерзают ноги, болят, в струпьях. Ночью сушить сапоги на печках нельзя, оставишь – упрут, а вечером уголовники не дают, сами сушат. В эту зиму ноги совсем отморозил, больше не могу на работу идти. Последний раз пришел, пятка к сапогу примерзла, в ручей провалился. Доковылял до барака, сапоги снять сил нет, упал на нары и обеда не съел, лежу и думаю – завтра сдохну. Лежу и в забытьи слышу, кто-то с меня сапоги снимает. Думаю, считают, что умираю, но уже все равно, дохну, не до сапог. Снял кто-то один сапог, второй, портянки размотал и стал ноги растирать, а я в забытьи все слышу. Растер, закрыл ноги и ушел. У меня мысль мелькнула: сапоги взял и портянки, а зачем ноги растирал и обмороженные болячки чем-то смазал? Болят ноги, но легче стало, я незаметно уснул.
Утром бригадир подошел ко мне и по уху дал: “Чего не встаешь?” – я, оказывается, проспал. Вскочил, а ноги-то разуты, оглядываюсь и вижу: подходит ко мне старик и подает мне сухие сапоги и портянки. Не понял я ничего, схватил, оделся и заковылял на работу. Вечером старик опять взял сапоги и высушил, и так несколько раз. Это меня и спасло. Пригляделся к нему, а потом разговорился, раз, другой и привык. А знаете, как он сапоги сушил? Положит их на печь и всю ночь стережет, а работал как и все. В лагере это больше чем подвиг.
Очень я переживал, да и кто не переживал, что сдохну в лагере и о родных ничего не знаю, а он, старик, хотя я уже знал, что его зовут Петр Андреевич или о. Арсений, просто и обыденно сказал мне: “Все у вас хорошо будет, выйдете скоро из лагеря и родных увидите”, – и, сам не зная почему, но я поверил как в истину.
И действительно, освободили меня через год с небольшим. Взяли меня в 1952-м, два с лишним был в простых лагерях, а в январе 53-го дело пересмотрели, срок добавили и в “особый” перевели. В конце 1955 года внезапно освободили: в правах, в партии, в должности восстановили, родные живы оказались.
Приезжаю я теперь к о. Арсению раз в полгода: душевно опустошенный, внутренне усталый, а он встречает меня, переговорит, исповедует, выслушает, накипь с души снимет, оживу я и с нетерпением жду следующей встречи. Уезжаю к себе в Новосибирск и увожу с собой частицу тепла и веры, полученные от о. Арсения, и постепенно расходую. Коммунист я и верующий в то же время. Вы это знаете, а там, конечно, не знают. Должность занимаю большую, стараюсь только идеологической работой не заниматься, связанной с атеизмом и антирелигиозной пропагандой. Обхожу это все. Вот Вам и мое знакомство с о. Арсением. Мир на таких людях держится. Я его в лагере наблюдал, многим он помогал, и мы, на него глядя, помогать другим стали. Вижу, вопрос задать хотите, как это я верующим стал? Смотрел на его дела, вот и стал, ну а потом другие помогли, рассказали, разъяснили, и сам, конечно, все, что хотел, то и узнал. Раз стали меня расспрашивать, то опять вернусь к вопросу о подвиге, потому что много теперь об этом говорят. Подвиг! Подвиг! А что такое подвиг? Войну я Отечественную прошел, во многих боях участвовал, добровольцем пошел, солдатом начал, майором кончил. Орденом Славы награжден, двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны, Красного Знамени, да всего и не перечислишь, что имею. Партизанским отрядом командовал, по заданию у немцев работал, четырежды ранен был, все было нипочем. Знал, для чего делал и что с тобой всегда товарищи есть, а если погибнешь, то за Родину. Попал в лагерь “особого назначения” и понял, что такое “фунт лиха”. Понял, что не смерть самое страшное во имя чего-то, а лагерь, в котором ты один на один сам с собой, и смерть с тобой, неумолимая, долговременно-мучительная, и кругом тебя все смертники, озлобленные, опустошенные, и нет твоим мучениям конца, и погибаешь ты неизвестно почему и во имя чего. Если совершишь побег, то куда? Товарищей у тебя все равно нет, тебя боятся. Ты один. Поверьте мне! Самый большой подвиг в жизни – это в нечеловеческих условиях помочь людям, будучи голодным и умирая от голода, отдать последний кусок хлеба, сделать за другого тяжелую работу, будучи сам полутрупом. Верьте мне, это действительно подвиг. Я водил людей в атаку, спасал из-под огня товарищей, меня спасали, но я знал, во имя чего я это делаю, а в лагере для чего было помогать и спасать? Все равно мы должны были умереть. Отец Арсений многих из нас спас и делал это во имя Бога и людей, никогда не щадил себя. Это подвиг во имя любви к человеку, и ты не ждешь себе никакой награды, ты несешь только одни трудности. Господи! Если бы все люди были похожи на о. Арсения!
Записано со слов Андреенкова в 1966 году
КОНЕЦВТОРОЙ ЧАСТИ
Православная беседа >> Библиотека 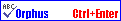
На правах рекламы: