|
|
Стрельцов Артем
Альберт
Алексей Васильевич Шкуратов, дослужившись до звания майора медицинской службы, вышел в отставку в возрасте сорока пяти лет. Посвятив жизнь свою служению Отечеству, он ревностно выполнял священный долг, но за двадцать лет службы в дисциплинарном батальоне в должности начальника санчасти, только тем и сумел прославиться, что сократил жизнь одному дезертиру, перепутав по пьянке какие-то порошки. Дело быстро закрыли за отсутствием состава преступления, а Шкуратов после этого сильно изменился - пить бросил совсем и стал более замкнутым.
Алексей Васильевич был человеком крепкой военной закалки, на вид высокий и худощавый. Лицо у него было худое и скуластое, изъеденное морщинами, и на нем блестели большие, почти совсем круглые, зеленые глаза.
По своим взглядам и образу жизни он был убежденным коммунистом и холостяком. Холостяцкая жизнь его была обусловлена тем, что женщин он просто-напросто презирал и не видел ни в одной из них ничего такого, что могло бы вызвать в нем симпатии или хотя бы уважение. Злые языки говорили, что за этим кроется какой-то тайный порок или безответная любовь.
Превыше всего на свете он любил и ценил свою партию, в которой состоял без малого 20 лет и очень гордился принадлежностью к ней. Уже давно в стране бушевала демократия, уже давно не существовала официально той партии, в которую он вступил еще в советские времена, но Шкуратов словно не замечал этого - он никогда не изменял своим идеалам. Окружающие привыкли и махнули рукой на эти странности майора.
Книжек он не любил, с детского возраста они вызывали в нем отвращение, всех поэтов и писателей он считал бездельниками. Как-то раз, когда ему было лет 25, в его руки совершенно случайным образом попал томик со стихами Пушкина. Алексей Васильевич открыл книгу на странице, где была помещена ода "Вольность". Вот уж чего-чего, а вольностей, ни в каком их виде, он никому позволить не мог и сам их не допускал никогда, или почти никогда. Во всём он любил дисциплину и порядок. "Если каждый будет писать "Вольности", то куда мы тогда докатимся?!"- недоумевал он, забыв о том, что Пушкин давно уже помер, а потому Алексей Васильевич мог по ночам спать спокойно, потому что такие поэты у нас выродились и, по-видимому, можно было сказать определенно: "Больше в России Пушкиных не будет!"
Единственной книгой, которую он мог иногда читать, был старенький сборник армейских уставов. Шкуратов берег эту книгу ещё с военного училища. Именно с тех пор у него осталась ещё одна привязанность - к гимну СССР "Союз нерушимый республик свободных". Давно уже слова гимна переписали, но Шкуратов бережно хранил у себя пластинку со старым вариантом гимна и периодически прокручивал ее на старой вертушке.
В городе Н., где проживал майор после выхода в отставку, как и во всяком нормальном городе, была психиатрическая больница. Некоторое время власти города никак не могли найти для больницы главного врача. Алексей Васильевич узнал об этом, вспомнил свои старые знакомства, немного поистратился, и в конце концов его кандидатура устроила всех.
В нем не ошиблись. По прошествии полутора лет с тех пор, как Шкуратов вступил в новую должность, больница стала симпатичным уголком на окраине города: из старой и полуразрушенной она превратилась в прекрасное сооружение, фасад которого напоминал известное здание на Лубянке. Шкуратов отделал на втором этаже кабинет для себя и переехал в него жить.
Что касается персонала, который должен был следить за больными, то тут Алексей Васильевич пошел на принцип - всех медсестер и нянек он заменил на крепких и здоровых мужиков, бывших офицеров, мало что понимающих в психических заболеваниях и в медицине вообще, но хорошо знающих, что такое приказ и как его нужно выполнять. Именно такие помощники нужны были Алексею Васильевичу: непослушания и пререканий он бы не потерпел. Персонал обязан был следить за строгим порядком среди больных, а в случае его нарушения принимать незамедлительные меры по восстановлению тишины и спокойствия. Последствия этих мер ещё долгое время можно было созерцать на распухших лицах больных, но они никогда не жаловались.
Алексей Васильевич имел своё мнение по поводу счастья. Он был твердо убежден, что путь к нему лежит через упорный труд и страдания. Именно поэтому личный состав (так он называл больных) при Шкуратове стал упорно трудиться и страдать, и с каждым днём счастья было всё больше - его количество возрастало прямо пропорционально количеству синяков и травм, полученных больными от помощников главврача, но больные любили Алексея Васильевича за то, что благодаря его заботам они стали хорошо кушать, получая в день трехразовое питание, состоящее в основном из тарелки кислых щей без мяса и куска черного хлеба (раньше и этого не было, больные умирали здесь от недоедания). За то любили, что их стали одевать в более-менее чистые халаты и позволили мыться раз в месяц. А работа чаще всего заключалась в бессмысленных действиях - сначала больные копали глубокие ямы, а потом закапывали, а еще они переносили кирпичи с одного места на другое. Алексей Васильевич видел в этом залог их хорошего самочувствия.
О том, что больных бьют, он прекрасно знал, даже сам иногда прикладывал кулак к лицу какого-нибудь умственно отсталого, забывшего о своем счастье. "Иначе нельзя - обстоятельства!" - говорил Шкуратов и ему верили вполне, осознавая, что без него неминуем возврат к старым временам, когда все они были голодные и холодные.
Алексей Васильевич ещё в самом начале своей работы в должности главврача составил на основе армейского устава "Моральный кодекс" для больных: этого требовали в Горуправе, где всегда придавали большое значение документации - если есть бумажки, значит работа идёт.
Каждую субботу помощники главврача устраивали осмотр больничных палат и переворачивали всё вверх дном: ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы больные пользовались ручками, карандашами, чтобы они имели записные книжки или тетрадки, в которые они запросто могли бы записать какие-нибудь дурацкие мысли или нарисовать непристойности.
За два года, что Шкуратов был главврачом, в психбольнице не произошло ни одного преступления, власти города были довольны Алексеем Васильевичем и ему значительно повысили зарплату.
- Не в деньгах счастье, а в благе и здоровье личного состава! - сказал Шкуратов в Горуправе и на лице его засияла гордая улыбка.
II
Нашелся-таки один мерзавец!..
На столе перед Шкуратовым лежала зеленая записная книжка, которую обнаружили его помощники при очередной проверке чистоты морального облика сумасшедших. На первой её странице было выведено красивым почерком:
Не дай Вам Бог сойти с ума -
Нет, легче посох и сума,
Нет, легче труд и глад...
А.С. Пушкин.
- Так! - Шкуратов закрыл книжку и хотел разорвать её, а затем выкинуть в мусорную корзину, но, переборов это желание, открыл её снова, но уже на второй странице, и стал читать записи самым внимательным образом.
Хозяина этой записной книжки звали Альбертом, в его личном деле не было практически никакой информации, что вызывало у Алексея Васильевича разные подозрения.
Это был молодой человек двадцати пяти лет, невысокого роста, стройный, с черными кучерявыми волосами и карими глазами. Вообще, он был чем-то похож на Пушкина. Альберт был тихим больным, никогда не буянил. В истории его болезни не было написано, по каким причинам он попал сюда, но по его поведению можно было понять, что он страдал манией преследования.
Его преследовала... музыка. Он учился в музыкальном училище, учился отлично, преподаватели прочили ему большое будущее. Но за год до окончания училища с головой Альберта что-то случилось, а что именно - он и сам не мог понять. Были такие периоды, когда его неотступно преследовали вступительные такты из великой симфонии не менее великого Бетховена, про которые сам композитор сказал: "Так судьба стучится в дверь!" Альберт не знал, куда себя деть: он носился по коридорам и по улицам, пытаясь сбежать от музыки. Дома он закрывался на кухне, забивался под стол, но музыка доставала его и там.
Его воспитанием занималась бабушка, так как родители у Альберта погибли в автокатастрофе, когда тот еще был маленький, а больше никакой родни у него не было. Поэтому после смерти бабушки он попал в психбольницу.
Вёл он себя здесь, по мнению персонала, вызывающе. Нет, он не бросался на стенки и не бил окна, не плевался в палате, но постоянно мешал помощникам главврача заниматься воспитанием личного состава: он заступался за больных, когда тех били. Он никогда не размахивал кулаками и никому не угрожал, но подходил к тому помощнику, который охаживал очередную жертву, смотрел прямо ему в глаза и произносил уверенно-просяще:
- Зачем вы его трогаете? Оставьте, не бейте его, он вам ничего плохого не сделал. Если хотите - ударьте меня.
Вокруг Альберта в это время собиралась толпа из персонала. Они громко смеялись над ним, похлопывали по плечу и постепенно похлопывания переходили в сильные удары. Они били Альберта до тех пор, пока тот не терял сознание.
Больные уважали его, но это уважение ни в чем не проявлялось, поэтому он всегда был один и всегда ему доставалось больше всех - и синяков, и работы. Меньше других доставалось ему только пищи за столом: он делился ею с другими больными…
"Решил записывать мысли, иначе окончательно сойду с ума. Примерно месяц тому назад очнулся в незнакомом месте, вокруг меня находились незнакомые люди, которые странно себя вели. Долго не мог понять, где моя бабуля. Только потом сообразил, что я в психлечебнице, которой давно меня пугали мои знакомые по курсу и преподаватели. А бабуля умерла..."
"Сегодня пытался отпроситься домой у нашего дежурного, в ответ он меня избил. Надо жить!"
"Не помню, что со мной было в последние дни. Опять эта музыка! На дворе, судя по всему, начало лета. Я начинаю потихоньку знакомиться со здешними обитателями. Милые люди, только немного странные. Как-нибудь подробнее о них напишу".
"После побоев несколько дней отходил, лежал на кровати и думал. Музыка почти не преследует".
"Они называют меня душевнобольным. Что ж, я действительно болен. Мои поступки вызывают у них смех, но чаще негодование".
"Плохие симптомы: начал кашлять кровью, ноги еле держат".
"За окном осенний дождь, я вспоминаю прошлую жизнь. Иногда очень хочется сесть за фортепиано, я даже начинаю мысленно представлять себе это, но как только в своих мечтах я хочу прикоснуться до клавиш, опять эта проклятая музыка начинает бить по вискам, и я целыми сутками мучаюсь. Господи, что мне делать?"
"Записываю очень редко, так как приходится прятать книжку от глаз дежурных, да и проверки бывают часто. Наш главврач в чем-то очень жесток, но глаза грустные. Видно, не очень у него сложилась жизнь".
"За окном снег. Ночь. Я вспоминаю детство. Милая бабуля... Жуткие головные боли. Допишу после".
"Самое скверное, что мы здесь не знаем, какой месяц на дворе. А может, это и ни к чему. Прошло около года, как я попал сюда. Начинаю привыкать, только всё тело болит. 0 душе и говорить нечего. Вспомнил стихи:
Сиянье. Душа человека
Как лебедь, поёт и грустит
И, крылья раскинув широко,
Над бурями тёмного века
В беззвездное небо летит".
Шкуратов захлопнул записную книжку, встал со стула и взволнованно заходил по комнате. Затем он подошел к проигрывателю и включил на полную громкость свою любимую песню-гимн, но впервые в жизни не смог дослушать её и до второго куплета, выключил и вернулся к столу, взял в руки зеленую книжку и открыл её в середине.
"Опять детство. Мы с бабулей иногда ходили в церковь, которая была недалеко от дома, но делали это почти тайно, и мне это нравилось, хоть я и не понимал тогда, от кого мы прячемся. Я очень любил во время службы сидеть на скамейке и качать ногами, и ни одна бабулька почему-то меня за это не ругала. В моей памяти мелькают фрагменты: вот я, маленький, ставлю свечку на подсвечник возле иконы Богородицы, а бабушка держит меня на руках и показывает, как надо правильно креститься. Вот я сижу на скамейке и вижу, как яркие блики от мозаичных окон бегают по полу. Я тихонько подхожу к этим бликам и вдруг вижу, что моя рука стала зеленой. Я долго на неё любуюсь, но раздаётся голос батюшки. Он молится о всех людях, а значит и о мне, и о бабуле. Я тоже прошу у Боженьки здоровья для бабушки, а то если она умрет, я останусь совсем один и мне будет грустно... Я снова обращаю внимание на свою руку. Вот чудо-то! Моя рука теперь красная. После службы подходим к батюшке Симеону - мне тогда казалось это имя странным и напоминало слово "осьминог", хотя батюшка на него совсем не был похож. Он благословляет меня и гладит по голове, он добрый. Бабуля почему-то плачет, я в недоумении смотрю на неё, она начинает улыбаться, потом берет меня на руки; и целует в нос. Боже мой, какие счастливые минуты!"
"Они называют меня шизофреником, каждодневно издеваясь надо мной. Может мне того и надо? Уже не чувствую боли. Жалко, что поговорить не с кем. Была бы рядом бабуля. Опять вспоминал весь день о ней, Как она укладывала меня спать, перед этим несколько раз перекрестив и чмокнув в лобик, а затем шла в другую комнату, зажигала перед образами лампаду и долго что-то шептала, и долго всхлипывала. Как плохо, что я не помню ни одной, молитвы".
"Опять лето. Сегодня гулял во дворе и заметил, как весело чирикают воробьи и поют свои серенады неизвестные мне птички. Они радуются жизни, они это умеют. А я только тоскую. Прости мне. Господи!"
"Долго всматривался в лица окружающих меня людей. Бабушка часто говорила мне, что если внимательно присмотреться к человеку, то обязательно увидишь в нем лик Христа. А ещё помню из детства, как долго не мог я оторвать свой взгляд от иконы Серафима Саровского, это лицо и эти глаза поразили моё детское воображение. Сегодня вспомнил те слова, которые были начертаны на этой иконе: "Боже, милостив буди мне, грешному!"
"Недели три не мог писать, были вывихнуты пальцы. Сейчас легче. Помню, когда дежурный бил меня, в голове опять зазвенела эта ужасная музыка. Хорошо, что потерял сознание".
"Очень люблю ночь. Никто не мешает просить у Бога прощения".
Алексей Васильевич снова прервал чтение для того, чтобы достать из шкафа закупоренную бутылку коньяка. Вот уже 15 лет, как он не прикасался к спиртному, а бутылку эту держал специально для проверяющих. Он судорожно открыл её и одним разом выпил сразу пол-бутылки. Немного полегчало. Минут пять он сидел и о чем-то думал, затем подошел к телефону.
- Немедленно построить весь личный состав во дворе! - приказал он своему заместителю по воспитательной работе.
Сейчас же были прекращены все работы, сумасшедшие собрались на больничном дворе и построились, как их учили, ровными колоннами перед небольшой трибуной, которая была сделана специально для Алексея Васильевича. Через минуту появился и сам главврач в окружении нескольких помощников. Больные приутихли и не отрывали от него глаз. Шкуратов взобрался на трибуну. Он был в белом халате, с непокрытой головой, на груди его блестела медаль "За безупречную службу" 3 степени - такие медали дарили раньше всем офицерам по праздникам, но Алексей Васильевич безмерно гордился ею, каждый день начищал до блеска, ведь она была у него единственная за 25 лет службы. Он оглядел своим взором стройные ряды дураков и лицо его выразило недовольство.
- Здравствуйте, товарищи идиоты!- с обычной издёвкой обратился он к личному составу.
- Здравствовать желаем! - дружно и громко отвечали больные, как их учили.
Алексей Васильевич с ещё большим темпераментом продолжал:
- Вы, чокнутые! Я забочусь о вас, о вашем благе. Еще раз повторяю: я - с вами и за вас. Но дисциплина - прежде всего! Дисциплина! А вы что?! Вот! - Шкуратов достал из кармана записную книжку и поднял её над головой, показывая больным. Они забеспокоились и стали шуметь.
- Спокойно! Я покажу вам этого мерзавца. Он здесь, среди вас. Больной Альберт, выйти из строя на пять шагов!
Больные замолкли в недоумении, обернулись назад и расступились, пропуская того, чьё имя только что назвал главврач. Альберт вышел на середину двора и повернулся лицом к строю. Шкуратов спустился с трибуны и подошел к нему. Удивительно, но Алексей Васильевич, глядя на ужасающий вид Альберта, в глубине души пожалел его, но тем не менее решил довести дело до конца и виду не показывать:
- Это твоя книжка?! - спросил главврач у больного таким тоном, что казалось: ответь Альберт "нет", и Алексей Васильевич пришибет его кулаком на месте.
- Да, это моя книжка,- прозвучало в ответ. Шкуратову захотелось ещё немного покуражиться.
- Надо отвечать "так точно", а не "да"! - заорал он.
- Так точно, это моя записная книжка, - тихим голосом отвечал Альберт.
- Громче! - возмутился Алексей Васильевич, но понял, что громче у Альберта не получится, он был очень слаб. - Меня интересует только одно: ты раскаиваешься или нет?
Больной молчал и смотрел в землю.
- В глаза смотреть! - Шкуратов сам не понял, как это случилось, но он со всего размаху дал Альберту сильный подзатыльник. Больной упал, а Шкуратов продолжал воспитывать личный состав:
- Я отвечаю за всё, что происходит в этой больнице. Я не потерплю здесь шизофреников, которые нарушают дисциплину. Я должен наказывать нарушителей. Я прав или не прав? - обратился он ко всем больным. Они почему-то молчали.
- Наверное, правы,- раздался робкий голос.
- Что-о?! Да это бунт! Я отомщу вам! - стал угрожать Алексей Васильевич, размахивая руками. - Вы будете у меня голодать до тех пор, пока не попросите прощения и пока этот идиот, - он указал на Альберта, - не раскается в своем поступке. Всё! Р-разойдись! По рабочим местам!
Пожалуй, впервые в жизни Шкуратову было так противно от собственных слов и поступков. Он вернулся в комнату, допил оставшиеся пол-бутылки коньяка, присел на стул и взгляд его упал на недочитанную записную книжку Альберта. Он открыл её на последних страничках.
"Слява Богу! Бетховен, кажется, навсегда оставил, меня. Я вполне счастлив в этих серых стенах".
"Боже мой, как скверно я жил. А мне казалось, что всё идет благополучно. Я занимался любимый делом, дни и ночи проводил за инструментом, мечтал о великой славе, а учителя подзадоривали меня и даже внушали, что я - будущий гений. Я верил им и совершенно забыл о Тебе, Господи. Спасибо, что Ты не забыл обо мне... Вот почему бабуля в последнее время так часто плакала".
"Последние дни перед смертью бабушки. Если бы их можно было вернуть. Я не успел сказать ей самое главное - что я её люблю. Проводил дни и ночи с какими-то ненужными людьми, иногда это прерывалось приступами болезни. Однажды утром вернулся домой и увидел бабулю, лежащую на кровати с закрытыми глазами. Рядом стоял священник, он сказал: "Господь сподобил исповедоваться и причаститься", перекрестился и вышел. И опять эта музыка, и дальше ничего не помню".
Шкуратов услышал во дворе странные звуки. Он выглянул в окно и увидел жуткое зрелище: толпа больных терзала лежащего на асфальте Альберта. Они били его неистово, руками и ногами, завывая и даже рыча от негодования и злости. Они помнили, что такое голод, и когда сегодня главврач пригрозил не кормить их, они возненавидели Альберта. Они забыли, что когда-то уважали этого странного шизофреника за то, что тот заступался за них. Страх голода отбил память и без того беспамятливых людей. Им хотелось только одного: чтобы их накормили сегодня обедом.
- Немедленно прекратить! - закричал Алексей Васильевич. Больные услышали знакомый голос и расступились. Шкуратов увидел окровавленное тело Альберта, помощники главврача перенесли его в лазарет. Вечером Шкуратову доложили, что пострадавший хоть и жив ещё, но совсем плох.
III
В следующие два дня что-то изменилось в привычной жизни психбольницы. Алексей Васильевич заперся у себя в кабинете и никуда не выходил, даже окна у него были зашторены. Заместители несколько раз пытались дозвониться до Шкуратова, но тщетно: видимо он отключил телефон. К вечеру второго дня один из помощников хотел войти к нему в кабинет, предварительно постучав в дверь, но оттуда услышал удивительно спокойное:
- Пожалуйста, не мешайте мне сегодня.
Даже больные забеспокоились и спрашивали друг у друга, не видал ли кто-нибудь из них главврача. В эти дни их никто не трогал, а кушать давали вдвое больше обычного.
Утром третьего дня Шкуратов появился на больничном дворе, но его было не узнать. Он выглядел постаревшим, осунулся и смотрел почему-то в землю. Ни с кем из персонала он не разговаривал и даже не спросил, как бывало обычно, про выполненный объём работ. Он только подошел к своему заместителю по медицинской части и сухо поинтересовался, что с Альбертом. Ему ответили, что состояние больного не изменилось - он был при смерти, Шкуратов утвердительно покачал головой: "Да...", развернулся и направился в лазарет.
Когда он зашел в палату, Альберт лежал с закрытыми глазами, лицо его было спокойно. Алексей Васильевич с минуту стоял в дверях и пристально глядел на умирающего. Затем сделал несколько шагов к больничной койке.
- Спасибо Вам, что пришли, - услышал он тихий голос Альберта.
- Вам плохо? - спросил Шкуратов.
- Вовсе нет. Слава Богу! - ответил Альберт и открыл глаза, в которых, как заметил главврач, не было ни обиды, ни горести.
- Чем я могу Вам помочь?
- Очень прошу Вас - позовите батюшку, ну... священника.
На какое-то время в палате воцарилось молчание.
- Какого?
- Любого.
- Хорошо, - ответил Шкуратов и вышел. Помощник Алексея Васильевича долго не мог понять, куда и зачем его отправляет начальник, а когда понял, то очень удивился, но тем не менее распоряжение выполнил. Через час за отцом Константином (так звали священника) закрылась дверь в палату, где умирал Альберт.
Шкуратов сел на стул рядом с палатой и стал ждать. Минут двадцать из-за двери доносился шепот и какие-то другие звуки. Он прислушался и понял, что это - плач. А потом ещё звук, как будто кто-то упал. Алексей Васильевич приподнялся, тихонько приоткрыл дверь и увидел такую картину: перед кроватью плачущего Альберта на коленях стоял отец Константин и шептал: "И ты прости меня, помолись обо мне там".
Шкуратов закрыл дверь, а вскоре вышел священник, остановился и, не глядя на Алексея Васильевича, произнес: "Обязательно позовите меня, когда..." Он не договорил и быстро зашагал из корпуса...
В день похорон на кладбище, кроме гробовщиков, были еще два человека, которые провожали Альберта в последний путь - отец Константин и Шкуратов. После того, как гроб засыпали землей, священник пропел "Вечную память". Алексей Васильевич попросил батюшку задержаться, и они, стоя у могилы, о чем-то очень долго разговаривали. Гробовщики потом рассказывали, что в конце их разговора отец Константин перекрестил главврача и пожал ему руку.
С тех пор Алексея Васильевича в городе Н. никто не видел.
Сайт автора - Песни Артема Стрельцова
Православная беседа >> Библиотека >> Стрельцов Артем 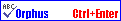
На правах рекламы: