|
|
Осипов А.И., проф.
Достоевский и Христианство
Федор Михайлович Достоевский принадлежит к той сравнительно небольшой части людей, которые несут в себе какой-то неугасающий огонь, непрерывно жгущий их души исканием Истины и приносящий им глубокое страдание, пока не найдут ее. Может быть наилучшим фоном для понимания их являются те, о которых Господь Иисус Христос сказал Своему ученику: “Предоставь мертвым погребать своих мертвецов” (Мф. 8,22). Эти другие - люди мировозренчески безразличные. У них нет вопросов о душе, о нравственной ответственности перед совестью и Богом, об истине, о каком-то ином смысле жизни, кроме посюстороннего, исключительно земного, преходящего. Это те “теплохладные”, о которых Писание говорит: “Извергну тебя из уст Моих” (Откр. 3,15).
Как далек от них по типу своей личности Достоевский! При всей сложности характера и нравственных проявлений своей непростой натуры это был человек ищущий святыни, горящий исканием высшей Правды - не философской, отвлеченной истины, большей частью ни к чему никого не обязывающей, но Правды вечной, являющейся непоколебимым законом жизни и сохраняющей каждого верного ей человека от духовной смерти.
Говорить, однако, о такой Правде можно только с точки зрения вечности, ибо она есть Сам Бог. Потому-то отречение от идеи Бога неминуемо, по Достоевскому, ведет человечество к гибели. В уста беса в “Братьях Карамазовых” Достоевский влагает следующие знаменательные слова: “По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать, - о, слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человекобог... а ему “все позволено”... Для Бога не существует закона! Где станет Бог - там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... “все дозволено” и шабаш!”. Мысль о великом значении для человечека веры в Бога и бессмертие души Федор Михайлович высказывает и развивает во многих своих сочинениях и выступлениях, и она заключает в себе, по существу, основной стержень его творчества, источник его целожизненного, прошедшего в великих интеллектуальных и нравственных борениях богоискательства, приведшего его ко Христу и Православной Церкви.
Ф.М. Достоевский, говоря о нем его же словами о человеке, “широк... слишком даже широк, я бы сузил”. Но нельзя его сузить, иначе это будет не Достоевский. Поэтому, чтобы как можно меньше погрешить против него, не станем касаться “широты” его личности, давать оценку его трудам, оставим подробности его жизни и деятельности, уклонимся от анализа художественных достоинств и недостатков его произведений, умолчим даже о том колоссальном влиянии, которое имело и оказывает до сих пор его творческое наследие на все мыслящее человечество. Сейчас попытаемся, насколько это возможно, осветить только один вопрос, но лежащий совсем не в горизонтальном измерении личности писателя и его творчества, а в той глубине души, из которой проистекал источник необыкновенно богатого потока ценностей, оставленных русским гением своим потомкам. Итак, какова основополагающая идея творчества Достоевского, или точнее, как можно было бы охарактеризовать дух его, но не с точки зрения земных человеческих критериев, а sub specie aeternitatis?
Эдгар По однажды записал: “Если какой-нибудь честолюбивый человек возмечтает революционизировать одним усилием весь мир человеческой мысли, человеческого мнения и человеческого чувства, подходящий случай у него в руках - дорога к бессмертию лежит перед ним прямо, она открыта и ничем не загромождена. Все, что он должен сделать, - это написать... маленькую книгу. Заглавие ее должно быть простым - три ясные слова - “Мое обнаженное сердце”. Но - эта маленькая книга должна быть верна своему заглавию”.
Очень здравая мысль. Однако писатель, видимо, забыл, что такая книга уже написана и без каких-либо честолюбивых мечтаний о революционных преобразованиях мысли мира. Эта “маленькая книга” называется - Евангелие. Оно с предельной полнотой обнажило глубины сердца человеческого, открыв миру путь к совершенному познанию души: и ее невыразимой красоты, равной которой, по выражению преподобного Макария Египетского, нет ни на земле, ни на небе, и того безмерного зла, которое возникло в том же сердце в силу отступления человека от Самой Истины и Жизни - Бога. Оно, Евангелие, стало для живых духом людей источником и основой истинного познания своего собственного сердца, познания человека, и, отсюда, рождения многих “маленьких книг”.
Одним из немногих писателей, кто показал “обнаженное сердце” человека в свете Евангелия - в отличие от т.н. реализма, часто напоминающем натурализм - и явился автором действительно “маленькой книги”, был Федор Михайлович Достоевский. Человек как образ Божий, хотя и падший - всегда главный предмет мысли Достоевского. “А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением”, - так говорил на могиле Достоевского 1 февраля 1881 года В.С. Соловьев.
Что же представляет собой человек в понимании Достоевского?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить те основные взгляды на человека, которые господствовали в просвещенном обществе того времени. Их три.
1. Человек - это коварная, чувственная и эгоистическая обезьяна, несущая в себе наследие своих животных предков.
2. Человек - добр, любвеобилен, способен к самопожертвованию и т.п. Дурные качества, которые мы замечаем в человеке, не суть свойства его природы, но прямые следствия развития цивилизации, которая внесла в человека дисгармонию, отдалив его от природы, от естественной жизни.
3. Человек не зол и не добр по природе, он - чистая доска, на которую лишь социальная среда во всем многообразии ее факторов наносит уже соответствующие письмена.
Достоевский в существе своих воззрений очень далек от всех этих теорий. Для него противоестественна первая точка зрения, хотя, по-видимому, редко кто из писателей, как он, изобразил с такой силой и яркостью “дно” души человеческой.
Достоевский не согласен и со второй теорией, несмотря на то, что сама идея неизгладимого и всегда действующего в человеке добра и правды была ведущей во всем его творчестве. В “Дневнике писателя” читаем даже такое: “Зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно”.
Резкую критику вызывает у Достоевского и третья теория. Он не согласен с тем, что “если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, т.к. не для чего будет протестовать и все в один миг станут праведными”. “Ни в каком устройстве общества, - писал он, - не избегнете зла... душа человеческая останется та же... ненормальность и грех исходят из нее самой”.
У Федора Михайловича иное воззрение на человека.
“Маленькая книга” - Евангелие - открыла ему тайну человека, открыла, что человек - не обезьяна и не ангел святой, но образ Божий, который по своей изначальной богозданной природе добр, чист и прекрасен, однако в силу греха глубоко исказился и земля сердца его стала произращать “терние и волчцы”. Поэтому то состояние человека, которое называется теперь естественным, в действительности нижестественное, больное, искаженное, в нем одновременно присутствуют и перемешаны между собой семена добра и плевелы зла. В чем же спасение человека по Евангелию? - В опытном познании сущностной поврежденности своей природы, познании неспособности только собственными усилиями искоренить в себе это зло и через то - признание необходимости Христа как единственного своего Спасителя, т.е. живая вера в Него. Сама эта вера, таким образом, есть плод искреннего искания чистоты души через постоянное понуждение себя к жизни по совести и совершению евангельского добра в борьбе с грехом, открывающей ему его реальное бессилие и смиряющей его.
Величайшая заслуга Достоевского как писателя-психолога в том и состоит, что он не только сам познал свое падение, смирился и пришел через труднейшую борьбу к истинной вере во Христа, как и говорил о себе: “Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла”, - но и в том, что в необычайно яркой, сильной, глубокой художественной форме раскрыл миру этот путь души. Достоевский как бы еще раз благовествовал миру христианство, и так, как, по-видимому, никто из светских писателей еще ни до, ни после него не сделал.
В смирении видит Достоевский основу для нравственного возрождения человека и для принятия его Богом и людьми. Без смирения не может быть исправления, в котором нуждаются все без исключения живущие, ибо во всех присутствует зло и великое зло. “Если б только, - говорит Достоевский устами князя в “Униженных и оскорбленных”, - могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, - то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться”.
Потому-то везде и всюду, если не прямо словом, то всей изображаемой жизнью героя, его падениями и восстаниями Достоевский призывает человека к смирению и труду над самим собой: “Смири свою гордость, гордый человек, поработай на ниве, праздный человек!”. Смирение не унижает человека, а напротив, ставит его на твердую почву самопознания, реалистического взгляда на себя, вообще на человека, поскольку смирение и есть тот свет, благодаря которому только человек видит себя таким, каким он является на самом деле. Оно есть свидетельство великого мужества человека, как не убоявшегося встретиться с самым грозным и неумолимым соперником - совестью своей. Для самолюбивого и тщеславного это не под силу. Смирение является твердой основой, солью всех добродетелей. Без него они вырождаются в лицемерие, ханжество, гордыню.
Да и как не смириться тому, кто прямо посмотрит на себя и признается честно самому себе во всем? Эта мысль постоянно звучит в творчестве Достоевского. Она является для него своего рода фундаментом, на котором он строит свой редкий по глубине прозрения психоанализ человека. Отсюда необычайная правда изображения им внутреннего мира человека, сокровенных движений его души, его греха и падения, и одновременно глубинной чистоты и святости образа Божия. При этом никогда не чувствуется со стороны автора ни малейшего осуждения самого человека. В уста старца Зосимы Достоевский вкладывает замечательные слова: “Братья, - поучает старец, - не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле... И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что он затрет дело ваше и не даст ему совершиться. Бегите сего уныния... Помни особенно, что не можешь ничьим судьею быть. Ибо не может быть на земле судьи преступника, прежде чем сам судья не познает, что он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде всех виноват”.
Но познать-то это не так просто. Далеко не многие способны увидеть себя, “что и он такой же точно преступник”. Большинство мнят себя в общем-то хорошими. Именно потому и мир так плох. Те же, которые становятся способными увидеть, что “все виноваты за всех”, увидеть личную свою преступность перед внутренним законом правды и раскаиваются, - глубоко преображаются, потому что начинают видеть в себе Божью правду, Бога.
Да и что значит пред Богом все дела человеческие! Все они не более, как “луковка”, о которой Грушенька говорит Алеше (“Братья Карамазовы”): “Всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели”. То же самое говорит Алеше во сне и его праведный старец Зосима, удостоившийся чести быть на брачном пире Господнем. Старец подошел к Алеше и говорит ему: “Тоже, милый, тоже зван, зван и призван. Веселимся. Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела?”. Это состояние - действительно состояние евангельского мытаря, вышедшего из храма, по слову Самого Господа, оправданным.
Подобное же настроение мы видим и у пьяницы Мармеладова (“Преступление и наказание”), когда он говорит о Страшном суде Божием: “И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и к нам: “Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!”. И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: “Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!”. И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: “Господи! Почто сих приемлеши?”. И скажет: “Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни един из сих сам не считал себя достойным сего”... И прострет к нам руци Свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем! Тогда все поймем!... и все поймут”. Так изумительно переложил Достоевский начало и основу евангельского учения о спасении - “Блаженны нищии духом, яко тех есть Царство Небесное” - на язык современности : “потому что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего”.
Только на этой незыблемой основе “нищеты духа” возможно достижение и цели христианской жизни - любви. Ее утверждает Евангелие как закон жизни: только в ней обещает оно благо, счастье человека и человечества. Эта любовь как сила исцеляющая, возрождающая и проповедуется Достоевским во всех, можно сказать, произведениях, к ней зовет он людей.
Не о романтической, конечно, любви идет речь. Любовь Достоевского - это жалость того же князя Мышкина к ударившему его купцу Рогожину, это сострадание к страждущему телом и душой ближнему, неосуждение его: “Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его”.
Вспомним заключительную сцену из “Братьев Карамазовых”, когда Ракитин, семинарист, зло радуясь, приводит Алешу к Грушеньке, надеясь увидеть позор праведника. Но позора не случилось. Напротив, Грушенька была потрясена чистой любовью-состраданием к ней Алеши. Все дурное враз исчезло у нее, когда она увидела это. “Не знаю я, - говорила она Ракитину, - не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалось, сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, обратилась она к Алеше, упав перед ним на колени, как бы в исступлении. - Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!”. “Что я тебе такого сделал, - умиленно улыбаясь, ответил Алеша, - нагнувшись к ней и взяв ее за руки, - луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!”. И, проговорив, сам заплакал”.
Хотел Достоевский и показал со всей силой своего таланта, что живет Бог в человеке, живет в человеке добро, несмотря на всю ту “наносную грязь”, которой покрывает он себя. Хотя и не ангел человек по жизни своей, но и не злобное он животное по своей сущности. Он именно образ Божий, но падший. Потому Достоевский и не произносит суда на грешника, что видит в нем искру Божию, как залог его восстания и спасения.
Вот Дмитрий Карамазов, человек взбалмошный, распущенный, с нравом дерзким, необузданным. Что творится в этой страшной личности, кто он? Мир произнес свое окончательное суждение о нем - злодей. Но верно ли это? “Нет!”- утверждает со всей силой своей души Достоевский. И в этой душе, в глубине ее, горит , оказывается, лампада. Вот что исповедует Дмитрий Алеше, брату своему, в одной из бесед: “... мне случалось погружаться в самый глубокий позор разврата (а мне только это и случалось)... И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок, подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, и я люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой миру нельзя стоять и быть...”.
Вот почему, в частности, так глубоко и искренне верил Достоевский в русский народ, несмотря на все его прегрешения. “Кто истинный друг человечества, - призывал он, - у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает... Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений”.
Как желал Достоевский показать эту красоту очищенной души человеческой, этот бесценный бриллиант, который большей частью весь завален, захламлен, загажен грязью лжи, гордыни и плотоугодия, но вновь начинает сверкать, омытый слезами страданий, слезами покаяния! Достоевский был убежден, что потому и грешит человек, потому и зол он часто и дурен, что не видит красоты своей подлинной, не видит души своей первозданной. В материалах к “Бесам” находим у него такое: “Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале, - что это и естественно и возможно”. Кириллов в “Бесах” говорит о всех людях: “Они не хороши, потому что не знают, что они хороши. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого”. Именно об этой красоте, представшей духовно очищенному взору человека, говорил Достоевский, когда утверждал, что “красота спасет мир” (“Идиот”).
Но, оказывается, красота эта спасающая в нашем дольнем мире открывается человеку преимущественно в страданиях, через мужественное несение им креста своего. Не случайно, страдания в творчестве Достоевского занимают столь значительное место, что его самого называют художником страданий. Ими, как огнем золото, очищается душа. Они, становясь раскаянием, возрождают душу к новой жизни, и оказываются тем искуплением, в котором столь нуждается каждый человек, глубоко осознавший и переживший свои грехи, свои мерзости. И поскольку все грешны, то и страдания, по Достоевскому, необходимы всем как пища и питие. Но плохо той душе, которая не чувствует этой необходимости. “Если хотите, - пишет он в “Записной книжке”, - человек должен быть глубоко несчастен, ибо тогда он будет счастлив. Если же он будет постоянно счастлив, то он тотчас же сделается глубоко несчастлив”. “Горе узришь великое, - говорит старец Зосима Алеше, - и в горе сам счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастье ищи”. Ибо через страдания, к которым ведут иногда и страшные преступления, освобождается человек от своего внутреннего зла и его соблазнов и вновь обращается к Богу, Христу и спасается.
Во Христе и Его Церкви, каковой по глубокому убеждению Достоевского является Церковь Православная, только и возможно спасение.
Христос для Достоевского не отвлеченный нравственный идеал, не абстрактная философская истина, но абсолютное, превысшее все личностное Благо и совершенная Красота. Поэтому он пишет к Фонвизиной: “Если б кто доказал мне, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели со истиной?”. Именно потому он с таким сарказмом говорит через Алешу Карамазова о псевдопоследовании Христу: “Не могу я отдать вместо всего два рубля, а вместо “иди за Мной” ходить лишь к обедне”. В таком случае действительно от Христа остается лишь “мертвый образ, которому поклоняются в церквах по праздникам, но которому нет места в жизни” [1].
Но Христос по глубокому убеждению Достоевского сохранился неповрежденно лишь в Православии, в народах славянских и особенно в русском народе. Отсюда и особенность взгляда Достоевского на русский народ, как на народ богоносец, народ, который может и должен спасти Европу - это “дорогое, - по словам Ивана Карамазова, - кладбище” (давно уже кладбище и никак более)”, а с нею и весь мир. “Все, все, чего ищет русский народ, - пишет он, - заключается для него в Православии - в одном Православии и правда и спасение народа русского”; “главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит в том, чтоб сохранившийся в Православии Божественный лик Христа, когда придет время, - явить всему миру, потерявшему свой путь”.
Почему Достоевский так пишет о Европе? Разве не была она христианской? “В Европе, - отвечает он, - и теперь есть христиане, но зато страшно много извращенного понимания христианства” (“Записная книжка”). “На Западе, - пишет он Н.Страхову (1871 год), - Христа потеряли - благодаря католицизму и оттого Запад падает”. Отсюда, и роковые для Европы последствия. За год до смерти Достоевский писал: “Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного и общего. Муравейник, давно уже создавшийся в ней без Церкви и без Христа, с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все общее и все абсолютное, - этот созидавшийся муравейник весь подкопан”.
Причину духовного омертвения Европы Достоевский видит в извращении католичеством самых основ христианства. Именно это привело Запад к грандиозной религиозной катастрофе в XVI веке, оно же породило и великую трагедию европейской культуры. При этом Достоевский подчеркивает: “Я не про религию католическую одну говорю - но про всю идею католическую”. В “Легенде о Великом Инквизиторе” Достоевский раскрывает эту идею. Он убежден, что католичество, по- существу, отвергло Христа, поскольку отвергло важнейшую предпосылку Его учения: благовестие о свободном и только свободном обращении человека к Богу, о свободном ответе человека на любовь Божию. Католическая церковь, по Достоевскому, стремится любыми средствами, в том числе насилием и хитростью, подчинить человека власти Рима. И это исходит не из любви ко Христу, а из горделивого стремления к господству над всем человечеством. То есть цель католичества чисто земная, бездуховная и потому ее осуществлению более всего мешает именно Христос Своею проповедью о любви и свободе, как непременных условиях достижения человеком истинного блага. В уста Великого Инквизитора Достоевский вкладывает ужасное признание: “Я не хочу любви Твоей, - говорит он Христу, - потому что сам не люблю Тебя. Может быть ты хочешь услышать нашу тайну из моих уст, так слушай же: мы не с Тобою, а с ним, вот наша тайна.”
Отвергая церковь Католическую, Достоевский в то же время решительно настаивает на необходимости Православной Церкви в качестве безусловного духовного начала жизни и носителя той истинной культуры, которую Россия должна принести всему миру. Прот. Зеньковский писал: “Оцерковление всей жизни - вот тот положительный идеал, который одушевлял Достоевского и который он понимал не как внешнее подчинение всей жизни Церкви (как это именно и думало католичество), но как свободное и внутреннее усвоение жизнью во всех ее формах христианских начал” [2]. Но задолго до него то же самое говорил и В. Соловьев: “Если мы хотим одним словом обозначить тот общественный идеал, к которому пришел Достоевский, то это слово будет... Церковь” (“Первая речь” о Достоевском).
Таким образом, о творчестве Достоевского можно с несомненностью говорить, что основное его направление и дух его - евангельский (речь идет не о богословской точности высказываний). Как все Евангелие пронизано духом покаяния и прощения, мужественного смирения и жертвенной любви, - одним словом, духом мытаря, блудницы, разбойника, припавших со слезами раскаяния ко Христу и получивших через это очищение, нравственную свободу, радость и свет жизни, - так и весь дух произведений Достоевского дышет там же и тем же. Достоевский, кажется, только и пишет о “бедных людях”, об “униженных и оскорбленных”, о “карамазовых”, о “преступлениях и наказаниях”, возрождающих человека и возводящих к началам истинной любви. “Возрождение,- подчеркивает митрополит Антоний (Храповицкий), - вот о чем писал Достоевский во всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточенное самоубийство; только около этих настроений вращается вся жизнь всех его героев” [3].
Еще пишет Достоевский о детях. Дети везде в его сочинениях. И всюду они святы, везде как ангелы Божии среди ужасного, развращенного мира, свидетельствующие самим ликом своим о неизреченной красоте души, о Царстве Божием, сокрытом “внутрь” человека.
*
Замечательны последние минуты жизни Достоевского, раскрывающие нам духовное устроение автора бессмертных творений. “В 11 часов горловое кровотечение повторилось. Больной почувствовал необыкновенную слабость. Он позвал детей, взял их за руки и попросил жену прочесть притчу о блудном сыне”. Это было последнее покаяние, увенчавшее далеко не простую жизнь Федора Михайловича и показавшее верность духа его творений “маленькой книге” - Евангелию.
Правильно говорил В.Соловьев в своей “Второй речи” о Достоевском: “Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, - они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня поминаем!”
“...ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле” /Дневник писателя. 1876. Изд. 1895, с. 426/.
“Любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие уши человеческой” /там же/.
“...воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват” /Бр. Карамазовы. Изд. 1975. Т.14. С. 262/.
[1] В. Соловьев. Вторая речь (о Достоевском).
[2] Русские мыслители и Европа. Париж, 1995, с. 245.
[3] Сочинения, т. 2. СПб., 1911, с. 469.
Православная беседа >> Библиотека >> Осипов А.И., проф. 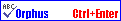
На правах рекламы: