|
|
Иларион (Троицкий), сщмч.
Письма о Западе
Письмо 1-е. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Письмо 2-е. СЛАВЯНСТВО
Письмо 3-е. КЕЛЬНСКИЙ СОБОР
Письмо 4-е. БОГОСЛУЖЕНИЕ
Письмо 5-е. ПРАВОСЛАВИЕ НА ЗАПАДЕ
Письмо 6-е. ДЕНЬ ИМЕНИН СЕРБСКОГО КОРОЛЯ
Письмо 7-е. НА РЕЙНЕ
Письмо 8-е. СИКСТИНСКАЯ МАДОННА РАФАЭЛЯ
Письмо 1-е. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯНам с Тобою, мой дорогой Друг, пришлось жить в тяжелое, но вместе с тем и в крайне интересное и важное время. Порою положительно кружится голова, особенно когда представишь себе те грандиозные мировые события, современниками которых суждено нам стало быть. Будто подходит какая-то новая, особенная эпоха в жизни и в истории нашей России. Недостаточно, думается мне, только наблюдать и переживать события; полезно над ними и размышлять. Я надеюсь, что текущая ужасная война полезна будет для русского самосознания. Победа над врагом при настоящем положении вещей бывает выгодна для победителей. Но я как-то мало привык оценивать жизненные явления с точки зрения выгоды. Идейный рост нации для меня дороже роста экономического и успехов культурных. А рост нашего национального самосознания не зависит даже от исхода войны; достаточно одного уже столкновения с Западом. Толчок дан, и мысль работает уже. Я хочу в этом письме поделиться с Тобою, родная душа, своими надеждами на будущие успехи именно нашего русского самосознания.
Самый пламенный из дорогих сердцу моему славянофилов Константин Аксаков восклицал:
Всегда ль к Европе суеславной
Прикован будет род славян?
Всего тяжеле плен духовный,
Больнее нет душевных ран!Разве это не правда, что славяне, и в частности мы, русские, прикованы к Европе? Ведь не одни грибоедовские девицы восторгаются у нас Западом. Скажу Тебе, милый Друг, что всегда у меня как-то грустно становилось на душе, когда я просматривал курсы новой русской истории или курсы русской литературы. Почему? - спросишь Ты. А потому, что я улавливал самую общую их мысль. Приблизительно эту мысль можно выразить так. Долго жила Русь, но никакого толку в ней не было. Был один мрак, невежество, суеверие. Наконец явился Петр I. Сначала он часто ездил в Немецкую слободу, потом “прорубил окно в Европу” и “преобразовал” Россию. Только с Петра и увидела Россия свет. Словом, “он Бог был твой, Россия!” - как восклицали льстецы-поэты. “Допетровская Русь” - ведь это уже название порицательное. Как осмеяны житейские идеалы наших предков! “Домострой” — это что-то ужасное и отвратительное! Так звучит это слово в устах наших западников. Вообще без немцев мы никуда не годны и так и остались бы навеки во мраке невежества. Вот какие мысли являются у меня при чтении исторических сочинений. Россия как будто существует всего лишь двести лет, а что было раньше, это можно изучать разве только ради курьеза или потому, что надо же что-нибудь изучать. Мне думается, Друг мой, что последние двести лет можно назвать немецким периодом в русской истории. Через петровское окно в нашу избу поналезли немцы и заняли в ней передний угол. И начали русские люди обращаться в немцев. Сначала скинули - а кто сам не хотел, с того насильно сняли - величавую одежду и надели куцый немецкий кафтан. Пошли смешные и странные одежды - камзолы, фраки, - все из того рода одежд, которые, по слову митрополита Филарета, не столько одевают, сколько обнажают. А за одеждой начали и душу менять, начали жить и мыслить по-немецки, разучились даже и говорить по-русски. Двести лет мы поклонялись немцам. Если иногда поклонялись французам, то это было опять по немецкой указке. Тогда и немецкие дворы прислушивались к тону, задаваемому французским Версалем.
Так, Друг мой, попали мы в плен позорный. Пленники бывают разные. Одни только и думают, как бы из плена убежать, другие плачут, подобно евреям в плену Вавилонском, а бывают и такие пленники, что забывают свою родину и стараются вовсе об ней не вспоминать. Русских людей можно отнести к этому последнему роду пленников. Русские забыли русскую Россию. Ведь знаешь, Друг мой, когда Карамзин написал “Историю Государства Российского”, про него говорили, что он открыл древнюю Россию. Разве это не характерно? А ведь от древней России до Карамзина и прошло-то всего сто лет. Едва ли во всей всемирной истории можно указать пример, чтобы предметом открытий была всего сто лет назад минувшая эпоха!
Разве же не плачевно такое унижение всего родного? Национальное чувство, национальное русское сознание как будто уснуло. Уснуло, Друг мой, но не у всех. Уснуло вверху, в “обществе”, но бодрствовало внизу, в народе. Если “общество” считало себя только европейским, то народ мыслил и чувствовал себя прежде всего русским. И вот мне думается, что раскол между народом и так называемой интеллигенцией нигде так резко не сказывается, как в отношении к Западу. Интеллигенция и верхи русского общества поклонились "немцу, а народ к немцу всегда относился как будто свысока, всегда критически, недоверчиво и даже иронически. Ведь в русском языке совершенно литературное слово “немец”. А разбери, что оно значит. В народном говоре все западные люди “немцы”. Не кажется ли Тебе, мой Друг, самое это название снисходительно-ироническим? Ведь когда дитя малое лопочет неудобовразумительное, ему говорят: “ах ты, немец!” А потом, как представляется немец в народной песне, в народных анекдотах? Непременно смешным, тупым и трусливым. Русский пред ним молодец-молодцом - и догадлив, и отважен.
Моя мысль особенно останавливается на тех светлых явлениях, когда русский гений восставал против чужеземного ига и смело заявлял, что Россия не только может быть хороша без немцев, но что она и была бы без них лучше, что еще вопрос, в сторону добра или зла “преобразована” была Россия. Разумею преимущественно славянофилов, этих умных, чистых и честных сынов России. Несмотря на отчаянную травлю со стороны западников, несмотря на равнодушие широких кругов общества, славянофильство было заметным явлением в русской жизни в течение трех четвертей XIX века. А главное, какие все это были прекрасные люди -славянофилы! Имена многих навеки вошли в историю, потому что и враги не могли не признавать блестящего ума и богатых талантов - философских, литературных, поэтических. Но опять замечательно: кто занимался только проповедью славянофильских идей, того постарались предать забвению. Не смогли забыть только тех, кто был писателем, поэтом. Гоголя, Хомякова, И. С. Аксакова, Достоевского забыть трудно. А Гильфердинг, К. С. Аксаков и им подобные? Ведь некоторых только за последнее время начали “открывать”. Но хорошо уже и то, что не один народ относился к немцу свысока. Народный взгляд разделяли и даровитейшие и образованнейшие люди XIX века. Вообще, дорогой мой Друг, наряду с поклонением Западу невольно замечаешь в русской мысли и постоянную критику Запада и осуждение Запада. Не замечал ли Ты, как часто у нас говорят об идейном кризисе Европы? “Кризис западной философии” - так называется первая серьезная философская работа самобытного русского мыслителя В. С. Соловьева . А сколько у нас в духовных журналах говорят о кризисе католичества или немецкого протестантства, о крушении моральных идеалов Европы! Не знаю, есть ли что-нибудь подобное в западной литературе о России и русских, но как-то не могу этого допустить. О чем может говорить немец, касаясь России? Он может говорить о кризисе нашей хлебной торговли, о кризисе нашей промышленности, но чтобы немец заговорил о нашем идейном кризисе -нет, это что-то вовсе не укладывается в моем сознании!
Так еще не вытравилось из русской души сознание своей ценности, своей самобытности. Однако, Друг мой, наблюдая за печатью, прислушиваясь к общественным настроениям, я все же с печалью замечаю, в каком загоне настоящая русская мысль, как робко, будто извиняясь, мыслят русские люди по-русски, если их мысли не совпадают с мыслями западными. И вот здесь начинаются мои надежды на лучшее будущее. Мы столкнулись с Западом. Несомненно, при этом столкновении ушибемся мы больно. А это заставит нас подумать о своих отношениях к Западу, подумать о самих себе. Может быть, подошел конец русскому позорному пресмыканию пред Западом, а тогда больше полюбят свое родное, русское.
С радостью говорю Тебе, мой Друг, что порою замечаю благоприятные признаки. Лишь загремели громы войны с ее ужасами, лишь полилась кровь наших защитников, у нас заговорили о “развенчанном кумире” и под этим кумиром разумели германскую культуру. Усиленно начали переоценивать западные ценности. Кумиры, которым поклонялись русские люди двести лет, еще не все сброшены с крутых гор в быстрые реки, но некоторые уже сброшены и поплыли в море забвения, хотя многие и бегут по берегу с криком: “выдыбай, боже!” Наше дело отталкивать этих плывущих кумиров, если они будут приставать к берегу.
Среди современных мыслящих русских людей и вижу я, Друг мой, как одни с бесчестьем тащат к берегам Леты немецких идолов и как другие по берегам этой реки зовут своих глухих богов: “выдыбай, боже!”.
Еще в октябре прошлого года Религиозно-философское общество памяти В. С. Соловьева устроило публичное заседание с речами и докладами о наступившей войне. Хотел я, Друг мой, побывать на этом собрании, но потом раздумал. Ведь, думал я, доклады и речи будут напечатаны и я познакомлюсь с ними, сидя у себя в келье. Действительно, в декабрьской книжке “Русской мысли” речи и доклады представителей нашей религиозно-философской мысли были напечатаны. Читал ли Ты их, мой Друг? Каких-нибудь новых откровений там я не нашел, но речи и доклады очень умные. Для меня они дороги как публичное исповедание нашими современными мыслителями своих взглядов. Узнаешь, что для них дорого, чего они хотят, на что надеются. Подробно об этих теперь напечатанных докладах я писать не буду. Я только отмечу, что так или иначе, но все собрание религиозно-философского общества обратилось в критику западных идеалов, западных основ жизни. Но на собрании ясно обнаружились и описанные мною двоякие отношения русских мыслящих людей к Западу. В речи председателя общества Г. А. Рачинского еще слышен голос преклонения пред германской культурой. Он говорил: “В нашей борьбе не на живот, а на смерть мы сражаемся не с древней и достопочтенной культурой Германии. Не с Германией Альбрехта Дюрера, Гольбейна и художников, создавших бессмертные картины и скульптуры ее древних соборов, не с Германией Лессинга, Гердера, Шиллера, Гете и Новалиса; не с Германией Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра, этих учителей как русских славянофилов, так и русских западников, не со всей этой великой культурой недавнего прошлого боремся мы” . Мало того, оратор переделывает стихи поэта, относя их к германской культуре:
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Ее развенчанную тень!Доклад князя Е. Н. Трубецкого я читал уже со скорбью, особенно такие строки: “Не будем теперь, после стольких уроков истории, возрождать... национальную гордыню и поклоняться России, как идолу”. Совсем иные мысли в докладах В. И. Иванова, проф. С. Н. Булгакова и В. Ф. Эрна. “Война, - пишет первый, - ведется за выбор основных путей человеческого духа. Поработится ли вновь, и уже окончательно, ныне полусвободное племя, назвавшее себя племенем Слова, но издревле понесшее зрак рабий и знаменательно переименованное в племя рабов (Slavi - Sclavi - Sclaven), и послужит ли новым слоем удобрения Для немецкой “культуры”, подобно бесчисленным своим предкам, стертым с лица земли паразитическою кровожадностью некогда сильнейшего в борьбе за существование вида? Или же скажет, наконец, славянство свое доныне не сказанное слово?” Проф. С. Н. Булгаков видит в войне “кризис новой истории и неудачу дела новоевропейской цивилизации”, потому что дух нового европейского человека оторвался от мистического центра, отошел от Церкви, рационализировал и механизировал жизнь. В этом духе господствует внерелигиозный гуманизм и иссушивший, обеднивший и обмирщивший христианство протестантизм. “Россия не участвовала активно в грехе новоевропеизма, она только заражалась им. Не она, обольщенная чарами князя мира сего, утверждала культ человекобога - человекозверя... Не она совершала протестантский подмен христианства низведением его до практической, мирской морали. Она может отвергнуть эти духовные начала новой истории и пойти своим особым путем. Она может отречься от вавилонской башни и восхотеть Града Божия... Она может подъять подвиг земного строительства не во имя свое, но во имя Христа Грядущего. Она может возгореться святою ревностью о деле Божием, которая поможет и Европе превратить кирпичи разрушающейся вавилонской башни в камни града Божия. России не удавалось до сих пор переделать себя в стиле новой Европы, ибо не может она найти к этому настоящего вкуса, ибо слышится ей смутно иной зов, иное веление: хотеть несоединимого, невозможного, чудесного, жаждать вместе земли и неба, святым томлением томиться...” “Совершился великий и в своем значении потрясающий факт: мы опять поверили в Россию! И этим духовным возрождением обязаны мы священной войне и смиренной жертвенности великого русского воинства”. Вот как определяет смысл и значение войны С. Н. Булгаков.
Можешь себе, дорогой Друг, представить, с каким утешением читал я эти воистину “русские думы”! Так озаглавлен доклад С. Н. Булгакова. В. Ф. Эрн озаглавил свой доклад “От Канта к Круппу”. Здесь он историю последних дней возводит к принципам философским и протестует против “упрощенного понимания всемирной истории”, по которому “немецкая культура - одно, а зверства - другое”. Свой доклад Эрн заканчивает молитвой “о том, чтобы катарсис европейской трагедии был пережит нами во всей глубине и чтобы мы навсегда преодолели не только периферию от зверских проявлений германской культуры, но и стали бы свободны от самых глубинных ее принципов, теперь разоблачающихся для тех, кто имеет очи видеть и уши слышать”.
Ну, как не приветствовать такое исповедание славянофильских воззрений в аудитории Политехнического музея!
Невольно за последнее время задумываешься над явлениями западного мира. Своими мыслями я и буду делиться с Тобой, дорогой и близкий душе моей Друг. Не описывать Запад я буду.
Нужно ли описывать Запад? Его уж и так много раз описывали. Кто не читал о быстроте немецких поездов, об удобствах заграничных гостиниц, о чистоте берлинских улиц? Нет, мне хотелось бы подслушать вздохи западной души, биение западного сердца, западную душу сравнить с русской душой. Иногда мелкие впечатления наводят на большие размышления. Подобные впечатления выпадали и на мою долю, а размышляешь над ними и доселе.
В последнее время, когда славянский мир вступил в кровавую борьбу с миром тевтонским, мне, мой дорогой Друг, часто вспоминается одна подробность из моих встреч с западными славянами. Встречался я с разными славянскими народностями, с разными людьми и при различных обстоятельствах, но эта подробность, о которой я хочу Тебе сейчас писать, повторялась постоянно. Что за подробность? Но я начну рассказывать самые факты.
27 июня 1908 года поехал я из Салоник по железной дороге на север, в Белград. Салоники и Македония были тогда - а давно ли это и было-то! - турецкими. Турецкая железная дорога - большое испытание для терпения. Ускюб... Все еще Турция. Уже к вечеру добираемся до сербской границы. Направо и налево от дороги побежала по ровному месту канава. Граница. Станция Ристовац. Переменили поезд. Турки пропали. Кондуктора в фесках остались позади. Лишь вступили на сербскую почву, сразу будто родным повеяло. Это просто удивительное чувство: “за границей”, а чувствуется близкое, родное, свое. Даже и самая местность будто напоминает родную Среднюю Россию с ее холмами и полями. Но вот на одной из станций я вздумал достать кипятку. Что же оказалось? С буфетчиком сербом мы не понимаем друг друга. “Вода” - для него понятно, а “горячая”, тем более “кипяток”, ему ничего не говорят, и он мне наливает воды холодной. Я трясу головой; холодная вода выливается. Пытаюсь описательно растолковать, что мне нужно, - ничего не выходит. Как тут быть? В это время в буфет приходит кто-то из пассажиров, а я уже отошел с безнадежным видом в сторонку. Слышу, пришедший заговорил с буфетчиком по-немецки. Это для меня было открытием. Самому мне и в голову не пришло даже попытаться заговорить с сербом по-немецки. Недолго думая, открытие свое я применил к делу и через минуту пошел в вагон - в чайнике у меня был кипяток.
В Белграде попал будто в русское общество. Интеллигентные люди говорят свободно по-русски, а наши руководители и путеводители и учились-то в русских духовных академиях. Однако и в Белграде бывали недоразумения на почве взаимного непонимания. Однажды за обедом одно из духовных лиц вздумало сказать в честь русских гостей речь по-сербски. Увы! Из этой речи я ничего не понял. Мне было как-то стыдно, и грустные мысли невольно зарождались в голове. Познакомился я с несколькими белградскими семинаристами и невольно заметил, что беседовать могу только с воспитанниками старших классов, где изучался русский язык и где учатся по русским учебникам, а младшие семинаристы для меня непонятны. Когда один из последних подошел ко мне и начал “молить на вечеру”, то не сразу я догадался, что он приглашает меня на ужин. И в разговоре с белградскими семинаристами приходилось обращаться к немецкому языку. Один из старших воспитанников в разговоре сказал слово “сладолэд”. “Что это такое?” - спрашиваю. - “Не знаю, как по-русски”. — “Ну, а по-немецки?” — “Gefrorenes”. - “А, мороженое!” Теперь поняли друг друга.
Через Дунай от Белграда лежит Землин, откуда теперь обстреливают австрийские пушки сербскую столицу. Землин - уже австрийское владение. В этом самом Землине заговорил как-то я с сербом. Австрийского серба в школе уж не учат русскому языку. Пытались мы говорить каждый на своем языке - ровно ничего не выходит. Для меня уже было не новостью, что с сербом можно объясняться по-немецки. И вот два славянина вынуждены для обмена мыслями прибегать к немецкой речи. Сейчас совершенно ясно представляю грустное выражение лица своего собеседника, когда в заключение разговора он мне сказал: “Как печально, что мы, славяне, принуждены говорить между собою по-немецки!...” Я, конечно, мог лишь охотно согласиться с ним, что это - sehr traurig. Действительно, грустно было на сердце...
Чуть ли не в тот же самый день пришлось вести богословский диспут с хорватом-католиком, студентом из Загреба; я доказывал ему, что славянину быть католиком вовсе не к лицу. Но как пришлось диспутировать! Почти наполовину по-немецки. Какой опять факт! Славянин (хорват) славянину (мне) на немецком языке доказывает преимущества католичества, латинского алфавита для славянского языка и тому подобное.
В другой раз привелось мне несколько дней прожить в Праге. Оказалось, что и с чехами нужно говорить по-немецки. Здесь несравненно хуже, нежели в Белграде: по-русски совсем не говорят. Просто не могу забыть того неприятного чувства бессильной досады, которое невольно приходилось переживать все время пребывания в Праге. Прислуга в гостинице и ресторане, продавцы и продавщицы в магазинах, люди на улице - все ведь чехи, родные по крови славяне. Слышишь в их разговоре отдельные славянские слова, без особенного труда понимаешь чешские книги и газеты, а вздумаешь заговорить - будто завеса какая падает между нами и сразу становимся как-то чуждыми друг другу. Скажешь или прочитаешь что-нибудь по-чешски - чехи улыбаются; не так произнес. И опять не могу забыть, как в Праге одна девица по-немецки объясняла мне, как нужно читать и правильно произносить чешские слова. Нужно, Друг мой, попасть в такой большой славянский центр, как Прага, чтобы почувствовать, насколько тяжело и неприятно по-немецки говорить со славянами.
Еще воспоминание, последнее. Русская граница. Калиш. Что сталось с ним теперь? Вокзал по русскому обычаю далеко от города. В омнибусе отправляюсь в город. Сидящая против меня полька обращается ко мне с вопросом, а я понимаю из ее вопроса только слово “пан”. Что ж? Опять за немецкий язык и друг друга поняли. Это уж в России! Поляки - ведь это “поляне” по летописцу. Я, вероятно, “вятич”. Неужели “поляне” с “вятичами” по-германски говорили?
Вот, Друг мой, Тебе ряд мелочных воспоминаний о встречах со славянами на Западе. Видишь - везде одна подробность: друг друга не понимаем и принуждены между собою говорить на языке чужой и враждебной славянству нации. Мелкая подробность, но заставляет меня порою крепко призадумываться. Да и одного ли меня? Помнится, покойный А. И. Введенский останавливался своим вниманием на этой вынужденной необходимости говорить со славянами по-немецки.
Что за странное явление? Язык наших врагов служит для нас средством общения и единения! Посмотри на этнографическую карту Австрии. “Лоскутная империя” сшита более чем наполовину из славянских кусков. Вот уж немецкая государственная власть соединяет славянские народности в одно политическое целое.
Разъединено славянство - вот что чувствуешь прежде всего, и чувствуешь с болью сердечной.
Нас исторические сплетни
Поссорили между собой
И разорвали долголетний
Союз священный и родной.
(Кн. Вяземский)...Как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы...
Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезъязычил немец,
Этих турок осрамил.
(Тютчев)В наших учебных хрестоматиях известное стихотворение А. С. Хомякова “Киев” (“Высоко передо мною...”) почему-то печатается наполовину сокращенным (конец: “Солнца вечного Восток”). Опущены как раз те стихи, где выражены славянофильские идеи поэта. Случайно это или с умыслом - то есть чтобы не развращать учащихся славянофильскими мыслями? А в этих опущенных стихах опять скорбь о разъединении славянства.
Братцы, где ж сыны Волыни?
Галич, где твои сыны?..
Меч и лесть, обман и пламя
Их похитили у нас;
Их ведет чужое знамя,
Ими правит чуждый глас.Так грустят и скорбят о разъединении славянства славянофильские поэты.
Лично я, мой Друг, с особенной болью воспринимаю религиозное разделение славянства. Я никак не могу думать, что православие и католичество - почти одно и то же, что это - две поместных христианских церкви. Я исповедую, что Церковь едина, и католики для меня -не Церковь, а следовательно, и не христиане, ибо христианства нет без Церкви. А между тем как много славян отпало от Церкви и уверовало в папу римского! Славяне по природе особенно религиозны. Для них религия - не привесок к жизни, но самая жизнь. Славяне не забавляются религией, но живут религией. В религиозном отношении немцы пред славянами никуда не годны. Немецкие католики - это особенный религиозный тип. У немецких католиков религия - какой-то просто благонамеренный и бесстрастный консерватизм. Славяне и к католичеству относятся со свойственной им стихийной религиозностью. Из католиков современных, мне кажется, наиболее религиозны, стихийно религиозны, поляки. Отпадение от Церкви славянина естественно затрагивает в самом существе его отношения к славянству вообще. Наши либеральные публицисты, когда пишут о славянстве, то почти не обращают внимания на разделение религиозное. И совершенно напрасно. Сами они привыкли обходиться в жизни без веры, но напрасно думать, что и народ может так же мало интересоваться верой, как господа публицисты. В народном представлении человек прежде всего именуется по вере его. В Галиции, например, “русский” значит православный, “поляк” - католик. “Русская вера” - православие, “польская вера” - католичество. Напрасно вражду между разноверными славянами объяснять фанатизмом пропаганды. В существе самого религиозного разномыслия уже дана вражда. Вера - основной нерв человеческой жизни, самое драгоценное сокровище души. И если в этом пункте нет единения, то всякое другое единение - культурное, научное, политическое - будет уже подорвано и ненадежно. Справедливо говорит поэт:
Где о вере спор,
Там, как вихрем сор,
И любовь и дружба сметены.Хоть я и мало наблюдал жизнь славян-католиков, но все же имею в своем чувстве основание, чтобы исповедать один из основных догматов славянофильства: “дух славянства определяется православием”. Да, только православием. Вне православия славянин на чужбине. Я не могу даже раздельно объяснить - почему, но я всегда как-то чувствую ложь в положении славянина-католика. Сухой юридический счет с Господом Богом, в который вписывается всякое “доброе дело” для оплаты “наградой” на небесах, наемническое и даже рабское отношение к Богу, от Которого можно ждать или наказания или награды, предоставление всего церковного дела иерархии, сухая размеренная служба бритых ксендзов, искусственный пафос и декламация их проповедей - все это, по-моему, должно быть крайне противно славянской душе. Измена православию есть, в сущности, измена славянству, переход на западный лад в настроении и в жизни.
В настоящее время, конечно, наиболее замечается политическая подчиненность славянских народностей немцам. Ведь вдумайся, мой Друг, в военные события. Сейчас многие славяне принуждены поднять оружие против России за интересы Габсбургов и Гогенцоллернов. Да еще какие славяне - частью православные. Последнее особенно больно. В других случаях война не затрагивает существенно религиозных вопросов. Война с турками и немцами как-то укладывается легче в сознание: и турки и немцы равно чужды Христовой Церкви. Но, помню, когда началась война между сербами и болгарами, - у меня защемило на сердце: ведь члены единого тела Христова стали убивать друг друга. Война между людьми, равно принадлежащими к единой Церкви, представляется мне уже каким-то сплошным и мрачным ужасом. Вот и теперь по принуждению “внешних” для Церкви немцев славяне должны убивать таких же православных, членов единой Церкви, “сотелесников”, по выражению апостола Павла. По поводу польского мятежа А. С. Хомяков посылал проклятье тому,
...чей глас
Против славян славянским братьям
Мечи вручил в преступный час.Еще больше заслуживает проклятья тот, кто вручил мечи православным против православных. В этом безумии истории я затрудняюсь назвать изменниками тех славян, которые нарушают присягу на верность немецким императорам.
Вместе с Тютчевым задаешь вопросы:
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Ответить можно легко его же словами:
Мы ждем и верим Провиденью:
Ему известны день и час...Но не пришел ли теперь день и час славянского единения, “вселенский день и православный”?
Не увидим ли мы с Тобою, дорогой Друг, этого желанного дня? Жду я этого дня. Раздели со мной это ожидание и Ты, мой любимый Друг, единомыслием которого я так дорожу.
Думается мне, мой Друг, что в разъединении славянства не без греха и мы, русские. Виновато наше преклонение пред Западом. Русские едут на Запад, минуя славянские земли. Часто бывает так, что наш соотечественник объедет чуть ли не всю Европу и не увидит ни одного славянина. Наши россияне при поездке на Запад делают первую остановку или в Вене или в Берлине, а до этих пунктов на немецких Schnellzug'ax быстро пролетают мимо славян. А ведь славяне в Европе - величина очень почтенная: от моря Адриатического до Белого живут они, от самой почти Швейцарии до Урала. Что же остается всем прочим-то? И вот эту-то почтенную славянскую величину мы в Европе умеем не замечать. Часто наш москвич знает парижские и берлинские улицы не хуже московских, а София, Белград, Львов, Прага и подобные ему рисуются в тумане.
Так же к Западу относится и школа наша, то есть, изучая Запад, оставляет без внимания славянство. Из истории, из литературы немецкой, французской и английской мы кое-что знаем, но история и литература славян для нас земля неведомая. Если бы произвести русским людям экзамен по истории славянства, то получилось бы, думается, нечто поучительное, именно: нам стало бы стыдно своего невежества. О Карлах, Фридрихах и Людовиках мы учили в школе, а о славянах - нет. Только теперь задумали в университетах учредить особую кафедру для изучения истории славянства. Вот лишь когда хватились. То же и у нас в духовной школе. Учредили было несколько лет назад отдельную кафедру истории славянских церквей, но чрез год закрыли, присоединили к кафедре по истории церкви византийской. А раньше и того не было. Историю еретических обществ мы изучали, а из истории православных славянских церквей мы не слыхали за четыре года ни одной лекции. О падении феодализма при Капетингах, о положении крестьян, рабочих. и горожан при Бурбонах, о нормандском периоде в английской истории, о том, как Иаков и Карл боролись с парламентом, - обо всем этом пришлось слушать лекции в духовной академии, но о церковной жизни православных славян лекций не читалось. Месяца два сидел я над сочинением об аграрных отношениях у древних германцев, но историей славянства специально не занимался и двух дней. Думаю, что среди студентов наших духовных академий немало найдется таких, которые не в состоянии будут назвать автокефальные православные славянские церкви. Не кажется ли Тебе, мой Друг, все это ненормальным? Не согласишься ли и Ты, Друг, со мною в том, что и мы, русские, не без вины в печальном разъединении славянства? Мы больше к немцам прилепились. Чего же удивляться, если со славянами мы принуждены разговаривать по-немецки! Надеюсь, Друг, что теперь мы от немцев отшатнемся и теснее сойдемся с родными братьями, которые до сих пор целые века были “в сетях тевтона вероломных”.
А тогда, быть может, исполнится пророчество Тютчева:
И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам,
Наяву увидят внуки
То, что снилося отцам!Не напрасно и святая Церковь в тропаре равноапостольным Кириллу и Мефодию просит словенских стран учителей Владыку всех молить “вся языки словенские утвердити в православии и единомыслии”. Что будет вперед: общее православие или единомыслие - не знаю, но только думаю, что без единения в святой вере православной не осуществить славянству истинного единомыслия.
Не думай, мой дорогой Друг, что это письмо будет целиком посвящено описанию Кельнского собора или его истории. Нет, Кельнский собор на этот раз будет служить для меня лишь символом религиозного.европейского сознания. Кельнский собор я избрал по многим причинам. Из многочисленных виденных мною готических соборов Кельнский произвел на меня самое неотразимое впечатление. Несколько раз посещал я его, любовался им снаружи и со всех сторон, надолго предавался внутри созерцанию его стрельчатых верхов. Другие древние соборы Европы я осматривал скорее как исторические памятники, посещал с холодным вниманием туриста, который должен видеть все достопримечательности. Там нападала на душу лишь волна исторических воспоминаний и мечтаний. Вспоминались короли, феодалы, рыцари, турниры. Не то было около Кельнского собора. Он манил меня к себе с какой-то силой непонятной. Я впивался в него глазами, когда подъезжал к городу по Рейну. Уезжая из Кельна, я приходил к собору прощаться. Редко, очень редко мне приходилось переживать столь же сильное впечатление художественного единства, как это было близ Кельнского собора. Венский Stephansdom, древний Майнцский собор, Kaiserdom в Франкфурте-на-Майне, Notre Dame de Paris, Венская Votivkirche и другие готические соборы такого впечатления на меня не произвели. Я, мой Друг, не справляясь с курсами истории средневекового искусства, скажу Тебе свое мнение: Кельнский собор представляется мне самым ярким образцом готического архитектурного стиля. Да подумай, Друг, - в темно-серых массах Кельнского собора воплотился гений целого ряда немецких художников: начатый постройкой еще в XIII веке, собор совершенно закончен лишь в 1880 году. Да и независимо от Кельнского собора, готический стиль, думается мне, наиболее типичен для Запада, в частности для религиозного сознания Запада. Что такое, в самом деле, готический стиль? Это чисто западный продукт искусства. В этом стиле уж не найти никаких следов греческого или римского влияния. Стиль этот на Западе и начался уже тогда, когда Запад отпал от Церкви, когда, следовательно, и религиозное сознание Запада обособилось от сознания церковно-христианского. Что же от этого обособления получилось?
Присмотрись, милый Друг, хоть к этим снимкам Кельнского собора, присмотрись попристальнее, - не найдешь ли здесь ответа?
Наружный вид Кельнского собора может очаровать. Посмотри, какая сложность рисунка, какая сложность художественного замысла, какая масса архитектурных мелочей! И при всем том какое изящество, какая тонкость работы, какое единство художественного целого! Много узоров архитектурного рисунка - и однако все на своем месте, ничто не бросается в глаза в отдельности, ничего не видно лишнего. И все вверх, все вверх. Когда я первый раз близко подошел к собору, то почувствовал, будто меня кто тоже потянул вверх.
Войдем теперь внутрь собора. Внутри впечатление все остается тем же впечатлением художественного единства. Здесь лишь общий тон посветлее: не темно-серый, почти черный, как снаружи, а серо-желтый. И здесь, внутри, потянулись ввысь бесчисленные колонны, которые там сплелись между собою сложными сводами. Но это так высоко, что больно голову, когда запрокидываешь ее, чтобы видеть своды. Внутри рисунок тоже сложный: ведь нет ни одной круглой колонны, каждая колонна будто связана из десятка отдельных колонн. Впрочем, внутри скоро замечаешь - и даже с неприятным чувством - однообразие. Вся внутренность наполнена одними колоннами, а колонны все совершенно одинаковы.
Проходит некоторое время, и начинаешь чувствовать, что в этом прекрасном, художественно построенном храме чего-то недостает, и недостает чего-то существенного. Начинает работать мысль, стараясь ответить на вопрос о том, чего недостает Кельнскому собору и всякому готическому храму. Сам собою скоро выплывает ответ: здесь недостает Бога, недостает святости, недостает жизни. Посмотри на внутренний вид собора! Ты увидишь, что только два ряда статуй по колоннам среднего нефа украшают собор, но и эти статуи будто застыли, замерли - они так же серы, как и колонны. Здесь нет того, что мы называем церковным благолепием. Что же остается? Остаются одни художественные трюки архитектора. Глаза разбегаются по архитектурным подробностям - и только. А войди в наш православный храм, украшенный всею красотою церковного благолепия, например, в Троицкий собор нашей Сергиевой лавры (не нахожу равного храма нигде!). Здесь все пропитано святостью; прежде всего здесь чувствуешь при входе, что вошел в дом Божий, и невольно поднимается рука для крестного знамения. В православных храмах архитектурное искусство само по себе стоит как бы позади. Православных храмов без церковного благолепия я совершенно не признаю и никак не могу одобрить, например, большинства петроградских храмов. Войди, например, в собор Александро-Невской лавры! Много раз нужно напоминать себе, что вошел в храм, а не просто в какую-то галерею. Строить пустые храмы у нас начали тогда, когда связались с западными еретиками и начали им подражать. Предки же наши благочестивые строили храмы всегда с полным украшением церковным. Священная живопись покрывает всю внутренность наших старинных храмов. А в новых храмах петербургской эпохи русской истории начали вешать лишь кое-где картины в рамах, и картины совершенно безобразные. Замечательно, что картины эти навевают прежде всего не религиозные благочестивые настроения, но лишь художественные эмоции, как это было бы и вне всякого храма, например, в картинной галерее. Вот почему многие и посещают подобные храмы так, как храмов посещать не следует, а как можно обходить лишь картинные галереи. Не забуду, как однажды в соборе Александро-Невской лавры ко мне одна дама-туристка, смотря в путеводитель, обратилась с вопросом: “Скажите, где здесь иконы Ван-Дика и Рубенса?” Я ответил: “Сударыня! У нас таких святых нет”.
Такие храмы, которые могут возбуждать только скорбь и уныние, у нас, говорю, появились лишь в несчастный петербургский период, когда мы жили чужим умом и отвернулись от родных исторических сокровищ.
Но готический стиль таков, что храм, выстроенный в этом стиле, уж никак не может быть украшен по церковному, чтобы походить на Божие жилище. Колонны, колонны, целый лес колонн, - а священной картины написать негде. Выдумали делать мозаические прозрачные окна, но из среднего нефа изображений оконных не видно, да иногда там просто ковровые украшения, без всяких священных картин. Так и стоят еретические готические храмы - пустые, будто нежилые, какие-то бездушные. Вынеси из любой хорошо обставленной квартиры мебель, картины и все прочее - будет неуютно, неприятно, хочется скорее уйти. Я сделаю, Друг мой, одно резкое сравнение. Если в готическом храме, например в Кельнском соборе, проложить рельсы и пустить паровозы с вагонами, то, в сущности, не будет никакого оскорбления религиозного чувства. А попробуй то же сделать у нас в Троицком или Успенском соборе, - да просто ужасно и представить такое кощунство!
У Данта в “Аду” еретики мучатся в раскаленных тесных гробах. Это значит, что грех еретиков - их узость, их односторонность. Везде вне православия чувствуется именно узость, какая-то близорукость. Вот, например, западные еретики как много заботятся о комфорте своих собственных жилищ, сколько стилей один другого удобнее изобрели! Но для Божия жилища изобрели готику, совершенно неуютную, мрачную, сухую и мертвую. Очевидно, жизнь отошла от религии, когда еретики отошли от Церкви. Замечательно, что готика развилась в период господства схоластики. Мне думается, дорогой Друг, что готика и схоластика друг другу родственны. Схоластическая система, подобно Кельнскому собору, бывает сложна и стройна: в ней много мелочей, но все эти мелочи друг с другом связаны, друг за друга держатся. Но подойдешь к любой схоластической системе и увидишь, что при всей своей стройности она безжизненна, от нее веет смертью. Готика - это схоластика в камне. Схоластика у западных еретиков заменила религиозную жизнь с ее разнообразными цветами чувства, с ее прекрасными порывами воли. В западном религиозном мышлении схоластика господствует: католики учатся по Фоме Аквинату, протестанты занялись религиозным мышлением ради него самого, без всякой связи с жизнью. Еще древнецерковные писатели упрекали еретиков в рационализме, и западных еретиков в рационализме же начали упрекать православные богословы, начиная с А. С. Хомякова. Об этой именно рационализации христианской жизни проповедует, думается мне, и готическая архитектура западных храмов. За это стоит западных еретиков мучить в тесных гробах. Более узких и более односторонних людей, нежели рационалисты, представить себе нельзя.
Не напрасно, Друг мой, некоторые историки искусства готический стиль называли стилем немецким; французы от этого стиля открещивались еще в XVIII веке. Да, не напрасно, потому что немецкую душу рационализм захватил, кажется, больше, нежели какую другую. Это ведь немцы задумали подменить богословие богословской наукой. Это ведь немцы в философии не пожалели мира ради торжества отвлеченной мысли. Типичный немец Кант обратил весь мир в непонятное и непостижимое Ding an sich. Славянин по природе не рационалист. Славянину рационализм противен. Помнишь, как пишет Толстой о самоуверенности? “Немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи, науки, то есть мнимого знания совершенной истины... Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина” (“Война и мир” ). Здесь я слышу голос славянина. Жаль только, что Толстой сам в качестве религиозного лжеучителя целиком стал на почву противного немецкого рационализма, немецкой науки. В “Соединении и переводе четырех евангелий” у него чуть ли не на каждой странице немец Рейсе, из неважных ученых немецких. Не случайно, думаю, готический стиль не мог привиться в странах славянских: к православию он безусловно не подходит, да и без православия в славянской душе он не найдет сочувственного отклика. У чехов в Праге собор готический, но любви к нему не видно: он крайне запущен и так заставлен строениями, что его в целом можно видеть лишь издали.
Но Ты, мой сердечный Друг, может быть, мне возразишь: “Неужели вся религиозная жизнь на Западе подменена схоластикой и рационализмом? Разве нет там мистики, чувства?” О, несомненно есть, но только и на мистике и на религиозном чувстве у Запада лежит нездоровый отпечаток.
И знаешь ли, Друг мой, мне кажется, что оттенки этого нездорового чувства, между прочим, материализованы тоже в готическом стиле. Эти оттенки мы можем с Тобою найти в том же Кельнском соборе. Откуда взялась готика? На этот вопрос некоторые отвечали так: “Первичное зерно готики - в дремучих лесах Галлии и Германии с их переплетающимися вершинами, с высокими и ровными стволами, с их таинственным полумраком”. Шатобриан, например, говорил, что в готических храмах та же религиозная жуть и таинственность, что и в дремучем лесу. Религиозная жуть... Это выражение мне нравится; оно хорошо передает впечатление от готических храмов. Посмотри на внутренний вид Кельнского собора. Представь себе, что Ты там находишься, что за узорными окнами сгущаются сумерки. Лишь на алтаре мерцает светильник. Сводчатый потолок совершенно утопает во мраке. Невольно закрадется в душу религиозная жуть...
Я могу рекомендовать Тебе, Друг, один опыт. Ты попристальнее и подольше посмотри хоть на изображение внутренности Кельнского собора. Даже от картинки веет каким-то духом мечтательности. Не правда ли? А в самом соборе только сядь на лавочку поближе к колонне - сейчас нападет мечтательность. А воображаю, как можно сидеть в полумраке собора! Несутся звуки органа, утопают во мраке под сводами, эхом отзываются в дальних углах храма за рядами причудливых колонн... Жуть и мечтательность - вот, думается мне, что должно наполнять душу молящегося в готическом храме! Вспомни, как Виктор Гюго описывает “Собор Парижской Богоматери”! Там тоже немало именно жуткого и мечтательного, порою даже страшного.
Рабская боязнь и сантиментальная мечтательность — вот что материализовано в готике Кельнского собора, но этими именно чертами отличается и западное религиозное чувство, западная религиозная мистика. За последнее время у нас чаще, нежели нужно, вспоминают Франциска Ассизского. Но я лично прямо не выношу сантиментализма этого западного мистика с его “сестрами ласточками” и подобным. Наши святые были свободны от болезненного мистицизма и слащавой сантиментальности. Возьми преп. Сергия. Как его святая душа отличается от восторженно-сантиментальной души Франциска! Спасибо М. В. Лодыженскому за то, что он в своей мистической трилогии показал превосходство души преп. Серафима пред душой Франциска (“Свет Незримый” ). У наших святых нет и тени мечтательности, не говоря уже о “религиозной жути”. Да и вообще в этом пункте православная русская психология существенно отличается от психологии западной, еретической. Идеализм и реализм, позитивизм и мистицизм сочетаются воедино в русской душе. Это отметил как особенность русской души и француз Leroy-Beaulieu (L'empire des tsars et les russes, t. Ill). Недаром иногда русские монастыри ведут прекрасное хозяйство, и ведут в простоте сердечной, не чувствуя никаких коллизий и сомнений.
Быть может Ты, милый Друг, подумаешь: “Да что же дурного, если готический стиль производит религиозную жуть?” Но я думаю, что религиозная жуть вовсе не должна быть целью христианского храма. Ведь храм - это место богослужебного собрания Церкви, здесь происходит “таинство собрания или общения”, как говорит автор сочинения “О церковной иерархии”. Всякое же общение, конечно, отгоняет от души какую бы то ни было “жуть”. Никакой сантиментальности в церковном богослужении, в церковных напевах священного осмогласия совершенно нет. Но как много этой противной сантиментальности в разных сектантских собраниях! Слушать тошно!
Скажу Тебе, Друг, откровенно, что недолюбливаю я огромных храмов, вроде, например, Исаакиевского собора, храма Христа Спасителя, куда собираются тысячи и где поэтому нет “прихода” и где не происходит “таинства собрания”. Это догматически нелепо, когда богослужение обращается в какое-то зрелище, когда богомольцы лишь наблюдают происходящее, оставаясь совершенно чуждыми друг для друга. Совсем иное дело, когда соберутся “свои”, когда служит “наш батюшка”. А особенно переживаешь “таинство собрания” в малолюдных монастырях, например в пустыни “Параклит”, где за богослужением у каждого свое место и собираются все свои. В таких монастырских храмах совершается ощутительно “таинство Церкви”, “таинство собрания”, а в “Исаакиях” этого таинства никак не чувствуется, будто его совершенно и нет. Но ведь и огромные храмы мы начали строить опять по примеру западных еретиков, а раньше, например, в Москве предпочитали настроить “сорок сороков” церквей, хотя бы и не огромных.
Итак, Друг мой, вот о чем говорит Кельнский собор, если к нему присмотреться внимательнее. Он говорит о рационализации христианства на Западе; он говорит о мечтательности болезненной мистики Запада. Рационализм совершенно не терпит церковного благолепия; он желает, чтобы и храмы были так же сухи и безжизненны, как логические схемы, а загнанное и задавленное чувство обращается в чахлый сантиментализм. В рационализме равны и католицизм и протестантизм. И вот, на мой взгляд, замечательный факт: церковная архитектура у них одна и внутренний вид храмов равно бесцветен, хотя католики и признают Седьмой Вселенский собор, навеки благословивший всякое церковное благолепие. Рационализм в корне подтачивает основной нерв христианства: идеал обожения человеческого естества, утверждающийся на воплощении Сына Божия. Православная Церковь живет этим идеалом, о чем говорит и церковное наше благолепие. Ведь, по мысли отцов Седьмого Вселенского собора, “иконного живописания изображение” служит нам “ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова”. Протестанты отвергли догмат об иконопочитании, и теперь они вовсе не уверены в истинном воплощении Бога Слова. Во что обратили протестанты самое христианство? Они обратили его в какую-то вероучительную систему, которую притом каждый может составлять по-своему. Протестантизм - христианство без Христа, Сына Божия, это религия Иисуса из Назарета. Но и католики христианство обратили в торгашескую сделку с Богом: добрые католики делают “добрые дела” и представляют Господу Богу подробный счет для оплаты “наградой”. Как в жизни земной взыскание по исполнительному листу можно передать другому, так, по католической вере, можно поступать и в деле спасения: можно приобрести чужой исполнительный лист, и Господь Бог обязан полностью уплатить причитающуюся “награду”. Истинному воплощению Бога Слова и здесь места не находится.
Удивительное дело!.. Видал я множество католических и протестантских храмов и невольно думал: “Вот вы, господа еретики, разукрасили свои храмы разными завитками архитектурными, ваши алтари порою похожи на витрины мебельных магазинов - ну, скажите откровенно, неужели это лучше нашего иконного живописания?” Думается мне, мой дорогой Друг, что внутренний вид западных храмов не простая случайность вкуса. Нет, в основе лежит именно извращение Западом самого христианства, помрачение и даже отвержение истинного христианского идеала. Если христианство - схоластическая система, то для христианских собраний нужна аудитория более или менее удобная, а не храм. Все протестантские, особенно реформатские, кирхи и похожи на аудитории: скамейки и кафедра - вот и все внутреннее убранство. Знаешь ли, Друг мой, иногда западные храмы приводили меня просто в ужас; возмущался я всей душой, когда видел эти плоды религиозной бедности, религиозного убожества. Расскажу тебе об одном своем подобном переживании. Было это в Дрездене. Воскресенье. Слышу - зазвонили по всему городу, будто в каком нашем городе. Хоть звон какой-то жалкий, жалобный и надтреснутый, не наш торжественный, величественный, поднимающий душу, - все же стало приятно: и еретики, мол, Господа почитают! Сходил к обедне в православный храм. Особенно приятно бывает слышать православную службу “на земли чуждей”. После обедни поехал в центр города на трамвае. Вижу - весь почти вагон заполнили богомольцы православного храма. Слышна одна русская речь. Здесь же сидит в рясе с наперсным крестом какой-то священник (я-то тогда был еще в неприличной одежде, то есть в светской!). Так было приятно! Доехал до Altmarkt. Здесь вблизи есть большая протестантская Kirche. Кажется, Frauenkirche. Впрочем, точно теперь не помню. Вхожу в дверь. Лестница ведет вверх. Поднимаюсь. Что же? Совсем так, как, например, в московском Большом театре, когда поднимаются на галерку. Поднимешься на этаж - дверь. Еще на этаж - опять дверь. Я все не решаюсь войти, а поднялся уж высоко, - кажется, на третий этаж. Открыл дверь и вошел. Что же оказалось? Я попал как бы на балкон второго яруса. Громадный храм устроен совершенно так же, как устраиваются театры. Внизу партер, а по сторонам в несколько ярусов балконы. Кое-где, очень негусто, сидят посетители. Около одного из балконов высокая кафедра, и на ней проповедник-пастор говорит проповедь, будто лекцию читает в хорошо оборудованной аудитории. Помню хорошо - такая меня жалость охватила к несчастным еретикам, которые так опустошили, так обесцветили христианство, сделали его смертельно скучным! В храме никаких священных изображений: балконы, кресла и кафедра - вот и все, больше ничего. О, как почувствовал я в то время несравненное превосходство святого Православия!
Да на Западе храмы постоянно и обращаются если не в театры, то в концертные залы. Входишь в храм и видишь - на паперти висят афиши. Что такое? Оказывается, в храмах в известные дни после богослужения даются концерты. Органист такой-то, приехавший оттуда-то. Все объявлено. Один концерт - цена 1 марка или франк, 12 концертов -цена 10 марок или франков. Особенно помнится мне один такой концерт, слышанный мною в красивейшем швейцарском городке Интерлякене при подножии Юнгфрау. Объявлено было, что лондонский органист дает концерт на громадном органе, приводимом в движение электрическим мотором. После вечерней службы, когда народ безбилетный ушел, прислужники прошли между скамейками и обратили их спинками к алтарю. Точь-в-точь как в некоторых московских трамваях, когда нужно ехать в обратную сторону. Оставшиеся слушать концерт сели уже лицом к органу и спиной к престолу. Удивление мое еще больше возросло, когда, купив программу, я увидел номера светского пения. В каждом концерте, например, в программе значилась пьеса “Sturm” (“Буря”), не знаю какого композитора. Вещь действительно великолепная, а в могучем исполнении органа прямо восхитительная. Думаю, Тебе, мой Друг, в музыке в тысячу раз более меня понимающему, очень бы понравилась это пьеса. Хотел бы я ее вместе с Тобой послушать, вместе пережить и перечувствовать это великолепное море звуков - то могучих и грозных, как волны яростно-бурного моря, то тихо рокочущих, как шум отдаленного моря, когда уж тучи пропали, выглянуло солнце, а море еще не хочет успокоиться. Да, но слушать это во храме... Нужно наперед забыть, что ты во храме. На Западе это сделать легко. Во всех западных храмах, начиная хоть бы с Кельнского собора, про храм забыть легко, и именно потому, что в них, как сказал я в начале письма, недостает Бога, недостает святости. В наших православных храмах про Бога не забудешь. Попробуй стать лицом к западу у нас в Троицком соборе или в нашем академическом храме - вместо иконостаса увидишь грозную картину страшного суда. При виде этой картины не станешь мечтать о музыкальной “Буре”, а скорее подумаешь о том, как бы успокоить в душе своей бурю страстей и разогнать черные тучи греха.
Это было на живописных берегах дивного Женевского озера, в Лозанне...
Не могу я, мой дорогой Друг, быть равнодушен к Швейцарии. Родился я и до сих пор живу в Средней России, а люблю горы и море. Прекрасен и грозен наш Кавказ, но там красота какая-то строгая, порою суровая. Не хватает там горных озер. А Швейцария именно и богата прекраснейшими и красивейшими озерами, какие только и могут быть среди гор. В самом деле, такая горная страна, а почти всю ее можно проехать на пароходе! Плывешь на пароходе, а к самым берегам подходят горные причудливые громады, порою убеленные вверху снегами. С шумом свергаются с гор потоки, часто обращаются даже в водопады. Наши крымские туристы едут из Ялты смотреть на водопад Учан-Су. После швейцарских водопадов как-то и неловко упоминать о наших достопримечательностях. Соединение горных красот с красотой потоков и озер производит во мне впечатление чего-то величественного и в то же время мягкого и нежного. Люблю я, дорогой мой, красоту Божьего мира! Сколько раз я приходил в восторг и умиление от этой красоты! Сколько раз я хотел молиться в великом храме природы! Вспоминается мне где-то читанный рассказ про архиепископа Иннокентия (Борисова). Он смотрел восход солнца на Чатыр-Даге (о, это тоже прекрасное место!). Ему нужно было служить литургию. Он сказал: “Утреню я уже прослушал на Чатыр-Даге”. Понимаю я этого святителя-поэта, святителя-художника с нежной и высокой душой! Горные вершины приближают человека к Богу и отрывают его от земли. Среди горных красот мне как-то сразу мелкими, ничтожными, не стоящими внимания кажутся все наши “дела”. А оторвешься от этих всех “дел” - и невольно Бога ощутишь в своем сердце. Жалею я очень, что не пришлось мне на Афоне побывать за службой в том храме, который построен на самом верху Афонской горы. Думается мне, что литургия там должна быть особенной. Но среди красот природы нужна именно наша православная литургия, наша православная служба - величественная и благодарственная.
У меня, мой дорогой и прекрасный Друг, воспоминание о Лозанне знаешь ли с чем связано неразрывно? С мыслями о превосходстве православного богослужения перед западноевропейским еретическим. Почему так? А просто по маленькой случайности, о которой сейчас Тебе расскажу.
Когда из прибережного Уши поднимешься в Лозанну, на гору, то открывается прекрасный вид на Женевское озеро. Все оно среди гор. С противоположного берега смотрит издали сам Монблан. В летний день озеро подернуто дымкой. Бороздят его в разных направлениях пароходы. Смотришь на эту красоту - не хочется оторваться. Высоко, как бы на особом уступе горы стоит собор. Долго сидел я под тенистыми деревьями около собора, погруженный в молчаливое созерцание залитой солнечным светом прекрасной картины великого Художника мира. Какое богатство красоты в этой картине! Но вот иду в собор и... поражаюсь убожеством его строителей и “благоукрасителей”. О, как досадно мне было видеть этот плод религиозного убожества протестантов именно здесь, среди восторгающей душу прелести Божьего мира! Голый серый камень стен и деревянные скамейки - больше ничего! Неужели же постоянные жители Лозанны не чувствуют этого противоречия, которое с первого разу бросилось мне в глаза, противоречия между тем, что внутри и что снаружи их собора! Красота и богатство вне храма, а в храме убогое однообразие. Свои собственные дома украшают цветами, обвивают растениями - повсюду балконы. Почему же храм-то Божий должен быть без всякого убранства, сух, однообразен и неприветлив? Да, еще что я заметил в соборе! Должно быть, раньше были в нем статуи. Теперь эти статуи сняты и в обезображенном виде лежат на полу в углах собора - уж не знаю зачем; должно быть, в качестве любопытного курьеза для осмотра посетителями. Такое неприличное пренебрежение ко святым Божиим!
С такими думами долго сидел я на одной из скамеек в соборе. Была суббота. Собор был пуст. Пришел прислужник, вроде нашего сторожа, а может быть, дьячка, и начал приготовлять нужное для богослужения. Обыкновенно в протестантских храмах молящиеся держат в руках Gesangbuch, книжку с молитвословиями. Молитвословия эти каждое отмечено особым номером. А какие номера нужно петь, это вывешено на особой доске на стене где-нибудь, иногда в нескольких местах. Вижу, дьячок (назову его так) выдвинул из одного стола ящик. В ящике у него на карточках цифры вроде тех, что в школах употребляются, когда дети начинают учить цифры. Из этих цифр дьячок составил три или четыре номера на особой доске. Гляжу, тащит телефон к проповеднической кафедре, позвонил куда-то, должно быть, к пастору, поговорил немного, переменил на доске одну цифру, а потом всю доску повесил на стену.
Со мной вместе был мой друг и приятель по Академии, теперь преподаватель литургики в одной из семинарий. Говорю ему: “Вот тебе и весь Типикон!”
Действительно, какое упрощение службы! Ведь наш Типикон - книга больше тысячи страниц. А возьми единоверческое издание Типикона в кожаном переплете, - почти целый пуд весом! Сколько здесь всяких подробностей и различных тонкостей! Только посмотри какие-нибудь Марковы или храмовые главы! Вот и возникает вопрос: что же лучше - наш православный Типикон или коробочка с цифрами?
Вспомни, как у Лескова тульский кузнец, побывавший в Лондоне, говорит о преимуществах православной веры: “Наши книги не в пример толще” (“Левша”).
Очень умное и совершенно справедливое суждение! В частности, его можно отнести с пользой и к богослужебным книгам. Возьми богослужебные книги протестантские и сравни их с нашим кругом богослужебных книг. Протестантскую богослужебную книжку можно прибрать в любой карман даже светской одежды. А у нас? Две триоди, два октоиха да двенадцать миней месячных - этих книг в карман не спрячешь; целый шкаф для них нужен. Может быть, все это лишнее? От многих приходилось слыхать утвердительный ответ на этот вопрос. С Тобой, мой умный Друг и благочестивый, мы, кажется, почти не говорили о превосходстве нашего богослужения пред западноевропейским. Поговорим немного теперь.
Я лично в том, что “наши книги не в пример толще”, усматриваю наше несомненное преимущество. Если наши книги толще, значит, у нас больше работало молитвенное вдохновение, больше было у нас церковных поэтов-песнописцев и сладкопевцев. Действительно, еще до отделения Запада от Церкви на Востоке было несравненно больше церковных песнописцев, и наше громадное преимущество в том, что мы не откинули с греховным пренебрежением богатого наследства древней Церкви. Мы сохранили это наследство и даже умножили его. А Запад в горделивом самообольщении вдруг все это наследство пренебрег, счел его ниже своего достоинства, заменил Типикон ящиком с карточками. Часто западные богословы утверждают, будто Лютер и ему подобные восстановили истинное древнее христианство. Затея “восстановления христианства”, по моему убеждению, может быть признана только крайней нелепостью.
Можно ли пятидесятилетнему человеку восстановить второе или третье десятилетие своей жизни? Не то же ли самое и в жизни Церкви? Каждый век имеет свои особенности, и он вправе иметь эти особенности. Дух Святой не жил только в Церкви, но и живет в ней всегда. Почему же должны быть забыты века, начиная, положим, с четвертого? А почему не возвратиться к первому веку? Есть ли граница, до которой следует “восстановлять истинное христианство”? Где она? Кто ее определял? Кто ее может определять? Эти именно вопросы, думается мне, мой дорогой Друг, необходимо ставить, когда заходит речь об “упрощении” христианского богословия, об освобождении христианства от позднейших наслоений. У нас особенно часто говорят об излишней будто бы обрядности в богослужении. Церковный Типикон иные даже зовут православным талмудом. Крайнее недомыслие! Богослужение наше осложнялось постепенно в течение целых веков. Постепенно составлялись наши толстые книги, триоди, октоихи и др. Все это можно назвать только развитием, прогрессом богослужения. В результате этого прогресса и получился Типикон, эта сводка всего лучшего, что было в продолжение веков в разных странах - и близ Иерусалима в монастыре св. Саввы, и в Царьграде в Студийской обители, и на святой горе Афонской, и у нас в древней благочестивой Руси. Замечательно самое название “Типикон”, то есть образец или идеал. Своей красотой идеал вызывает невольное стремление к его осуществлению, хотя редко можно осуществить идеал во всей его красоте. Наш Типикон сложнее западных богослужебных порядков, и в этом я, Друг мой, усматриваю наше преимущество. Типикон роднит нас со всею вселенской Церковью, со всеми ее веками. Запад же не восстановил истинного христианства, но разорвал живую связь с целыми веками древней Церкви. Упрощение богослужения есть самоограбление. Действительно, в отношении богослужения Запад впал в нищету и убожество. В самом деле, что можно наблюдать во всех немецких кирхах? Соберутся в пустом зале, сядут по скамейкам, пропоют несколько духовных стихов, прослушают проповедь - вот и все. Скука и однообразие самые убийственные! Разве это не замечательно, что при всем богатстве западной культуры, при постоянном усложнении жизни -богослужение западное становится все более и более бедным, безличным, упрощенным, бесцветным! Не то у нас. Конечно, у нас настоящая богослужебная жизнь поддерживается преимущественно и почти даже исключительно в монастырях. Приходские храмы слишком удалились от типиконного идеала и обезличили наше дивное богослужение. Я искренно жалею, что Ты, Друг, при всем своем благочестии (я знаю его!) мало видишь и понимаешь красоту нашего богослужения. Нужно больше бывать в монастырях. В монастырях каждый праздник имеет свой особый характер. Ведь в Типиконе даже и напевы особые положены на каждый большой праздник, поются “стихиры самогласны”. Заранее ждешь, как будут петь стихиры, например, Благовещения, “Августу единоначальствующу” в Рождество, “Преславная днесь” в Троицу. А какое разнообразие служб! Рождество и Крещение с их “навечериями”, Великий пост и Пятидесятница... Ах, Друг, как мне жалко бывает светских людей, которые или совсем не бывают за богослужением, или ходят к одним только обедням! Обедня - это уже конец праздника. Для меня лично в сравнении с богослужением прямо жалкими и бедными кажутся всякие оперы, концерты и тому подобное. Бывают дни, когда богослужение и приходских храмов дает возможность хоть отчасти понять и почувствовать красоту православного богослужения. Эти дни - последние дни Страстной недели и вся пасхальная неделя. Об этих днях мне нечего Тебе говорить. Ты сам их знаешь и, надеюсь, чувствуешь своим сердцем всю их неизъяснимую красоту. Ну, вот и вообрази, дорогой мой, что вместо утрени в Великую пятницу и Великую субботу, вместо пасхальной утрени собрались бы мы, сели на скамейках, пропели под музыку несколько стишков и разошлись бы по домам! Ведь это же было бы обидой, насмешкой, оскорблением. Вот что получается от “упрощения” богослужения, от восстановления первохристианской простоты!
Итак, Друг мой, я ничуть не завидую западным, что у них вместо Типикона ящик с цифрами. Сложность нашего богослужения - это признак того, что мы живем церковной жизнью. Нечего нам стыдиться своего Типикона и как бы извиняться за него пред просвещенными европейцами или русскими западниками. Невежество и полная невоспитанность в церковном смысле - вот единственные причины высокомерного отношения к богослужебным уставам Православной Церкви.
Но может быть, еще более важное преимущество нашего богослужения откроется, если мы обратим внимание на его внутреннее содержание. По своему внутреннему содержанию и даже по внешнему изложению западное богослужение крайне бедно и поразительно бездарно. Сколько я ни читал западноевропейских богослужебных книг, - только укреплялся в своем низком мнении об их содержании. В западном богослужении нет богословия, мало вообще мысли. Зато в нем слишком много крайне для меня противного сантиментального какого-то фамильярничания с “Иисусом”. Наше богослужение прямо насыщено богословием, и богословием притом самым чистым и возвышенным. Ведь большинство наших церковных песнопений составлено еще в период святоотеческого дерзновения богословской мысли, составлены иногда великими богословами, например, преп. Иоанном Дамаскином, этим величайшим религиозным поэтом. Ведь только у нас в богослужении есть “догматики”. Помнишь, Друг мой, в ночь под Рождество я писал Тебе о том искажении христианского жизнепонимания, которое утвердилось в западном богословии -равно и у католиков и у протестантов: там идет речь об искуплении, об освобождении от наказания за оскорбление грехом правды Божией. Христианство обращается в какую-то бессмысленную торговую сделку с Господом Богом. Когда наше школьное богословие подпало под вредное влияние богословия западного, тогда у нас начали мудрствовать подобным же образом. Но я тогда же писал Тебе, что древнецерковное богословие было проникнуто совсем иными идеями. Там господствовала идея обновления естества человеческого, идея его обожения чрез воплощение Сына Божия. Грех - это не преступление, а болезнь, тление природы, которое внутренне связано со страданием, тогда как освобождение от греха, от тления дает блаженство. Сама добродетель есть блаженство, а грех есть страдание. И вот замечательно, что в богослужении нашем на каждом шагу встречаешься с этими именно мыслями. Наше богослужение - это живая стихия древнецерковного святоотеческого возвышенного богословия. Кто сколько-нибудь знаком с древнецерковным учением о спасении, тот в каждой почти молитве, в каждой почти стихире будет слышать отзвуки этого именно высокого учения. Не напрасно “Послание патриархов” говорит о наших богослужебных книгах, что они “содержат здравое и истинное богословие”. Да, Друг мой, если наше восточное православное богослужение сравнить с западным по их идейно-богословскому содержанию, то наше превосходство будет бесспорным. Запад, особенно немецкий, протестантский, отверг глубокие по содержанию песнопения древнецерковных вдохновенных песнописцев и стал употреблять стишки своих собственных мастеров. На Западе не только школьное богословие порвало с церковной истиной, но и самое богослужение. Запад отбросил прекрасное наследство древности и заменил его своим убожеством. Это характерно вообще для всякой горделивой ереси: хочу непременно своего, пусть оно будет и плохо. Посмотри на сектантство наше, на это исчадие Запада. Триоди и октоихи отвергнуты и заменены бездарными переводами г-на Проханова с немецкого и английского языков. Видал ли Ты, Друг мой, сектантский сборник песнопений “Гусли”? Меня в “Гуслях” прямо огорчает идейное убожество, скудоумие богословское, общая бездарность. Подумай, Друг, и согласись со мной, что Восток богаче и умнее Запада в своем служении Господу Богу.
Сравни, Друг, даже внешнюю форму наших богослужебных песнопений с формой западных - и снова несомненное превосходство на нашей стороне. Какая широта, какой полет мысли и фантазии в наших песнопениях! Почитай догматики, стихиры на Благовещение, службу Страстной недели, припомни кондак Рождества, Троицы, Покрова и многое подобное! Если все это ценить только с художественной точки зрения - и то, думается мне, нельзя не прийти в восторг. Западные богослужебные песнопения ни в какое сравнение идти не могут.
Обрати, Друг мой, свое внимание даже и на напевы. Не могу сказать, чтобы я много слыхал светского пения, но все же кое-что слыхал; только оно никогда не могло произвести на меня такого впечатления, как наше церковное пение. Искренно жалею Тебя, Друг мой, что Ты мало знаешь церковное пение и мало его ценишь. А мне светское пение кажется просто бедным и скучным. Западное церковное пение существенно отличается от нашего. В нашем церковном пении господствуют две стихии: величественно-торжественная и умилительная “со сладкопением”. Даже в нашем священном осмогласии можно различить эти два элемента. Сравни, например, третий глас с восьмым. Стихиры самогласны обыкновенно величественны и торжественны; напевы “на подобны” большею частью трогательно-умилительны. Пишу сейчас я Тебе, Друг мой, про “самогласны” и “подобны” и думаю невольно: “А ведь для Друга твоего все это пустые слова!” Жалко, жалко, дорогой мой, что оперы разные Тебе больше знакомы, чем “подобны” и “самогласны”! А все это узнать можно в монастырях, потому что в приходских храмах, особенно в московских, утвердились теперь самые дурные напевы разных “композиторов”. Эти напевы меня оскорбляют и возмущают, но разные монастырские напевы всегда восхищают. Пение Киево-Печерской Лавры, нашего Гефсиманского скита, Зосимовой пустыни (“Благослови”, “Блажен муж”), стихиры оптинские - какая все это роскошь, какая восхитительная музыка! В западном пении особенно поражает меня господство жалобных мотивов. Эти жалобные мотивы господствуют на Западе даже там, где у нас гремит торжество. Слыхал ли Ты, Друг, хотя бы в польском костеле, как поют там “Святый Боже”, особенно - “змилуйсе над нами”? И как эта же ангельская песнь поется у нас, например, за архиерейской обедней? И вот, на мой взгляд, весьма знаменательный факт: Запад очень горд своей культурой, своей свободой, своим просвещением, а соберутся в костел или кирху - и заноют жалобно с каким-то рабским духом. Да, в западном христианстве (если можно о таком говорить) рабский дух. Богословие и церковная практика внушает там человеку, что он преступник, достойный лишь кары Божественного правосудия. Веками воспитался на Западе в сфере религии именно рабский дух, потому и напевы там жалобны. Я невольно проводил параллель. Богатые, чисто одетые, самодовольные западные люди соберутся в свою кирху, сядут по скамейкам и... поют жалобно, будто преступники просят пощады. А у нас сермяжная Русь с котомками за плечами соберется на богомолье в святую обитель, битком набьется в храм, едва стоять можно, - а с клироса несутся громкие торжествующие напевы, будто победоносное войско идет вперед. Да, Друг мой, православие - вера не рабов, но свободных, не наемников, но сыновей, не преступников, с трепетом ждущих казни, но воинствующих на греховные страсти подвижников, которым уготовляются на небесах венцы нетления.
Письмо 5-е. ПРАВОСЛАВИЕ НА ЗАПАДЕ
В эти июльские дни в своем уединении среди опустевших академических зданий я нередко вспоминаю, мой дорогой Друг, как тоже в июльские дни несколько лет назад посещал я по праздникам русские православные храмы в различных западноевропейских центрах. Прежде всего вспоминается мне, что русский храм на Западе непременно нужно искать и найти его не совсем-то легко. Почему- то русские храмы везде в европейских столицах где-то на задворках, в каких-то переулках, вдали от городских центров. Я не говорю про курорты, где летом половина населения бывала русская. Говорю о столицах. Только в Женеве русский храм заметен в общем виде города со стороны Женевского озера. Много я блуждал по Вене, разыскивая русский храм; нелегко до русской церкви добраться и в Париже. А в Берлине так и вовсе не найдешь родного храма; есть лишь домовая церковочка при посольстве на Unter den Linden. Да как пойдешь в посольство! Здание посольства огромное и внушительное, но для церкви места нашлось немного. А настоящая русская церковь уже вне Берлина, в Тегеле, где нашла себе со своими учреждениями место русская колония. В Риме мне не пришлось пока побывать, но о русской церкви в Риме мне рассказывали близко с ней знакомые люди. Находится она - как Ты думаешь, где? В наемном помещении, в простом доме. Говорят, недавно был случай такой. Домохозяин не желал возобновлять контракта с русской миссией, потому что за помещение хотел больше платить содержатель кинематографа. Итак, выселяйтесь со своим православным храмом, выносите свои престолы и иконы, - помещение нужно под кинематограф! Крайне обидно для русского сердца видеть такое унижение родного православия!
Да еще где? В Риме, где католичество выступает во всем своем величии. Покойный - увы! теперь покойный - берлинский протоиерей А. П. Мальцев болезненно чувствовал ненормальность положения русского храма в Берлине и мечтал выстроить храм в самом городе. Он уже собрал и значительную сумму денег для осуществления своей мечты. Но теперь, конечно, не скоро Берлин украсится православным храмом. У меня, однако, невольно является мысль: да почему это лишь отдельные лица должны заботиться об устроении приличных православных храмов в европейских столицах? Не есть ли это некоторый долг всей Русской Церкви и всего Русского государства? Ведь на содержание посольств находят нужным тратить немалые суммы. Стараются, чтобы посольство было обставлено соответственно величию России. Почему бы не позаботиться о том, чтобы и храм при посольстве был достоин русского православного имени? А то ведь порою кажется, что здесь какое-то сознательное пренебрежение.
Почему наши храмы обыкновенно бывают загнаны в какие-то глухие переулки, я тоже плохо понимаю. Вот у нас живущие инославные так не поступают. В Петрограде на Невском проспекте против Казанского собора и католические, и протестантские храмы сами бросаются в глаза. У нас еще по этому поводу говорят: “Смотрите, как колоннада Казанского собора открыта в сторону инославных храмов! Будто объятья Православная Церковь открыла католикам и протестантам!” А у меня невольно является, Друг мой, и дополнение к этим словам: “Только инославные пятятся и как будто уклоняются от православных объятий!” Дело в том, что храмы инославные отступают от линии домов на проспекте, и получается у меня впечатление, будто они сторонятся от распростертых объятий Казанского собора. В том же Петрограде посмотри с Троицкого моста в сторону крепости и Каменноостровского проспекта. Увидишь, как даже Петропавловский собор теряется в сравнении с куполом и узорами восточного ковра мечети. Троицкий собор - маленький, старенький, низенький - не вынес Магометова соседства и сгорел.
Вот как у нас! Для чужих храмов - местечко получше и повиднее! А сами на Западе забираемся со своими православными храмами куда-нибудь подальше от просвещенных европейских очей, куда-нибудь в переулочек поглуше.
Да и самое богослужение в заграничных храмах имеет свои особенности. Не скажу, чтобы особенности эти были желательными. Семь лет назад пришлось мне в один праздничный день исполнять обязанности псаломщика в венской православной церкви. В десять часов утра начали мы служить “утреню” и скоро дошли до литургии. Пока я читал часы, на клирос собрались певчие. Началась литургия. Вижу, певчие поют хорошо, умело, хотя их было и немного. Вдруг я замечаю, что наш регент говорит со своими певчими по-немецки. Неужели немцы? Начали петь что-то нотное. Заглянул я в ноты своего соседа, блондина тенора, - слова песнопения подписаны под нотами латинскими буквами. Спросил у регента, кто такие его певчие. Оказалось, действительно не русские. Сосед мой - немец, другие певчие - чехи, только русских нет никого, кроме регента. Точно так же и православный один только регент, а все певчие - католики. Как это, Друг мой, Тебе нравится? Православные люди на чужбине собрались в свой родной храм, но поют им инославные, сами даже немцы, поют то, чего не понимают.
Певчие за нашим богослужением заменяют собою иногда всех предстоящих и молящихся. В богослужебных книгах есть некоторое различие: одно должен петь “лик”, другое - “людие”, то есть весь находящийся в храме народ. Но на практике все поют певчие. Они поют на ектениях “Господи помилуй”, они заключают возгласы иерея словом “аминь”, выражая этим самым свое согласие и единомыслие с иереем. По-настоящему православному нельзя только слушать литургию - нужно в ней участвовать. И вот в заграничных храмах на время богослужения православных заменяют инославные немцы, которые вовсе не единомысленны с православным священником. У нас на Руси со времен Петра немцы встали между царем и народом, а на Западе немцы стали даже между Богом и православным народом. Да и какое богослужение получается при певчих иностранцах! Ведь славянские слова латинскими буквами передать трудно; понятно, что нередко у певчих в произношении получается не совсем ладно. Даже “Господи помилуй” плохо им удается: звучит - “помилюй”. Издали, конечно, получается некоторая иллюзия славянского пения. Да когда поют что-нибудь нотное, то часто и у русских певчих не разберешь слов, одни только звуки и музыкальные хитросплетения и остаются. Я после побеседовал с блондином тенором. Он оказался довольно-таки вольномысленным католиком. Хвалил православное богослужение, говорил, что он не прочь бы перейти в старокатоличество, но боится потерять по службе. До православной обедни он уже пропел службу где-то в католическом храме. Одним словом, оказалось, что это какой-то интерконфессиональный певчий. Спрашивал я у регента, почему он набирает певчих из немцев и чехов, и услышал от него не особенно лестную характеристику своих соотечественников. Пробовал, говорил мне регент, набирать русских, да только с ними одно горе: ленивы, не аккуратны, на спевку их не дозовешься. Лучше с немцами и дело вести. Прежде всего народ вполне интеллигентный. Видели, на клиросе стоял тенор блондин? Ведь доктор философии, да кроме того имеет специальное музыкальное образование. Пусть слова подписаны латинскими буквами, пусть он иногда хромает в произношении, но зато как знает ноты! Заметили вы, как он уверенно и даже артистически поет! Почти не нужно и спевок.
После я узнал, что певчие иностранцы и неправославные - это самое обычное явление во всех наших заграничных церквах. Довелось как-то мне праздновать день своего (мирского, конечно!) Ангела в Париже. Справился о времени богослужения. Оказалось, что накануне служится всенощная. Жил я от храма не близко, в самом конце rue de Rivoli, за Лувром. Что-то меня задержало, и уже около шести часов вечера я спустился под землю и помчался метрополитеном к русской церкви. Часы показывали уже двадцать минут седьмого, когда я подходил к храму. Ну, думаю, опоздал; наверное, стихиры на “Господи воззвах” уже пропели. Вхожу в храм. Почти совершенно пусто, на клиросе всего, кажется, двое. Но что такое служат, - сразу никак не соображу. Что же? Оказывается, поют “Честнейшую”. Скоро служат! Прошло четверть часа, и я уже ехал обратно. Наутро литургия. Теперь храм полон молящимися. Увы! Русского, православного не чувствуется. Публика самая парижская. Простых людей не видно, а без простого народа какое же православие! Прислушиваюсь к певчим. Сразу замечаю, что поют французы. Славянская речь французам и вовсе плохо удается. А когда запели “Благочестивейшего”, нельзя было не улыбнуться. Трудно и представить, что получилось у них из “Благочестивейшего”. Кончилась служба. Стали расходиться. Дамы при выходе повели оживленные разговоры о покупках. А у меня на душе было какое-то чувство неудовлетворенности. Стою в русском православном храме, а не могу сказать, что здесь русский дух, что здесь Русью пахнет. А вышли из храма и тотчас потонули в парижской массе.
Видишь, Друг мой, как является наше православие на Западе! Храмы наши прячутся подальше от глаз, служба в храмах краткая, поют люди нерусские и неправославные. Не знаю, как Тебе, а мне такое положение православия на Западе кажется довольно прискорбным и даже обидным. Что это за стремление скрываться, чтобы нас не узнали? А эта тенденция к скрытости проявляется еще и в том, что наше заграничное духовенство ряску надевает только при богослужении, а во все прочее время ходит в светском костюме. Видел я одного почтенного заграничного протоиерея, - как и у него под рясой был полный светский костюм, кроме сюртука. После обедни снимет рясу, наденет сюртук и поедет на дачу за город. Обычая этого нашему духовенству на Западе переоблачаться в светскую одежду я крайне не одобряю. Католический патер не будет стесняться и стыдиться своей сутаны нигде. А мы уж слишком стеснительны. Мне думается, наоборот, нужно было так себя на Западе поставить, чтобы нас замечали. Не о пустой демонстрации я помышляю. Нет, но наше религиозное доказательство на Западе могло бы иметь и миссионерское значение. Удивительно, как плохо и как мало знает Запад о православии. Для Запада все христианство исчерпывается католичеством и протестантством. Друг друга католики и протестанты знают, друг за другом следят, а православие для них будто не существует. Я говорю не о простых людях. Православия не знают даже и люди богословской науки.
В нашей богословской науке о католичестве и протестантстве можно найти всякому желающему самые подробные и разносторонние сведения. Можно найти целые исследования, посвященные истории западных исповеданий в разные периоды; другие труды имеют предметом вероучение и организацию еретических обществ. Есть целые книги даже о приходской жизни, например, во Франции или о взаимных отношениях Церкви и государства в различных странах Запада. Наши профессора-богословы проводят целые годы в научных командировках в ученых и религиозных центрах Запада. А вот Запад можно укорить в нежелании узнать православную истину. Там и люди науки о нашем православии знают во много раз меньше, чем наши ученые о западных заблуждениях.
Пятнадцать лет назад выдающийся теолог Германии берлинский профессор Адольф Гарнак прочитал в берлинском университете 16 лекций о “сущности христианства”. Одну (13-ю) лекцию он посвятил “христианской религии в греческом католицизме”. Странные суждения высказаны в этой лекции о православии. Прежде всего видно, что у самого блестящего профессора понятия о современном православии очень смутны. Не напрасно он ссылается лишь на какие-то рассказы Л. Толстого и на свои личные впечатления. Но ведь эти впечатления Гарнак мог иметь в Юрьеве. Ну, можно ли в полунемецком Юрьеве изучать дух православия! А видно, что у немцев составился некоторый шаблон для суждений о православии, и шаблон весьма для православия не лестный. Гарнак, например, заявляет, что православие есть нечто чуждое Евангелию, будто по-православному религия есть культ и ничто другое, самое богослужение наше ему кажется состоящим из одних формул, внешних знаков и даже идолов. Традиционализм, интеллектуализм и ритуализм - вот по Гарнаку характерные черты православия. Мне думается, мой дорогой Друг, что на Западе уже не уклонение от православия, но полное незнание православия. Апостолам Господь заповедал идти и научить все языки. Во исполнение этой заповеди Господней нам следовало бы хоть сколько-нибудь постараться о просвещении светом православия Запада. Католические иезуиты не оставляют без своего попечения, например, праздных московских и петроградских барынь. Почему нам отвращаться от Запада, предоставляя ему полное право как ему угодно извращать христианство и даже держаться о самом православии уродливых мнений?
Интересное явление можно наблюдать в нашей богословской литературе. У нас очень много полемических трудов против католиков и протестантов. Мы постоянно, с ними воюем. Полемика проникает и в догматические, и в церковно-исторические, и в экзегетические, и в канонические труды. Трудно сказать, чего ради все эти полемические труды составляются. Сами мы и читаем все эти труды, а те, против кого они направлены, те их обыкновенно не знают и часто не подозревают даже их существования. На самом Западе между католиками и протестантами не прекращается оживленная полемика; они друг за другом следят внимательно. Появится какая-нибудь протестантская научная книжка, где так или иначе затронуты интересы католичества, - не пройдет и года - смотришь, с католической стороны по тому же вопросу написана целая книга с опровержением протестантской, а критические статьи в католических журналах появляются в первой выходящей книжке. А о нас что бы ни писали - нашего голоса вовсе не слышно. В своих журналах мы еще отвечаем, так или иначе откликаемся, но эти отклики не слышны на Западе.
Кто из наших православных богословов непосредственно обращался к самому Западу? Можно указать разве на А.С. Хомякова с его полемическими трактатами, написанными и напечатанными по-французски не для русского читателя, а именно для западного. Он же писал полемические письма отдельным западным богословам. В этом отношении католики несравненно предприимчивее нас. В конце 80-х годов у нас появилось сразу несколько ученых трудов против католицизма, особенно против папского главенства. В ответ на русском языке паписты напечатали во Фрейбурге обширную (584 страницы) книгу “Церковное предание и русская богословская литература”. Это чуть ли не единственный случай за последнее время, когда нашу полемику заметили.
Так в науке, в литературе богословской. Не иначе и в жизни. Мы у себя можем видеть настоящих католиков и лютеран. Чего-чего, а уж немцев нам в своей собственной стране занимать не приходится. А что на Западе?
Русских людей Запад видит, но на Запад едут такие русские люди, которые сами очень мало имеют отношения к православию. В некоторых европейских центрах русских много, но это обыкновенно люди без всякой веры; по этим людям судить о православии не приходится. В самом деле, ведь в некоторых европейских столицах, например в Париже, русские живут тысячами. И вот эти тысячи в праздничный день не могут наполнить и одного храма. Ясно, что русские за границей, за небольшими, конечно, исключениями, в религиозном отношении нигилисты. Если судить по таким “представителям русского народа”, то можно, пожалуй, подумать, что русские люди никакой веры не имеют, что православие вовсе не составляет родной стихии для русской души. Такие люди ничего не скажут Западу о русской народной вере.
Да, мой Друг, мне кажется, что мы виноваты перед Западом. Несчастные исторические обстоятельства оторвали Запад от Церкви. В течение веков постепенно искажалось на Западе церковное восприятие христианства. Переменилось учение, переменилась жизнь, отступило от Церкви самое жизнепонимание. Мы церковное богатство сохранили. Но вместо того, чтобы другим давать взаймы от этого неиждиваемого богатства, мы сами еще в некоторых областях попали под влияние Запада с его чуждым Церкви богословием. В последние десятилетия и на Западе проявился интерес к Русской Православной Церкви. Но кто с нашей стороны шел навстречу этому пробуждающемуся интересу? Шли отдельные лица, притом очень немногие, да и то в большинстве случаев светские. Явление это - разумею попытки сближения с нами старокатоликов и англикан, - конечно, весьма отрадное, хотя большого значения я лично им и не придаю. Но интересно отметить, как эти явления возникли. Они возникли вовсе не потому, что мы сумели собой кого-нибудь заинтересовать, кого-нибудь убедить в преимуществах православия пред западными исповеданиями. Нет, попытки к сближению с нами имеют иную почву.
Старокатолики и англикане, оторвавшись от своей прежней почвы, почувствовали, что у них вообще под ногами осталось что-то весьма шаткое и ненадежное. Нельзя же, например, немногим старокатоликам себя считать единственными в мире христианами. Нужно с кем-нибудь соединиться. Чисто теоретическим путем они вспомнили, что на Востоке есть древняя христианская Церковь, в которой нет ненавистного, например, для старокатоликов папства. Познакомившись поближе, увидали, что нельзя не признать за восточной Церковью чистоты учения. Итак, нас нашли потому, что оторвались от своей почвы. Так и Колумб открыл Америку, хотя искал не Америку, а вообще новую страну. Америка вовсе не повинна в своем открытии. Она с места не двигалась и случайно попалась на пути Колумба. То же было и с Православной Церковью. Она тоже лежала неподвижно, никого на Западе к себе не призывая. Старокатолики пошли искать новую землю, оставив старый материк папизма, и встретились с православием. С нашей же стороны никаких усилий не было к тому, чтобы кого-нибудь собою заинтересовать, кого-нибудь к себе расположить.
Те заграничные храмы, какие мне пришлось видеть, они для меня символичны. Они скрыты, часто совсем не видны. Таково и общее положение православия на Западе. Православие там не только не проповедует о себе, но как будто скрывается, переодевается в светский костюм, чтобы его не замечали. О православии на Западе знают и мало, и плохо, и православные вовсе не стараются что-нибудь о себе сообщить.
А в конце концов, я все же никак не могу примириться с тем, что в некоторых европейских столицах даже и вовсе нет православного храма. Нужно бы Западу показать во всей красоте православное богослужение. Устроить бы, например, в Риме целую лавру. Собор поставить хотя бы вроде нашего лаврского Успенского. Рядом колокольню с тысячепудовыми колоколами. Певчих поставить не немцев, не итальянцев, а настоящий монастырский хор, который пел бы не партесы итальянские, сочиненные в один вечер каким-нибудь маэстро, а наши православные напевы, создававшиеся веками в благочестивых обителях. Пусть бы трезвон разносился по чужой земле (только, наверное, его запретила бы полиция!), пусть бы наши торжествующие напевы раздавались под сводами настоящего православного храма! А около этого храма поселить бы ученых иноков и мирян, которым дать особое послушание - вещать о православной вере среди инославных, вещать и устно, и печатно, чтобы не могли не замечать этой проповеди те, кто интересуется религиозной истиной. Нужно бы громко и уверенно сказать Западу: “Мы — православные и ничуть того не стыдимся, даже непоколебимо убеждены в превосходстве своей вечной истины!”
Вот, дорогой Друг, какие порою бывают у меня мечты! Едва ли когда суждено им осуществиться! Долго еще будут на Западе стоять наши православные храмы в глухих переулках и чужие люди, искажая славянскую речь, будут петь богослужебные песни для немногих русских людей, молящихся своему Богу на чужой земле!
Письмо 6-е. ДЕНЬ ИМЕНИН СЕРБСКОГО КОРОЛЯ
Сербская столица Белград - это будто один из наших губернских городов. В нем постоянно приходится себе напоминать, что ты в столице. Для нас, мой Друг, столица - нечто грандиозное. Европейские столицы тоже ведь не хуже наших. Вот почему на наш взгляд в Белграде все как будто не по-столичному. Теперь, наверное, все лучшие здания разрушены австрийцами, но таких столичных зданий и было немного. Приятно было русскому человеку видеть, что лучшее здание в Белграде принадлежит обществу “Россия” и называется “Хотел Москва”. Самый королевский дворец опять не совсем похож на наши дворцы. Он невелик, выходит прямо на улицу. Мимо него бежит трамвай, рядом одноэтажный дом с торговым помещением. Но все же Белград - столица родного нам сербского народа.
В 1908 году мне привелось быть там, между прочим, 29 июня. Мог я тогда наблюдать и официальные и народные торжества по случаю королевских именин. Этот-то день я и хочу вспомнить в настоящем письме к Тебе, мой дорогой Друг.
Прежде всего я направился в собор на Богоявленской улице. Белградский собор довольно обширный, но внутри довольно беден, В день своих именин король бывает за богослужением в городском соборе. Здесь происходит уже единение правителя и народа, потому что в соборе находится в это время не избранная только публика, но и обыкновенные богомольцы. Так бывало и в древней Руси. Пойди в Успенский собор и посмотри. Ведь там увидишь постоянное царское место, где царь вместе с народом молился. Вспомни из истории патриарха Никона. Когда Алексей Михайлович, разгневавшись на патриарха, пропустил несколько торжественных служб в Успенском соборе, Никон усмотрел в этом крайнюю обиду не для себя только, но и. для Церкви. Самого короля при начале литургии не было; он прибыл лишь к концу.
Началась литургия, которую совершал митрополит Димитрий с двумя епископами. Особенностей в служении литургии немало. Упомяну некоторые из них. Для митрополита среди храма поставлен был особый балдахин весьма внушительных размеров. Под этим балдахином на возвышенной кафедре помещался только один митрополит; епископы же стояли по сторонам кафедры на полу храма. Для митрополита и епископов стояли обыкновенные стулья со спинками. Встречали митрополита не два диакона, а три. Облачали его священники. Священники же, помнится, держали ему во время литургии книгу. Апостол читали на митрополичьей кафедре, а Евангелие с особой кафедры у одного из столпов собора, как это и везде на Востоке. Мы привыкли за архиерейской обедней слышать громогласных басов - протодиакона и диаконов. У нас создался даже своего рода спорт по части чтения Евангелия, произношения “великой похвалы”, многолетия. Громогласные протодиаконы, подобно артистам, имеют каждый своих поклонников. Для многих “любителей” вся архиерейская обедня состоит из Апостола, Евангелия, “великой похвалы” и многолетия. Все прочее их очень мало интересует. В остальные моменты у таких “любителей”, стоящих обыкновенно у задней стены собора, идет оживленная беседа о достоинствах того или другого протодиакона или диакона. Потом переходят к воспоминаниям. В Москве непременно вспомнят Шеховцева. Из живой личности нередко создается легендарный образ. В Сербии нашим “любителям” нечего было бы делать. Там протодиаконы, наоборот, самые высокие тенора. По русскому представлению протодиакон слагается из следующих четырех стихий: голос, волос, ухо, брюхо. Для сербского протодиакона требуется только первое и третье. Да и голос-то - тенор. А помнишь, Друг, как герои Скитальца скептически относятся к тенорам!
Во втором письме я говорил Тебе, мой Друг, что с сербом мы друг друга понимать не можем. Но как приятно, что в храме мы молимся на одном языке! Не совсем еще смесил Господь славянские языки! Сербы служат даже по нашим московским или киевским книгам. Однако произношение славянских слов у серба совсем иное, так что некоторых слов и не понял бы, если бы не знал службы.
Среди храма, позади митрополичьего места, стояла икона праздника, и около нее все время был священник в облачении. Все приходившие прикладывались к иконе и брали благословение священника.
Пел хор нашего русского Славянского. Он в то время ездил со своими песнями по славянским землям и в день именин короля решил спеть литургию. Вскоре после того Славянский скончался. Я не слыхал, как хор Славянского пел песни на своих концертах, но пение им литургии мне решительно не понравилось. Вообще, видно, артистам богослужебное пение не по плечу. Для этого пения нужно иметь особые качества. В операх да в концертах ведь поют про разные земные чувства и привязанности. Эти вещи артистам хорошо знакомы, и о них они могут петь с искренним чувством. Для богослужебного пения нужно благочестивое сердце, которому ведомо покаяние, молитва и умиление. А без этого что остается? Остается музыкальная техника, разные piano да pianissimo. Ну, как может артист петь, например, “Покаяния отверзи ми двери”, если для него не существует ни поста, ни покаяния и если он завтра же на публичных подмостках будет распевать самую страстную арию? Самые препрославленные хоры - не буду их Тебе называть, Ты сам их знаешь -своим искусственным пением меня только расстраивают. А тот факт, что подобное артистическое пение в храме многим нравится, в том числе, кажется, и Тебе, мой Друг, этот факт меня крайне огорчает. Искусственное пение хора Славянского, с разными паузами да замираниями, мне не понравилось и в Белграде.
А между тем я замечал в соборе и некоторую приятную простоту. Я стоял на левом клиросе. Здесь были сербы - кандидаты наших духовных академий, состоящие у себя на родине учителями гимназий. И вот они участвовали в богослужении чтением и пением в качестве, так сказать, любителей. У нас, пожалуй, среди подобных любителей учителя гимназии не найдется. А в Сербии это как-то просто. Да у нас в подобном торжественном случае никаких любителей и не полагается. У нас чем торжественнее, тем официальное, то есть бездушнее, скучнее.
А между тем в собор съезжались представители сербского государственного мира - светские и военные чины. На правой стороне впереди стали в ряд министры. Вспоминается мне теперь нередко внушительная фигура и умное лицо Пашича. Позади левого клироса собирался дипломатический корпус. Вот смесь племен, костюмов! Из всего дипломатического корпуса выдавался высокий австро-венгерский посланник Форгач. На нем какой-то средневековый венгерский мундир с меховой опушкой. А стояла на дворе жара. Кто, подумаешь, заставляет людей мучиться, летом надевать теплую одежду, да еще самого нелепого вида! В прежние годы юности я любил читать путешествия. Попались мне как-то воспоминания о жизни под африканскими тропиками на Занзибаре. Описывался обед у английского консула. Жара стояла самая тропическая, нестерпимая. Увы! Гости должны были облачаться в туго накрахмаленное белье и теплые суконные фраки. Вспомнишь слово поэта: “Обычай - деспот меж людей”. Обычай обычаем, а думается, и лукавый семитысячелетний старец мирских людей здесь не без участия. Порою мне кажется, что лукавый, мучая людей нелепыми приличиями, одеждами и подобным, просто смеется над своими верными рабами.
Сербы и тогда недружелюбно посматривали на австрийского посланника. На другой день газеты писали: вчера при разъезде из собора мы видели гордую фигуру г-на Форгача, который надменно смотрел на собравшихся сербских людей. Следовало несколько колкостей по его адресу. Вдруг вижу я нечто невероятное: идет по собору целая куча турок. Целых шесть человек чинов турецкого посольства в своих фесках прошли по собору и заняли места среди прочих дипломатов. Вот уж это не дело - пускать в храм нехристей! Начинается как раз “литургия верных”, а в собор входят еретики и неверные! Так в своих фесках турки и стояли как истуканы.
Скоро слышим на улице около собора музыку и военные клики. Подъехал Петар, краль Србиjе. Король, как и все, приложился к иконе и прошел на свое место на правой стороне собора впереди. Министры и дипломаты наклонили головы. Король прибыл с наследником Георгием и с теперешней нашей княгиней Еленой Петровной. Выглядел король уже не молодым и как бы усталым. Довольно странное впечатление производил прежний сербский наследник. Он стал в отдалении от короля как вкопанный, по-военному, и ни разу даже не перекрестился. Мне так и казалось, что он должен сойти со сцены сербской истории.
По окончании литургии митрополит Димитрий приветствовал короля речью, которой я - увы! - не понял, так как она сказана была по-сербски. Совершен был молебен и последовал торжественный разъезд из собора.
Я сказал Тебе, Друг, что Белград мало напоминает столицу. Но в соборе чувствовалось, что все же это столица, хотя и маленького государства. Тут и министры, тут и посланники - в губернском городе ничего такого не полагается. И как, в сущности, всякий официальный мир однообразен! Всюду господствует один европейский шаблон, который обезличивает все оригинальное, историческое, национальное. Ведь согласись, Друг мой, что московская Русь XVII века была интереснее, оригинальнее, нежели теперешняя официальная. Теперь у людей и лица-то какие-то шаблонные, равно выбритые, с одинаковой все прической, в однообразной одежде по чину. Люблю я иногда, придя в московский Успенский собор, мечтать... о прошлом, как собирались туда бояре, как приходил царь Алексей Михайлович и становился у левого столпа, как у правого столпа в своем месте стоял богатырь-патриарх Никон, “великий государь” и “собинный друг” царя, его “отец и богомолец”. Все там было самобытно, создано народным духом. Конечно, турок в фесках туда не пустили бы. Тогда и немцев-то в Москву не пускали, а селили их за Москвой, в Немецкой слободе. Петр с ними сдружился, в Кремль их пригласил, и они переделали русскую жизнь на общий европейский лад. Едва ли это все к лучшему!
Жизнь народная всегда, Друг мой, казалась мне более интересной, оригинальной, более свободной, менее подчиненной общим шаблонам.
В тот же самый день я мог несколько наблюдать и сербский народ. В день королевских именин бывает в местности Топчидер, около Белграда, народное гулянье. Топчидер - это парк, местами переходящий в лес. В этот парк собираются и городские жители, а по преимуществу “селяки” и “селячки”. Сербское народное гулянье весьма существенно отличается от народного русского гулянья. Народу собирается множество; заполнен бывает весь парк. Первое, что бросилось мне в глаза, - среди народа не было пьяных. В то время русское народное гулянье, конечно, без пьяных и безобразничающих было еще немыслимо. Народ веселился отдельными кучками. Группа гуляющих нанимала себе “музыкантов”, которых было множество, обыкновенно человек трех-четырех, те начинали играть где-нибудь под деревцом, на полянке, а нанявшие плясали и танцевали. Потом отходили в сторонку, где стояли столики, садились за них и выпивали по бокалу пива. Конечно, это не славянский напиток, а немецкий, но он завоевал всю Европу. Сами немцы пьют пиво с утра до вечера. Видал я, как даже четырех-пятилетним детям давали пиво. При всей вражде к немцам сербы пиво у них заимствовали и уничтожают его усердно. В сербском народном гулянье меня поразила, Друг мой, удивительная скромность, общая пристойность, даже тишина. В самом деле, никаких “бесчинных кличей”, никаких безобразных пьяных песен. Только слышится незатейливая музыка. Большая же часть народа скромно прогуливалась по парку. Наш народ, собственно, никогда не гуляет в том смысле, как это делаем мы, чтобы “подышать свежим воздухом”, полюбоваться “красотами природы”. Даже слово “гулять” у нас получило предосудительный оттенок в своем значении. От слова “гулять” у нас явились производные - “загулял”, “гулящая”, “гуляка” и т. п. А вот у сербов я, по крайней мере в день именин сербского короля, видел гуляющий народ.
Нельзя было также не заметить преобладания национальных костюмов, особенно у женщин. У нас национальный костюм уже начинают искусственно сочинять представители не народа, а интеллигенции. А сельские жители, особенно жительницы, при всяком гулянье спешат прежде всего сбросить свой деревенский наряд и одеться по-городски, уподобиться если не господам, так хоть господским горничным. У сербов “српска народна ношньа”, оказывается, пользуется большим уважением со стороны самого народа: на торжественное народное гулянье жители окрестных сел явились в своих национальных костюмах. Описывать Тебе, мой Друг, сербские костюмы не стану. Не специалист я этого дела; не знаю, что как назвать и как описать. В этом отношении душа моя совершенно лишена всякой женственности. Упомяну только, что сербские женщины носят особые украшения из золотых и серебряных монет. Иногда этих монет очень много. С головы до плеч свисают они, соединенные между собою. Сербы мне говорили, что эти украшения бывают, так сказать, родовыми: передаются из рода в род, и поэтому среди монет встречаются весьма древние, имеющие уже положительную нумизматическую ценность.
Перед вечером в Топчидер приехал король. Он был одет просто в белом кителе и ехал в открытой коляске. Несколько времени король катался по парку среди своего гуляющего и празднующего народа. Получилось очень простое единение короля с народом.
Очень мне понравилось это сербское народное гулянье. Чувствовалась славянская душа народа, кроткая, скромная, серьезная и целомудренная. Сербский народ живет как бы среди двух враждебных ему миров. С одной стороны - мир тевтонский, не терпящий славянской самостоятельности; с другой - фанатичный мусульманский турецкий мир. Нужно удивляться тому, как в вековой борьбе с турком и тевтоном серб не только сохранил свою самобытность, свою национальность, но и готов скорее умереть, нежели все это потерять. У нас до настоящей войны многие как бы стеснялись того, что они имели несчастие родиться от русских отца и матери. Сербы своей национальности не стыдились и прежде и за свою самобытность вступили в неравную борьбу с вековым врагом - немцем, чтобы или умереть, или остаться сербами. У нас национальная идея как бы вырастает из войны. У сербов, наоборот, самая война есть прямое следствие их всегда живой национальной идеи. Вспомни, Друг, гимн воинствующего за свою национальность сербского народа!
Кто свою отчизну любит
И кто серб в душе,
Пусть с мечом в руках спешит
На открытый бой! На бой!Теперь турецкая и сербская границы не соприкасаются друг с другом. Отогнан враг, о котором пели сербы:
Пять веков мы были в рабстве,
Тяжкий гнет несли.Остался еще враг уже не одного сербского народа, но и всего славянства. Погибнет этот враг, будет он усмирен народами Европы, - тогда вздохнет славянство облегченно и свободно. На именинах сербского короля я почувствовал, что западное славянство еще живо и крепко держится за свою национальную самостоятельность.
Рейн, мой дорогой Друг, - это немецкая Волга. К Рейну так и подходит название - немецкий, как к Волге имя “русской реки”. Не напрасно так хочется немцам, чтобы Рейн принадлежал им до самого устья. Немцы любят петь “Wacht am Rhein”; русские повсюду поют “Вниз по матушке по Волге”. И все же мне думается, что Волга менее историческая река, чем Рейн. У нас скорее историческая река - Днепр. В самом деле, многое ли в нашей русской истории связано с Волгой? Еще верхняя часть Волги звучит историческими именами Ярославля, Костромы, а спустился за Нижний - будто уехал из России, древней исторической России, пошли все новые города, послышалась чужая инородческая речь. Давно ли русская культура коснулась Поволжья? Да везде ли коснулась и теперь-то? Вот Рейн - уж это настоящая историческая немецкая река. На Рейне будто невольно погружаешься в историю германской нации. Когда говоришь о Рейне, так и хочется его назвать седым. При слове “Рейн” как-то сразу выплывает в сознании не только средневековье, но и более древняя история, до записок о галльской войне Юлия Цезаря включительно.
Едва только попал в Майнц, как почувствовал, что стою на старой исторической почве. Немецкая столица Берлин - город не исторический. А то место, где уже тысячу лет люди живут, где протекала длинная и разнообразная история человеческой жизни, - там всегда переживаешь что-то особенное. Потому-то и в московском Кремле совсем иначе себя чувствуешь, нежели на Сенатской площади в Петрограде. Древние германские города имеют одну яркую особенность: в них есть части, которые так и называются - Altstadt, древний город. Здесь постройки крайне скучены. Кривые неправильные переулки часто шириною не более двух аршин. Иногда галереи перекинуты с одной стороны переулка на другую. У нас почему-то принято узкие улицы считать признаком Востока. Петроградцы с упреком кивают на Москву за ее узкие улицы. Но не. говоря уж про Москву, даже в Константинополе я не видал таких узких переулков, как во Франкфурте, в Майнце или Кельне. Часами в Майнце бродил по этим иногда полутемным переулкам, и вспоминались мне времена давно минувшие. А древний Майнцский собор, до которого никак и не доберешься, - так он кругом обстроен! К самому собору прилеплены дома. Впрочем, европейская нивелировка упорно борется со всем древним и оригинальным. Старые германские города представляют крайне пеструю картину. Будто на одну картину наложена другая, совсем на первую не похожая. Кое-где сквозь новую картину пробиваются старые краски. Такое впечатление, пожалуй, особенно производит Майнц со стороны Рейна. По берегу тянутся новые здания, построенные на манер ящиков. Ведь для человеческого жилья европейская культура не создала иной архитектурной формы, кроме формы ящика, или положенного на землю длинной стороной, или поднятого вверх и только короткой стороной опирающегося на землю. Из-за таких-то ящиков и выглядывает массивная фигура древнего собора своими готическими башнями. Ящики, конечно, мало интересны, ничего не напоминают, ни о чем не заставляют мечтать. Хотелось быть именно в древнем городе; я и поселиться постарался в одном из тесных переулков, в доме с постепенно суживающимися этажами, причем и забрался едва ли не на самый верхний этаж, который весь и состоял-то чуть ли не из одной комнаты.
Я нередко удивляюсь, мой Друг, тому, как европейская культура желает на всем земном шаре повсюду ввести один общий довольно скучный шаблон. Как я только подумаю, что где-нибудь, например, в Александрии, в Каире, в стране фараонов, стоят европейские отели и рестораны, мне становится досадно и обидно.
От Майнца до Кельна самое интересное место для путешествия по Рейну. Описание встречающихся “достопримечательностей” Ты можешь читать в любом путеводителе. Я же напишу Тебе, мой Друг, о своих впечатлениях и своих наблюдениях.
Прежде всего, оказывается, не все уж у нас на Руси так плохо, как принято думать и говорить. Путешествие, например, по Рейну у немцев обставлено несравненно хуже, нежели у нас поездки по Волге. Пароходы сравнительно с нашими волжскими никуда не годны, а пассажиров набивают без всякого, кажется, ограничения. У нас на Волге, пожалуй, даже излишняя роскошь: пароходы, особенно новейшие, прямо плавучие дворцы. Широта русской натуры сказывается. Русский не похож на “немца аккуратного”. Аккуратность, разумеется, вещь хорошая, но если аккуратность гнездится в самой природе, не говорит ли она тогда о некоторой ограниченности природы? В немецкий рейнский пароход входишь с приятным чувством сознания того, что у нас дома лучше.
Но второе чувство, которое переживаешь на Рейне, это чувство национальной зависти: Рейн много богаче красотами, нежели наша Волга. От Майнца и до Кобленца, даже до самого Бонна, трудно оторваться взором от рейнских берегов. Все время оба берега высоки, целые горы подходят к самой реке, порой обрываясь отвесными причудливыми скалами. Не напрасно так много таинственных сказаний, например, о скалах Лорелей! Иногда горы немного отойдут от реки и откроют целую панораму горных видов. С каждым поворотом реки все новые и новые красоты. С некоторой обидой в душе вспоминаешь однообразные волжские берега. Только на Жигулях воспоминание останавливается с отрадой. Есть, мол, и у нас на Волге места не хуже ваших! Но Рейну особую, так сказать, историческую красоту придают замки. Редкая горная вершина, редкий выступ скалы не украшен оригинальным средневековым зданием замка. Высятся башни, чернеют таинственные узкие окна, - будто вся средневековая сложная история смотрит на тебя чрез эти далекие окна! Иные замки реставрированы, другие пусты и полуразрушены. Все это и очень красиво, и очень оригинально. Порою начинаешь представлять себе то время, когда еще не свистели пароходы по Рейну, не бежали по обоим его берегам железнодорожные линии, не дымили паровозы, когда феодалы жили в своих крепостях-замках, когда все здесь на Рейне жило своей особой жизнью...
Давно было это время... Теперь горные вершины прирейнские со своими замками служат лишь местом прогулок для праздных любопытных туристов. У нас, мой Друг, на Волге в исторические воспоминания и мечты не погрузишься, когда плывешь мимо красивейших берегов, - разве о Стеньке Разине вспомнишь. Нашим волжским или камским красотам недостает исторической славы; там и до сих пор дико, пустынно и первобытно, особенно на Каме. Порою как-то жутко становится. Значит, еще много у нас впереди, если мало позади. Еще сколько работы пред великим русским народом, если он пожелает возделать родную землю, землю великую и обильную! Широка,, простор на ты, страна родная! Бедна она внешними эффектами, но богата внутренними красотами духа! Не гордо взлетевшие на скалы замки смотрятся в тихие струи наших русских рек - к этим струям подходя) смиренные деревни и села с убогими строениями. Только и есть всего одно украшение этих смиренных селений смиренного племени славы Божьи храмы с колокольнями смотрятся в зеркало русских рек. С детства привык я, мой милый Друг, видеть такую именно картину на своей родине, на берегах родной Оки. Выйдешь у нас в Липицах на горку позади села, посмотришь на долину Оки, - верст на сорок видно вдаль Только в ближайших деревнях своего и соседнего прихода разбираешь отдельные дома, а дальше заметны, лишь здания Божиих храмов: красная тешиловская церковь, белая церковь в Лужках, в Пущине, в Тульчине, а на горизонте в тумане высятся каширские колокольни... Приедешь, бывало, домой на Пасху. Выйдешь к реке. На несколько верст она разлилась, затопила всю равнину. И слышишь по воде со всех сторон радостный пасхальный трезвон во славу Христа Воскресшего: и с нашего тульского берега, и с московского несется звон; будто две церкви, две епархии сливаются в одном торжественном гимне. Ярко и ласково светит весеннее солнышко, шумно бегут по канавам мутные потоки, важно расхаживают по земле грачи, вся земля будто проснулась и начала дышать, зеленеет уже травка. Оживает природа, и смиренный народ справляет праздник Воскресения. Слышишь, бывало, как несется над рекой пасхальный звон, - будто волны новой жизни вливаются в душу, слезы навертываются на глазах. Долго и молча стоишь зачарованный...
Вспомнишь, милый мой, эту родную картину и не так уж обидно сознавать, что берега наших русских рек скромнее берегов немецкой реки. На берегах этой реки не слышно пасхального звона - только свистят паровозы. А если так, то Бог с ними — и с замками, и с горами, и со скалами! Милее сердцу моему скромные реки родной земли!
Красивы рейнские берега, но европейская культура борется с красотой и здесь, внося свой торгашеский дух. Часто прибрежные горы от самой воды до вершины разделаны под виноградники и потому потеряли всю свою природную красоту. Сглажены неровности, сравнено все, и только проведены однообразные зеленые полосы. Будто оазисы или будто обломки былой красоты, среди искусственного однообразия стоят развалины замков, вроде хотя бы замка Эренфельс. Зато, конечно, получается, картина: плывет немец по Рейну и пьет Rhein-Wein!
Присматриваешься к пассажирам и замечаешь особенности немецкой публики. В Европе вообще, мой Друг, как-то не видишь народа, а встречаешь публику. Там нет нашего разделения на публику и народ, о чем так красноречиво и остроумно писал К. С. Аксаков. Ты, Друг, помнишь, конечно, что, сравнивая публику и народ, знаменитый славянофил становился всецело на сторону народа, потому что публика у нас почтеннейшая, а народ - православный, потому что, когда публика танцует, народ молится. Думается мне, что путешествие (как и прогулка, о чем писал я Тебе, Друг, в прошлый раз) - дело публики, а не народа. Что поделаешь? Сочувствуя вместе с К. С. Аксаковым больше народу, нежели публике, я, однако, очень люблю путешествовать. А ведь народ не путешествует ради того, чтобы посмотреть чужие земли, посмотреть красоты чужой природы. Помнишь, Друг, не так давно я писал Тебе восторженные письма с Волги и Камы, жалея лишь о том, что Тебя не было со мной! Но я тогда же видел, как равнодушен к красивым берегам народ. Он и сидит-то на пароходе, обратившись к берегу задом; лицом же поворачивается к берегу только тогда, когда нужно что-нибудь выкинуть в воду, выполоскнуть, например, чайник. Бывают и в народе чуткие к красоте природы души, но у них к красоте природы отношение не эстетическое, а религиозное: их восхищает красота именно Божьего мира. Божьего создания. Им не нужно красот потрясающих: для них Бог и в былинках на земле велик. Такое восхищение тварью Божией особенно часто я встречал у простецов-монахов из народа. Ведь монастырь у нас на Руси собирает в себя все самое чуткое, самое нежное, самое восторженное, самое углубленное из русской народной массы.
На Рейне я видел немецкую публику путешествующую. Ты, Друг, себе и представить не можешь, до чего путешествия развиты у немцев! Едва не каждый немец копит несколько десятков марок, чтобы летом, забрав свою немку, прокатиться по Рейну, проехаться в Саксонскую Швейцарию, походить по горам. Немецких туристов встречаешь повсюду. У немцев целая наука путешествовать. И все сведено опять к шаблону. Нередко мне было прямо смешно смотреть на путешествующих немцев. Уж очень они забавны в своем тупом самодовольстве. Немец непременно наденет для путешествия особый костюм. В городах есть специальные магазины с вещами для туристов. Если турист собрался в горы, то комедия начинается еще в равнине. На ноги надеты башмаки из толстой кожи с железными шипами на подошвах. Далее высокие, выше колен, толстые чулки. За спиной сумка. Вся фигура покрыта плащом; в руках внушительная палка с острым железным концом. Так и кажется, что турист собрался или к северному полюсу, или на вершину Монблана. А какой важный вид! Так все и говорит: “Смотрите, я иду путешествовать, меня ждут ужасные опасности, но я все преодолею!” Немец, думается мне, путешествует скорее с гигиеническими целями, чтобы закалить себя, посбавить жиру, усилить кровообращение, нагулять хороший аппетит и крепкий сон. Для него восторги пред красотой природы тоже ценны между прочим и потому, что способствуют пищеварению. Один мой много путешествовавший родственник очень зло высмеивал немецкую манеру путешествовать. У немцев, говорил он, можно встретить на горных тропинках вывески: “Здесь нужно остановиться и любоваться видом направо”, “Здесь нужно восклицанием выразить свой восторг” и т.д. Немец путешествует так, чтобы не даром пропали его сбереженные марки. Он старается не пропустить ни одного вида, ни одной достопримечательности. В руках у немецкого туриста всегда путеводитель. Не увидать чего-либо, упомянутого в путеводителе, это для немца - несчастье. Еще бы! За свои деньги он мог это увидать и не увидал! А деньги истрачены! Так, Друг мой, немец и русский путешествуют различно. У русского самое путешествие вызывается широтою натуры, желающей обнять и вместить как можно больше. Немец и в путешествии мелочен, расчетлив и скучен.
Когда я плыл по Рейну, мое внимание на пароходе привлекла фигура католического духовного лица. Вижу - бритая физиономия в подряснике. Не студент ли католический? - мелькнула у меня мысль. Подсел я к заинтересовавшему меня спутнику и заговорил с ним. Оказалось, не студент, a Pfarrer, сельский священник из Баварии, то есть лицо не менее интересное. Долго мы беседовали по разным вопросам, даже обедали (прости, Господи!) вместе, хотя спутник мой разговорчивостью и не отличался. Он окончил Мюнхенский университет, но с наукой, по-видимому, порвал тотчас по окончании университетского курса. Оказалось, что с немецкими богословскими книгами я знаком не меньше баварского сельского патера. Особой интеллигентности и воспитанности в своем собеседнике я тоже не заметил. Интересны были для меня его рассказы о церковных делах, о жизни и деятельности католического духовенства. По окончании университета, оказывается, нельзя сразу получить даже сельского места. Желающие принимают священный сан, но три года живут при епископе, участвуя в богослужении, в проповеди, исполняя некоторые пастырские обязанности. Епископ близко знакомится с молодыми патерами и уже на основании своего личного знакомства определяет после кого куда считает более подходящим. Приходские патеры получают казенное государственное жалованье, хотя и не особенно большое. Людям одиноким, конечно, нужно несравненно меньше, нежели семейным. Сельский патер ежедневно служит краткую мессу без проповеди. Месса продолжается полчаса. Человек пятьдесят бывает за этой мессой ежедневно. В праздники месса с проповедью. Да, Друг мой, одинокий патер как-то больше живет духовными интересами своего прихода, потому что у самого у него личных житейских интересов мало. Я всегда думал, что сословность и обязательная семейность нашего духовенства немало мешают церковной жизни и деятельности. Католическое безбрачие, конечно, крайность. Церковные каноны допускают свободу для иерея брачного и безбрачного состояния. Обязательная семейность для священника тоже, по-моему, крайность, и крайность едва ли полезная. Семья тем лучше, чем она эгоистичнее, а пастырство - самоотречение, по существу. От одного себя отречься несравненно легче, нежели от семьи. Впрочем, в этих рассуждениях я едва ли найду сочувствие у Тебя, мой Друг!
В Кельне мое путешествие по Рейну кончилось. Еще издали приковал к себе мои взоры Кельнский собор. О нем я уже писал Тебе, мой дорогой Друг. Из кельнских впечатлений вспоминается вечерняя торжественная служба в Jakobskirche, особенно проповедь в конце службы. На кафедре возвышался над толпой молящихся своего рода артист. По содержанию проповедь ничего достопримечательного из себя не представляла, но изложена была красноречиво, произнесена артистически. Как проповедник владел голосом, как он чувствовал себя уверенно на кафедре, какая выразительная мимика и жестикуляция! Он говорил о любви Спасителя к миру. Когда же в конце проповедник начал изображать неблагодарность мира, вторично распинающего своими грехами Христа, у слушателей навернулись слезы. Но самый конец проповеди меня прямо ошеломил. Проповедник начал отпускать довольно глупые остроты, рассказывать анекдоты. Вместо плача послышались по всему храму вспышки смеха. Развеселив молящихся, проповедник сошел с кафедры. То, что я видел, показалось мне невероятным. Что же это такое? К чему это веселое добавление? Чтобы не отпускать слушателей домой в печальном настроении? Так делают в театрах, после тяжелой драмы разыгрывая легкомысленный водевиль. Но наблюдать то же самое в храме мне показалось очень и очень странным.
Наутро поезд умчал меня из Кельна и от Рейна.
Но был я, Друг мой, и еще в верхней части Рейна специально затем, чтобы посмотреть знаменитый Рейнский водопад. На пути из Цюриха в Шафхаузен, немного не доезжая до последнего, увидал я еще из окна вагона ревущую и пенящуюся массу падающей воды. Лишь только поезд остановился в Нейхаузене, я направился к водопаду. Величественная и грозная картина природы! Довольно широкая река с шумом и грохотом несется вниз, у левого берега даже падает почти отвесно. Вся река становится белой. Долго еще и после водопада бурлит и беспокоится река. Дикую картину водопада хотелось видеть в дикой же раме. Я представлял себе то время, когда вокруг было все пустынно и безжизненно: не было ни дорог, ни благоустроенных городов. Вероятно, и водопад тогда был несколько иной, но несомненно он был еще более величественен и грозен. Несколько часов я провел у бушующего водопада. Еще по дороге я узнал, что приехал удачно: в один из тех дней, когда поздно вечером бывает особое освещение водопада. Уже начало смеркаться. Картина водопада становилась все более и более жуткой. Скрылись все подробности водопада - только будто дикие голодные разъяренные звери ревут в темноте! Такие картины природы как-то подавляют сознание, будто весь погружаешься в море шума и носишься по этому морю в полной власти его могучих волн.
Уже около десяти часов вечера из Лауфенского замка, расположенного на высокой, покрытой лесом скале левого берега, взвилась ракета, прорезав ночную темноту. Тотчас с противоположного берега на всю пучину водопада невидимая рука навела сильный электрический прожектор. Представь себе, мой Друг, черные громады высоких гористых берегов; только самый водопад залит ярким светом; весь он белый в лучах света; мелкие брызги играют и переливаются. Вдруг водопад снова погружается во мрак - только один замок освещен направленным на него прожектором. Снова лучи света переходят на водопад. Вдруг водопад начинает делаться голубым, и скоро вся его масса - голубая. Потом одна его половина становится красной, другая - остается голубой. Скоро весь водопад уже красный. Еще несколько минут - и на водопад посыпались ракеты фейерверка. Сыплется дождь ракет из замка. Тянутся с неба огненные полосы к самой воде и над водой рассыпаются разноцветными шарами. Взлетают ракеты даже и с той небольшой скалы, которая века стоит посредине водопада. Эффектное зрелище захватывает все внимание. Недолго оно тянется, может быть, всего минут пятнадцать-двадцать, но зато на эти минуты перестает для тебя существовать целый мир; всю душу заполняет бесподобное зрелище, в котором одна неожиданность сменяет другую. Сидел я эти двадцать минут на берегу реки против водопада, сидел будто в каком фантастическом сне. Не забываются такие зрелища!
Наконец, все погасло. Сразу как-то стало все вокруг неинтересно. Будто из таинственного мира грез и сновидений перенесся в скучную будничную жизнь, и холодно, и неуютно показалось темной ночью на берегу реки. Немедленно вся толпа зрителей пошла от водопада. Предусмотрительные немцы подали целый электрический поезд и повезли нас на ночлег в Шафхаузен.
Сначала показалось удивительным, как можно устраивать такое зрелище бесплатно, но скоро догадываешься, что и при бесплатности зрелища жители в накладе не остаются. Мало ли путешественников проедет лишнюю сотню верст ради действительно выдающегося зрелища Рейнского водопада. Ночное освещение водопада всех их заставит где-нибудь поблизости заночевать, прожить целые почти сутки, истратить немало денег, которые из кармана туриста перейдут к жителям города, куда едва ли бы кто заглянул, не будь около него Рейнского водопада. Рейнский водопад в Швейцарии. В Швейцарии на каждом шагу замечаешь, как целая страна будто торгует красотой своих прекрасных гор, дивных озер, удивительных водопадов. Путешественника провезут с удобством везде, везде его накормят, напоят и успокоят, поднимут в область вечных снегов, в заоблачную высь. И на вершине Юнгфрау, куда проложили недавно с большим трудом дорогу, турист найдет торговлю. Целая страна обращается как бы в гостиницу, где все устраивается по вкусу богатых постояльцев. Самые богатые туристы - англичане, и вот отели с английскими порядками, с английской прислугой стоят где-нибудь на берегу Фирвальдштеттерского озера! У русского человека как будто не в натуре торговать красотой природы. Красоты природы есть и у нас. А попробуй до них добраться, например, на Кавказе! Много нужно решимости, ко многим лишениям и опасностям нужно себя приготовить заранее. Европейцы пользуются всеми, даже самыми мелкими, особенностями места, чтобы пустить эту особенность в оборот и нажить деньги. Ты сам с удовольствием заплатишь и даже будешь благодарен торговцу за то, что он помог тебе в путешествии, обставил тебя удобствами и услужил тебе.
На другой день в проливной дождь, в ветер и непогоду на сквернейшем маленьком пароходике отплыл я по верхнему Рейну в Боденское озеро. Казалось, что все вчерашнее было лишь во сне, потому что сегодня все так неинтересно и неприветливо.
Письмо 8-е. СИКСТИНСКАЯ МАДОННА РАФАЭЛЯ
Вижу, вижу, Друг мой милый, что Ты смеешься уже, прочитав только заглавие моего письма! Тебе смешно самое мое намерение писать о величайшем произведении искусства? Это, конечно, потому, что Тебе хорошо известна моя бездарность во всех отраслях искусства. Именно бездарность. Дара нет. Бог не дал... В живописном художестве я совершеннейший нуль. Сам я убедился в этой печальной истине еще в детстве, когда пытался рисовать домики, лошадок, собачек и подобное. Но, Друг мой, к красоте я никогда не был бесчувственным. Меня только всегда несравненно больше привлекала к себе красота Божьего мира. К красоте картин я почти равнодушен, но некоторые картины все же пробивали стену моего равнодушия, таял пред ними лед моей художественной нечувствительности - и я переживал столь сильные впечатления, что не могу их забыть в течение многих лет. Сикстинская Мадонна прямо потрясла меня, и мне хочется поговорить с Тобою, мой Друг, об этом моем выдающемся переживании на Западе. Когда сидел я пред Мадонной, я невольно вспомнил Тебя и мысленно тогда же делился с Тобой своим переживанием. Помню хорошо, как по возвращении домой при первой встрече с Тобой я заговорил о Мадонне. Ты, мой Друг, отнесся тогда к моим речам не только несерьезно, но даже со смехом. С тех пор прошло уж несколько лет, и я теперь обращаюсь к Тебе с письмом о Мадонне. После я старался осмыслить свое непосредственное переживание. Хочу поделиться с Тобой и мыслями о Мадонне. О ней писали многие, писали люди разные. А почему не попытаться что-нибудь сказать о ней человеку, который сколько-нибудь прикосновенен к богословию? Ведь изображена на этой картине Богородица, предмет нашего религиозного поклонения и богословского рассуждения. Но буду вперед говорить о своих впечатлениях...
То было в летнюю Казанскую, в светлый и веселый летний день, когда направился я в Дрезденскую галерею. Посещать картинные галереи -это для всех путешественников своего рода долг. Мне этот долг всегда казался тяжелым. В этом виновата она же, моя художественная бездарность. Чего, например, стоило мне обойти бесконечные залы парижского Лувра с их тысячами картин! А ведь иной ходил бы целые дни и все время был бы в восторге. К Дрезденской галерее я подходил с мыслью о Мадонне, и притом с мыслью скептической. “Величайшее произведение искусства”... Посмотрим! Может быть, вся громкая слава Мадонны основана на своего рода самовнушении зрителей!
Лишь только вошел в галерею, как пошли обычные целые ряды зал. Почему-то думалось, что Мадонну увижу сразу и прежде всего. Один зал, другой, третий... Мадонны нет, а другие картины как-то не привлекают к себе внимания. Теряю терпение и обращаюсь к одному из служащих галереи с вопросом, как найти Сикстинскую Мадонну. Он направил меня по длинному коридору. Вхожу в небольшую комнату. Вижу целую толпу людей, но не вижу картины, потому что она ко входу обращена задом. Пробираюсь чрез толпу зрителей и обращаюсь к картине. Она одна во всей комнате. Все смотрят здесь только на нее. Сначала что-то вроде разочарования. Мадонна не поразила сразу. Больше присматриваюсь - и в душе уж какая-то тревога, которая всегда в ней бывает, когда видишь что-нибудь особенное, не простое, сразу не понятное. Еще несколько минут... и - картина будто пропала. Предо мной сама Мадонна. Прекрасно сказал В. А. Жуковский: “Это не картина, а видение”. Да, и я чувствовал, что я смотрю не картину, а вижу чудесное небесное видение. Лишь только на диване у противоположной входу стены освободилось место, я опустился на диван и в каком-то полузабытьи пробыл не менее часа. Предо мною на облаках будто плавно и величественно двигалось и в то же время неподвижно стояло чудное видение. Немного развевающаяся синяя одежда, будто ветром надутое и сбитое в сторону покрывало - создают впечатление движения, но Сама Богоматерь неподвижна и будто погружена в глубокое и сосредоточенное размышление. А Ее лицо, Ее глаза... Как о них расскажешь? И что о них можно написать чернилами? Серьезные и кроткие глаза смотрят в самую душу, и весь прекрасный духовный образ влечет к себе и отрешает от земли. Лик Рафаэлевой Мадонны - это лик мечты, и мечты неземной, небесной, чистой, бесстрастной. Не напрасно на картине папская тиара стоит где-то в углу, будто она брошена. Эта тиара олицетворяет собою землю, с которой так крепко связано папство. Небесная Мать ни на что не смотрит, ничего не замечает. И когда на меня смотрели дивные глаза чудного лика, мне не хотелось ничего видеть, кроме одного этого лика. Я не могу понять, почему иным на картине даже больше лика Богоматери нравится фигура Сикста (например, В. В. Розанову — “Итальянские впечатления”), почему другие говорят с восторгом об ангелах. Для меня существовала только сама Мадонна. Мне даже хотелось, чтобы, кроме Ее лика, ничего другого на картине не было. Фигура Сикста мне положительно мешала, может быть, потому, что напоминала о папстве, этом противном для меня историческом чудовище в недрах христианства. Папство - символ материализации христианства; в папстве все грубо, гордо, плотяно. А Мадонна - вся небо, вся духовна, вся кротка, благородна и по-небесному ласкова. Сикст изображен у Рафаэля в каком-то блаженном умилении. И поэтому как-то не верится, что это папа. Никого из исторически известных римских пап я не могу представить в блаженном умилении. Я могу представить их в сознании и упоении власти и могущества, но умиление - добродетель и блаженство нашего церковного Востока. Да и я пред Мадонной переживал не умиление, а какое-то тихое самоуглубление или восхищение.
В двух верхних углах картины темно-зеленый занавес. Будто этот занавес открыт и пред тобой предстало дивное видение. Действительно, когда созерцаешь Мадонну, кажется, что приоткрылась завеса в жизнь иную, в жизнь не земную, в область неба и небесных настроений.
Да, Друг мой, впечатление мое от Мадонны было очень сильно. Когда я вышел в соседний зал и увидел целый ряд Мадонн, мне они показались жалкими и бедными, недостойными внимания, и скоро я совсем ушел из галереи. А образ Сикстинской Мадонны живет во мне и теперь и нередко выплывает в сознании. Не думай, что о Мадонне можно судить по копиям или по снимкам. Тому, кто Мадонны не видал, они ничего не скажут. Ведь и я раньше снимков видел немало, но оставался совершенно равнодушен. Теперь же я равнодушным быть не могу. Всем существом я почувствовал, что здесь какое-то чудо, которое может привлекать к себе издалека. Когда я был в другой раз сравнительно недалеко от Дрездена (хотя и в пределах Австро-Венгрии), я очень колебался, не поехать ли опять в Дрезден только затем, чтобы взглянуть на Мадонну и тотчас уехать из города. Уже и расписание поездов посмотрел, да и билет даже был до Дрездена. Но видеть вторично Мадонну мне не было суждено. Однако я не счел бы пустою и глупою эксцентричностью, если бы кто доехал, например, от Москвы до Дрездена, посмотрел там Мадонну и тотчас вернулся бы обратно. Нет, Мадонна этого заслуживает. Я даже запретил бы делать с Мадонны и копии, и снимки. Я понимаю Жуковского, который и не подошел к картине, когда увидел, “что пред нею торчала какая-то фигурка, с пудреною головою, что эта проклятая фигурка еще держала в своей дерзкой руке кисть и беспощадно ругалась над великою душою Рафаэля”. Тот же Жуковский не хотел купить себе Миллерова эстампа, потому что “он, можно сказать, оскорбляет святыню воспоминания”. Сикстинская Мадонна неповторяема и неподражаема. Это признак ее исключительности. Да ведь таким, именно единственным, явлением ее и признают почти все, за немногими исключениями. Мне приходилось встречать немало описаний - впечатлений от Мадонны. И вот замечательное явление: Мадонна не производила особого впечатления на тех людей, которые мне органически несимпатичны. Герцен ничего не сказал о Мадонне больше того, что Рафаэль писал ее со своей возлюбленной Форнарины. Белинский называл чепухой восторженное письмо Жуковского о Мадонне. “Это, - писал Белинский, - аристократическая женщина, дочь царя... Она глядит на вас не то чтобы с презрением - это к ней не идет, она слишком благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрением, даже людей... - нет: она глядит на вас с холодною благосклонностью, в одно и то же время опасаясь замараться от наших взоров и огорчить нас, плебеев, отворотившись от нас”. Вот уж воистину чепуха и притом глупая! Откровеннее писал Грановский: “Рафаэлева Мадонна слишком высока для моего разумения, по крайней мере теперь. Я долго смотрел на нее, смотрел с благоговением, но думаю, что если бы мне ее не указали, то я прошел бы мимо. И благоговение, кажется, было внушено мне не самою картиною, а тем, что я об ней слышал и читал”.
Я привел Тебе, мой Друг, эти не особенно почтительные отзывы о Мадонне только затем, чтобы показать, насколько люди бывают различны, друг на друга не похожи. Думается мне, Мадонна не существует для рационалистов, у кого подавлен, как бы засыпан сухим песком рационалистических понятий живой родник мистики.
А в Мадонне Рафаэля я и усматриваю нечто, как сказали бы философы, иррациональное, сверхразумное, мистическое. В ней есть какая-то тайна. Рафаэль писал Мадонн, кажется, без числа, но многие ли из них известны широким кругам, а не одним только, всегда тесным, кружкам людей, сведущих в искусстве и даже в истории искусства? И в то же время, кому не известна одна его Мадонна - Сикстинская! Сколько картин существует на свете по галереям и музеям! Но многие ли из них оживают пред зрителем и как бы превращаются в видение? Есть великое множество картин, живо написанных. Иной художник живо схватит на полотно уличную сценку. В морских видах Айвазовского так и катятся волны и будто так же прозрачна их бирюза, как на самом морском просторе. Но здесь видения еще нет. Видение начинается там, где приоткрывается завеса таинственного и невидимого. Всякое видение непременно небесно. Мадонна и была для меня видением небесным.
Часто задаются вопросом: что хотел выразить Рафаэль своей Мадонной? Я думаю, что он ничего не хотел выразить, но прямо выразил, может быть, и для себя непонятную и самим не осознанную тайну. Есть предание, что Рафаэлю и самому было именно видение, и ему удалось рассказать всему миру и целым векам о своем видении.
Видение всегда неуловимо в своей сущности. Оно не бывает отчетливо. В видении именно только приоткрывается завеса в область невидимого и сквозь небольшое отверстие лишь смутно чувствуется, что за видимой частью стоит еще целая бесконечность.
Но что же выразил Рафаэль в Сикстинской Мадонне? Что она такое? Многие на это отвечают: это - мать! Но если она - только мать, то этот образ не относится к Богоматери. Ведь сущность и тайна Богоматери не в том только, что она - мать. Мне кажется, что Мадонна отражает идею не матери только, но и Богоматери. А чем Богоматерь отличается от матери? На этот вопрос может дать ответ одно православное богословие, а рассудку и неверию здесь остается только замолчать. Здесь тайна великая, тайна единственная, потому особенно и привлекающая. Более того, эта тайна Богоматери, как говорит наше богословие, необходима человечеству, жаждущему спасения.
Когда я вспоминаю Сикстинскую Мадонну, мне приходят на память слова акафиста Пресвятой Богородице: “Радуйся, противная в тожде собравшая: радуйся, девство и рождество сочетавшая”. Девство и рождество противны друг другу по нашим понятиям, но в пресвятой Богородице побеждаются нашего греховного человеческого естества уставы: девствует ее рождество. Она - Мать и Дева. В этом сочетании противоположностей, в преодолении этой, скажу по-мудреному, антиномии -тайна Пресвятой Девы, тайна, нам необходимая и нам любезная. Человеку дорого имя “мать”, а человечеству нужна “Дева”. Вот почему бесконечно нам дорога Мария - Дева и Мать.
Мать... Не знаю другого слова в лексиконе, которое так потрясало бы человека, так затрагивало бы самые глубокие слои нашего существа. У нас теперь лучше всех, кажется, умеет говорить о матери (иногда!) В. В. Розанов: “Ведь что такое „песня Ангела", которую „слышал и полузабыл, но забыл не вовсе" человек до своего рождения?! Конечно, это только настроения матери, особо передающиеся ребенку! Ребенок, еще из темной могилки своей, видит душу матери с такой особой стороны, какая никому не открыта, да и она сама о себе всего не знает. Все, что мы именуем „врожденными идеями", довременными предчувствиями - Бог, загробный мир, последний суд, грех и правда, идеалы терпения и подвига - все „врожденное" и есть просто переживания матери, думы и песенки ее, песенки и молитвы, своеобразно отразившиеся на плоде в ее чреве, толкнувшие его, обласкавшие его, согревшие”. Прекрасные слова! Ты, Друг, замечал, конечно, что с матерью человек как-то особенно связан. Эта связь лежит, несомненно, в мистических глубинах нашей природы. Отец - не мать. У Тебя есть и отец, и мать. С кем ты ближе, роднее? Ведь с матерью? Ты, мой дорогой, знаешь, что я уже почти двадцать лет назад потерял мать. В то время ощущал я свое сиротство, так сказать, практически, в смысле житейском, а теперь порою я болезненно ощущаю свое сиротство мистически. Так хочется видеть и любить родившую меня мать! Так и мать как-то особенно связана с рождением своим. Видел ли Ты, мой Друг, мать, теряющую ребенка? Ведь прямо ощущается потрясенность материнского существа до самых его глубин, видится, как оружие пронзает материнское сердце и как терзается утроба материнская. Что-то в мистических глубинах надрывается...
Пресвятая Богородица - наша общая Мать, потому что она родила “нового Адама” и “новое человечество” от нее произошло. Ведь теперь естество человеческое иное, нежели в ветхом завете; теперь в нашем естестве есть “Божественное примешение”. К Богу стремилось человечество целые тысячелетия, чтобы с Ним соединиться и тем возродиться. Мария - чистейший плод нашего естества; она - “избранная от всех родов”, как бы вершина человечества, достигшая небесного Царя. Чрез нее род человеческий вступил в родство с Богом. Если в нас живет Христос, - в нас живет и Матерь Его. Но эта Матерь должна была пребыть Девой. Утверждая приснодевство Богородицы, богословие наше говорит только о том, что нам необходимо. Порча естества нашего коснулась самого рождения нашего. “Умножая умножу печали твоя и воздыхания твоя: в болезнех родиши чада, и к мужу твоему обращение твое, и той тобою обладати будет”. Это из уст Божиих услышала древняя Ева, родоначальница ветхого человечества. “В беззакониях я зачат, и во грехах родила меня моя мать”. Порча естества в самом его корне - в рождении. Обращение жены к мужу, его обладание женой и болезни рождения - вот признаки природной “растленности”!
Она небес не забывала,
Но и земное все познала
И пыль земли на ней легла --можно сказать и о матери.
Воссоздание естества - а в этом воссоздании и состоит спасение - и должно было начаться с преодоления законов естественного рождения. “Бог послал Сына Своего, рождаемого от Жены”, рождаемого без обращения к мужу, без обладания мужа, без болезней рождения. Дева родила и Девой пребыла,
...вечная-женственность ныне
в теле нетленном на землю идет.Воистину и несомненно это - “то, чего ждет и томится природа”, потому что в этом начало спасения твари, с надеждой ожидающей откровения сынов Божиих, когда и она освобождена будет от рабства тлению и придет в свободу славы чад Божиих. И мы сами в себе воздыхаем, ожидая всыновления, избавления нашему телу, которому недостает целости и нерастленности, как и всему естеству нашему недостает целомудрия.
Так для нашего спасения необходимо приснодевство Марии. Божественное достоинство Спасителя необходимо нужно для действительного спасения и обновления твари, а это обновление с того и началось, что Мать пребыла Девой. Божество Христа и приснодевство Марии связаны неразрывно, и без них нет спасения, то есть нет никакого смысла жизни. Западные еретики протестанты так усиленно нападают на истину приснодевства Марии, несравненно настойчивее, нежели древние антидикомарианиты, нападают с самыми усовершенствованными научными орудиями. У меня целая полка их хульных на Богородицу книг. Понятно! Ведь лютеранам нужен учитель, вроде их скучных пасторов. Ну, а разве нам важно, кто была мать нашего учителя! Приснодевство Богородицы необходимо тому, кто живет идеей обожения. Запад отрекся от этой идеи. Протестанты и наши несчастные сектанты только и поют об “Иисусе”, а Марию Приснодеву забыли. Православие - носитель идеала обожения. Подумай, как у нас прославляется Пресвятая Дева! Ведь, пожалуй, не менее половины песнопений в наших богослужебных книгах посвящено Божией Матери. Открой октоихи, минеи - всюду и целые каноны Богородице, и повсюду отдельные “богородичны”. Сколько у нас праздников в честь Богоматери! Сколько храмов! Сколько Ее чудотворных икон! А ведь наше богослужение создалось в монастырях; не миряне его составляли, но монахи. Монахи-то особенно и чтут Пресвятую Деву и Матерь. Вот гора Афонская, куда не ступает нога женщины, где живут одни монахи! Но эта гора - “земной удел Богоматери”. Божия Матерь является преп. Сергию и говорит ему об умножении впоследствии монахов его обители. Значит, это умножение монахов желательно Пречистой Матери! Она Сама - покровительница монашества. Монашество есть самое громогласное исповедание той истины, что люди бедны и грешны, что в мире незапятнанным ничто не осталось, начиная с человека при самом его рождении. Мир так часто не хочет вовсе знать о том, что грех и смерть царят на земле. Текущая жизнь считается подлинно ценной, настоящей жизнью. Монахи - исповедники и проповедники духовной нищеты человека, с признания которой и начинается процесс спасения человека. Сами дети своих матерей, они прибегают к покрову Матери-Девы и Ее именуют столпом девства, “не веруя обманчивому миру”.
Мое письмо о Сикстинской Мадонне, дорогой Друг, как-то невольно обратилось в богословское рассуждение о Пресвятой Богородице, об Ее месте и значении в деле нашего спасения и возрождения. Основная и спасительная тайна Божией Матери в том, что Она Мать и Дева. И вот кажется мне, что Рафаэль в своем вдохновении сумел красками сказать на полотне об этой именно тайне Богородицы, совместить в Ее дивном и привлекательном лике две земных противоположности - девство и материнство. По крайней мере, такое впечатление произвела великая картина на меня, и отрешиться от этого впечатления я не могу.
Из всех Мадонн Рафаэля Сикстинская более похожа на икону. Однако это - не икона. Это картина, на которую лишь упал луч неба. Мне кажется просто невозможным вынести ее на средину православного храма, поставить пред ней подсвечник с лампадами и свечами, пропеть пред ней величание, совершить вокруг нее каждение. Неловко было бы и просто молиться пред Сикстинской Мадонной. В ней все же много человеческого для того, чтобы стать предметом благочестивого поклонения. У католиков она могла стоять в храме, потому что католики чувственны в своих храмах. У них Мадонны, написанные с натурщиц, у них - статуи, иногда одетые чуть ли не в модное платье. Не знаю, Друг мой, как Ты, но я органически не мог бы молиться пред мраморной статуей. Наши иконы - не картины, и наше поклонение поэтому духовно. Наши иконы - символы идей, символы существ. Когда мы взираем благоговейно на темный лик Иверской или Казанской иконы Божией Матери, ведь мы не представляем себе, что такой именно Она и была. Нам даже нет и нужды знать, каков был в исторической действительности Ее вид. Для нас Она - Матерь Божия, Мать и Дева, Заступница и Ходатаица. Икона дорога нам не своими собственными достоинствами, но только потому, что “взирающий на оныя подвизаемы бывают воспоминати и любити первообразных” и “поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней”. Наши иконы не задерживают нашего внимания на земле и дают полный простор нашему молитвенному возношению на небо.
Но как религиозная картина Сикстинская Мадонна единственное и неповторяемое произведение художественного гения. Пережитое мною пред Мадонной впечатление, это как бы тихое и возвышенное видение, остается у меня лучшим воспоминанием о Западе.
Пишу Тебе, Друг, в великий богородичный праздник Введения во храм. Воспоминанием о Мадонне Рафаэля и рассуждениями о Пресвятой Деве кончаю свои письма Тебе, мой чистый и светлый Друг. Прими их, как небольшую дань моего сердца, Тебе преданного и Тебе всякую мысль свою и всякое чувство свое поверяющего. Я знаю, как Ты, и не будучи монахом, любишь Пресвятую Деву, как молишься Ей, чистой и кроткой, как Она миром, чистотой и радостью озаряет Твою прекрасную душу, полную звуков небес. Она, Мать и Дева, да покрывает Тебя от всякого зла Своим честным омофором!
Впервые опубликовано в журнале “Христианин” (Сергиев Посад), 1915, № 3-7, 9-12. Подписано “Архимандрит Иларион”
Православная беседа >> Библиотека >> Иларион (Троицкий), сщмч. 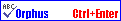
На правах рекламы: