|
|
Донских О.А.
Страх воли: средневековый комплекс передовой интеллигенции
Нине Михайловне Кристесен посвящается
...Повергните тело мое в пустыни сей, да изъядятъ е зверие и птица; понеже съгрешило есть къ Богу много и не достойно есть погребения.
Преподобный Нил Сорский
Во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке...
Н. В. Гоголь
Самый трагический и с внешней стороны неожиданный факт культурной истории последних лет — то обстоятельство, что субъективно чистые, бескорыстные и самоотверженные служители социальной веры оказались не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами и разнузданными любителями полового разврата...
С. Л. Франк
Каждое из этих высказываний связано с важными событиями русской духовной жизни. Первое — с периодом противостояния нестяжателей и иосифлян (конец XV — первая треть XVI века); второе — с проповедническим выступлением Гоголя (середина XIX века); третье — с появлением сборника “Вехи” (начало XX века). Их, очевидно, объединяет строгое, суровое отношение к греховной человеческой личности, к собственной, в частности. Но совмещены они здесь и по другой причине — причине поразительно неадекватной реакции на то явление, которое они представляют: нестяжательское движение исчезло к середине XVI века. Гоголь был морально уничтожен. Авторы “Вех” были заклеймены как ренегаты и оказались практически в полном духовном одиночестве. Это несоответствие глубоко христианской проповеди и реакции на эту проповедь людей, искренность и ум которых не подлежат сомнению, станет отправной точкой этой статьи.
Итак, на Руси, только что сбросившей татарское иго, в государстве, которое за полсотни лет из вассала монгольских владык становится одним из крупнейших в Европе, в Церкви, которая осознает свое значение вселенской и примеривается к тоге Третьего Рима, проявляют себя два в общем-то очень естественных направления духовной жизни. Первое, нестяжательское, выше всего ставит идеал истинно монашеского бытия — уход от мира, отказ от собственности, проникновенное осознание внутренней греховности и потому отказ от вовлечения внешних сил в борьбу с заблуждающимися и еретиками. Духовным отцом нестяжательства был старец Нил Сорский. Именно слова Нила: “Чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням, а кормили бы ся рукоделием”, — стали стержневыми для движения. Второе, навсегда спаянное с именем великого волоцкого игумена Иосифа, отстаивает идеал строгой и единообразной общежительности, устремленности к спасению душ не только через молитву, но и через активную хозяйственную деятельность, разумную организацию церковной иерархии. Можно по-разному относиться к вождям — святым Нилу и Иосифу, но нельзя отрицать каноничность и внутреннюю правоту каждого из них [1]. Оба направления вполне дополняют друг друга, оба глубоко укоренены в отечественной традиции — Нил Сорский преимущественно продолжает традицию северных пустынников, Иосиф движется в русле московского домостроительства и видит свой идеал в деятельности Феодосия Печерского. Внутреннее содержание этих духовных течений не дает оснований для того разгрома, которому подверглись заволжцы. Г. Федотов так формулирует результат борьбы этих направлений для русской жизни: “Не была непоправимым бедствием... борьба между ними, при всей ее ожесточенности. Настоящее несчастье заключалось в полноте победы одного из них, в полном подавлении другого” [2].
В 1847 году Гоголь публикует “Выбранные места из переписки с друзьями”. Можно по-разному относиться к этой книге. Ее напыщенный тон и резонерство, конечно, провоцирует на отрицательную реакцию. Да и чего стоит хотя бы “передаваемая начальству любовь” [3]?! Вопрос в другом: заслужил ли Гоголь своей книгой те страшные удары, которым его подвергли? Заслужил ли он те обвинения, которые сыплет на него Белинский, называя его “проповедником кнута, апостолом невежества, поборником обскурантизма и мракобесия, панегиристом татарских нравов”? А какая, собственно, крамола заключалась в его высказываниях? Что нужно обратиться к своей душе и заниматься в первую очередь ею? Что не общество виновно в пороках людей, а они сами? Что каждый должен делать свое дело на своем месте? И поэтому Гоголь “не христианин” (очень трогательное обвинение в устах Белинского) и служит черту. Результат столкновения известен: Гоголь оказался в духовном вакууме и пережил страшный кризис, от которого так и не смог оправиться.
В 1909 году выходит сразу ставший в буквальном смысле “злобой дня” сборник “Вехи”, в котором опубликовали свои размышления о русской революции 1905 года несколько крупнейших мыслителей России [4]. Основная идея авторов — начни совершенствование общества с себя, покайся, а потом переустраивай. И каков же накал партийно-общественного негодования, вызванного их выступлениями! Самое поразительное у оппонентов, вышедших на травлю “авторов-ренегатов”, изменивших “великому делу интеллигенции”, — это полное отсутствие попыток понимания. Если взять левейших — Потресова и Ленина, — это объяснимо, поскольку они вообще никого никогда понять не пытались. Но кадеты? В их публикациях можно найти либо академические экскурсы по поводу свободы в истории, как у Максима Ковалевского, либо не очень искреннее возмущение по поводу антипартийной позиции авторов, как у Павла Николаевича Милюкова. А разве были у них сомнения в высоком гражданском и нравственном уровне авторов “Вех”? В их личной честности? В их компетентности? Но ни у кого даже тени мысли не проскальзывает: а вдруг они правы? “Вехи” были утоплены в негодующих выкриках.
Человек говорит: “Я грешен, я не могу судить других, не осудив сначала себя; для того чтобы что-то переделывать в этой жизни, нужно в первую очередь обратиться к себе и научиться отвечать за себя”. В ответ этого человека бьют суковатой дубиной. В случае с нестяжателями бьют грубоватые предки от имени веры, могущей заколебаться без должного организационного фундамента. В случае с Гоголем и с “Вехами” — бьют рафинированные и не до конца рафинированные интеллигенты, властно подстрекаемые воспаленной партийной совестью, от имени угнетенного народа. И ведь справедливо, вроде бы, бьют. Разве не прав Иосиф, когда, защищая монашескую собственность, пишет: “Аще у монастырей сел не будет, како честному и благородному человеку постричися? И аще не будет честных старцев и благородных, ино вере будет неколебание?” И он прав. Нужна материально-обеспеченная организация, плохо будет без нее честному и благородному постриженику. И разве не прав Белинский, что нужно освободить человека от рабства, а потом уже требовать чего-то от него? Можно ли требовать морали от раба? И разве не прав Милюков, когда говорит, что выступление “Вех” играло на руку консервативным неинтеллигентским силам? Конечно, играло. И несмотря на скандально громкий успех и несколько переизданий, сказанное веховцами было надежно залито бетоном интеллигентско-партийного негодования.
Но все же чувствуется какая-то глубинная неправда во всех этих реакциях, не говоря уже о том, что в результате наблюдаются страшные перекосы в духовной жизни. И это заставляет внимательней вглядеться в то, что происходило.
На первый взгляд, совмещение этих событий, особенно сопоставление “презлых осифлян” (как их называли противники) с демократической интеллигенцией кажется натянутым [5]. Иосифляне ориентируются на сильную княжескую власть, тогда как интеллигенция выступает против самодержавного строя. Но, думается, даже в этом случае любовь-ненависть объединяет их друг с другом теснее, чем приближает к оппонентам. Есть по крайней мере три особенности, которые убеждают в том, что это сопоставление не случайно.
1. Во всех трех случаях сквозит убежденность в безграничных возможностях государственной власти по отношению к человеку, и, следовательно, вполне определенное отношение к природе человека. Иосиф Волоцкий — мудрый государственный муж — убежден, что необходима строгая организация, которая не позволит человеку свернуть с пути спасения. “Прежде о телесном благообразии и благочинии попечемся, потом же и о внутреннем хранении”. Он прав, что лишь единицам доступен уход в пустыню и подвижническая жизнь с опорой только на внутренние силы. От организации к душе, а не наоборот. Его идеал — крепкое государство — крепкая Церковь — крепкая вера. В противоположность Иосифу главная забота Сорского игумена — личное самосовершенствование. Человек должен видеть и искоренять зло в себе, и спасение его — через эту работу, а не через доскональное выполнение устава. Даже способ подвижничества, согласно святому Нилу, должен соответствовать натуре человека — “Кийждо вас подобающим себе чином да подвизается”.
Интеллигенция во главе с Белинским и Милюковым очень близка в этом пункте церковным государственникам [6]. Человек страдает, и повинен в этом строй, который плодит рабов; человека нужно вести к счастью, для этого нужно снять препоны, не дающие раскрыться добру и красоте человеческой души, и для этого нужно поменять строй. Если Гоголь в ужасе от собственной греховности (хотя бы и преувеличенной), то для Белинского зло — не в человеке, а в обществе. Он в этом отношении четко следует Руссо [7]. Так что Нил и Гоголь искушают человека страшными высотами личной ответственности, а Иосиф и Белинский (первый из практических, второй — из идеалистических соображении) предлагают человеку облегчить личную ответственность, разделив ее с другими.
2. Второй общей особенностью является типизирующее, классовое, общинно-групповое, партийное мышление. Человек рассматривается как представитель определенной общественной группы и как таковой представляет главные черты этой группы. Иосиф вполне в духе Аристотеля рисует собирательный идеальный портрет благочестивого человека — “Ступание имей кротко, глас умерен...” (Для сравнения: святой Нил заведомо признает физические и духовные различия между людьми — “разньство велие имеют телеса в крепости, яко медь от воска”, и, разумеется, не выстраивает собирательного типического образа). Для святого Иосифа еретик также является представителем определенного типа, такого, который заведомо вреден, в принципе не подлежит исправлению и которого надо выжигать каленым железом. Они для здешней жизни погибли навсегда, и относиться к ним нужно соответственно — физически и нравственно уничтожить. Наступая на нестяжателей, Иосиф провозглашает: “Где суть глаголющей, яко не подобаеть осужати ни еретика, ниже отступъника? Се убо явъствено есть, яко не точию осужати подобаеть, но и казнем лютымъ предавати...” [8] Ответ заволжцев: “...Все заволжьские старцы положили тому посланию старца Иосифа свидетельства от божественнаго Писания спротивно, что некающихся еретикоаъ и не покаряющихся ведено заточити, а кающихся еретиковъ и свою ересь проклинающих Церковь Божия приемлеть прострътыма дланма, грешных ради Сын Божий воплотися, прииде бо възыскати и спасти погыбших” [9].
Обращаясь к эпизоду с Гоголем, я хочу обратить внимание на одну особенность: Гоголь говорит от себя, Белинский — от имени передового общества, от имени тех, кому “тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей”. Гоголь, разумеется, из их числам уже исключен. “Преступление” Гоголя состоит в том, что из “нашего” он становится “не нашим”, переходит в один лагерь с “литературным холопом” князем Вяземским [10]. Для Белинского общество разбито на группы, и отдельные люди вполне исчерпываются некоей общегрупповой характеристикой. Одна из таких групп, например — православное духовенство. Ничего доброго в нем нет. Оно “гнусное” и “находится во всеобщем презрении у русского народа”, который “по своей натуре глубоко атеистический”. Но вершиной группового деления, несомненно, является разбиение по критерию — “наш — не наш” [11]. Наши — передовые, не наши — отсталые, наши — прогрессивные, не наши — ретрограды, и т.п. [12] “Нашим” в кредит приписываются все добродетели, “не нашим” — пороки. Поэтому, кстати, самое страшное преступление — измена классу, группе. Гоголь был “нашими” вседушевно зачислен в передовые люди, в “великие вожди на пути сознания, развития и прогресса”, и вдруг громко провозгласил идеалы, которые прямо противоречат главным критериям передового существования — православность и верность трону. Вот и пришлось вождю группы с искренней сердечной болью отчислять Гоголя из числа передовых людей.
Та же ситуация и в начале XX века (с замечательным дополнением, что авторы “Вех” на примере Азефа и др. прямо описали в качестве одного из пороков передовой интеллигенции ее очень растяжимую моральную терпимость в отношении к “нашим” [13], предсказав тем самым будущую травлю самих себя как “не наших”). В то время, когда вся передовая интеллигенция напрягала все силы в неравной борьбе с силами реакции, “Вехи” выступили с неуместной и несвоевременной проповедью самоанализа и самокритики и подчеркнули факт морального саморазоблачения революционных сил. Партийно мыслящие люди справедливо восприняли выступление “Вех” как измену. “Справедливо”, потому что любые партийные цели относятся к социальным группам и только во вторую очередь — к отдельным людям. “Наши” — т.е. партийные труженики левых сил солидарно посчитали, что такое могли написать лишь враги, “не наши”. И поехал П. Н. Милюков с лекциями по России громить ренегатов и, конечно же, от имени “всей мыслящей России”, из которой он исключил Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка.
3. И, наконец, третья общая особенность названных эпизодов духовной жизни России — партийное мышление требует однообразия. Есть, например, примечательный момент, отличающий позиции преподобных Нила и Иосифа в отношении Писания и Предания: для Иосифа характерно признание абсолютного авторитета написанных текстов, для него мнение — “всем страстям мать”; Нил Сорский относится к написанному с разумной осторожностью и устанавливает своеобразную градацию авторитетности, ибо “писания многа, но не вся божественна суть”. В свой черед, духовная жизнь русской интеллигенции, подобно настроенности иосифлян, состоит в убежденном “прогрессивном единомыслии” [14].
Итак, в первой половине XVI и в начале XX веков в России победили идейные течения, отличительной чертой которых является четкое разделение общества на “наших” и “не наших”, чистых и нечистых, ориентация на единомыслие и, соответственно, на истребление общественного зла путем государственных реформ, а не путем личного подвига. (Я думаю, что не случайно эти победы по времени предшествуют в одном случае правлению Ивана Грозного, в другом — коммунистической диктатуре, но на прямой связи здесь настаивать, по крайней мере, опрометчиво) [15]. Для того чтобы убедиться, что сопоставление не случайно, попробуем выяснить метафизические предпосылки расхождений сторон. Еще три цитаты:
Занеже, государь, по подобию небесныа власти дал ти есть небесный царь скипетр земного царствиа силы да человекы научиши правду хранити... Якоже кормьчий бдит всегда, тако и царъски многоочиты твой умъ съдержит твердо добраго закона правило иссушаа крепко беззакония потокы, да корабль всемирныа жизни, сиречь всеблагаго царствиа твоего, не погрязнет волнами неправды.
Преподобный Иосиф Волоцкий
Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и ничто так не требует безусловной воли, как сердце же... Птица любит волю; страсть есть поэзия и цвет жизни, но что же в страстях, если у сердца не будет воли?..
В. Белинский
Только философский материализм Маркса указал пролетариату выход из духовного рабства, в котором прозябали доныне все угнетенные классы.
В. Ленин [16]
Эти высказывания по времени совпадают с приведенными выше. Первое, принадлежащее Иосифу Волоцкому, предписывает князю в качестве высшей цели научить подданного хранить верховную правду. И правда, опираясь на “правило доброго закона”, позволит иссушить потоки беззакония и неправды. Для Иосифа очевидна абсолютная ценность правды и как божественной истины, и как божественной справедливости [17]. И в этом у него со святым Нилом расхождения нет. Но Волоцкий игумен понимает, что в обществе, где царит произвол, никакая справедливость невозможна. Чтобы служить правде, князь должен служить закону. Интересно определение закона как “доброго”, потому что оно означает, что возможен и недобрый. Правда же не может быть доброй или нет, она — “правда” без всяких атрибутов.
Если в понимании правды Иосиф и Нил не отличаются друг от друга, то пути к ней они мыслят по-разному. Иосиф убежден, что спасение, личная реализация божественной правды возможно только через Церковь, опирающуюся, в свою очередь, на однозначную соборную интерпретацию Писания. Церковь же он понимает как жесткую и властную организацию [18]. Но церковь как организация может нормально функционировать только в обществе, где соблюдается закон (таким образом, сам Иосиф отстаивает идеал законности, и винить его в тиранствах Ивана IV можно не в большей степени, чем Франциска Ассизского в отступлении его последователей от идеала нищенствующего ордена). Больше того, он считает, что с древности церковные и гражданские законы слиты в одно неразрывное целое, и отделить их друг от друга невозможно [19].
Нил, разумеется, общественной роли Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви ни в коей мере не отрицает, но отношение к ней, как и к Писанию, у него более личное, оно опосредуется разумом инока, а не внешний законом [20]. К правде ведет разум — “Егда бы сотворите ми что, испытую прежде божественного писания: я яще не обрящу согласующа моему разуму в начинание дела — отлагаю то, дондеже обрящу”; “самая добрая и благолепная делания с рассуждением подобает творити. Вся действуемая мудрованием предварят: без мудрования бо и доброе на злобу бывает” [21]. Разум для Нила Сорского — это инструмент реализации свободы человека, тот инструмент, который отрицается Иосифом (“мнение — второе падение”). Причем, следует еще иметь в виду, что разум у Нила выступает как одно из качеств сердца. Сердце, душа управляет этим могущественным инструментом, реализуя через него свою свободу.
При схожем христианском понимании правды, при согласии в том, что отдельному человеку легко от правды отвернуться (для Иосифа это очевидно по всему духу его учения, Нил, в свою очередь, осуждает иноков, которые живут “по своим страстным волям”), эти святые отцы расходятся в понимании того, что может заставить человека жить по правде — Церковь или его собственная душа, сердце. Для хозяйственных иосифлян человек в конечном итоге — функция общественного механизма, для заволжских бессеребренников человек целостен, и общественный механизм в лучшем случае — способ реализации этой целостности. Целостность личности достигается только через свободу. Государство — это лишь фон для личного движения к спасению. Для иосифлян важен добрый закон, для заволжцев закон по большому счету безразличен. Чего боится Иосиф — это того, что свобода личности, не ограниченная законом, ведет к гибели государства, а следовательно, к гибели этой самой свободной личности. Личность, по Иосифу, несамодостаточна, она содержит источник собственного разрушения. И этот источник — свобода-вольность, ограничить которую можно только извне.
* * *
Белинский в приведенном высказывании утверждает идеал свободы-воли как абсолютный, совершенно в духе пушкинского “Затем что ветру и орлу, и сердцу девы нет закона”. Больше того, и поэт волен, и это значит, что он выше человеческого суда. За что же можно судить Гоголя, как это делает Белинский? Да еще и с такой страстью? Противоречие здесь очевидно. Оно вроде бы объясняется фактом разделения общества на “наших” и “не наших”. Белинский прекрасно понимает, что поэт выше любого разделения. Но, по-видимому, Белинский очень просто отвел бы обвинения в противоречивости, указав на то, что и поэт волен, и критик-гражданин тоже волен. В этом случае обвинения против Гоголя — это не суд над поэтом, а суд над гражданином. Но ведь это означает признание функционального расчленения человека и возможности по-разному относиться к нему в одно и то же время. Либо Гоголь принимается как целостное явление (и это требует соответственного отношения к его произведениям), либо мы препарируем его и отбираем только то, что нам нравится. В пределе это означает, что человек есть совокупность общественных отношений.
Для Гоголя же человек — существо цельное. Он сам свободно перестраивает себя через глубинное осознание своей греховности и, перестраивая себя, он на своем месте в обществе делает то, что он должен делать в соответствии с тем, как он понимает свои обязанности [22]. И общество, клеточки которого будут заполнены такими людьми, станет хорошим, независимо от всяких специальных реформ. Людьми, свободно подчинившими себя общественному долгу. Итак, в одном случае мы идем к пониманию сущности человека и его общественной роли извне, во втором — изнутри. В одном случае предполагается, что, перестроив общество, можно перестроить людей, во втором — что общество таково, каковы люди, и, лишь перестроив себя, люди перестроят общество. Стоит обратить внимание, что на взглядах иосифлян и интеллигентов лежит своеобразный налет представления о духовной несостоятельности человека (и это — при абсолютной вере в милосердие Бога у Иосифа и искреннейшей вере в изначальную доброту человеческой души — у интеллигентов). Здесь проявляется своеобразная диалектика. Гоголь знает, что но природе человек греховен, он не в силах самостоятельно победить в себе зло, ему нужна поддержка Бога. Тем не менее, он настаивает на том, что человек должен бороться со злом, и никто за него это зло не победит. Белинский же убежден, что человек по природе добр, но проявиться добру мешает преступная организация общества. Изменим отношения — и добро почти автоматически победит. Таким образом, естественная доброта души ставится в зависимость от социальных условий.
Коммунистическая (социалистическая) общественная система — это, в конечном счете, реализованная мечта о царстве свободы. А диктатурой она оказалась исключительно потому, что методы достижения цели явно или неявно основывались на предпосылке о вторичности человека в отношении общества. Авторы “Вех” исходили из идеи, что содержание общественных отношений определяется человеком и, соответственно, если люди плохи, то и общество хорошим не будет, пусть даже законы идеальны. Человек не цель, а средство партийной работы. И, отстаивая (против вредных “Вех”) идею необходимости партийной борьбы за переустройство общества на новых началах, П. Н. Милюков тем самым отстаивал право относиться к человеку как к средству, что, как известно, является покушением на самоценность и целостность личности.
Итак, первый круг рассуждений явился попыткой показать принципиальное сходство между иосифлянами, интеллигенцией середины XIX века и партийной интеллигенцией начала XX века. Второй круг — попыткой продемонстрировать, что за этим сходством лежит отношение к сущности человека. В отличие от Нила Сорского, Гоголя и авторов “Вех” в основание взглядов названных общественных групп входит идея права общества, по крайней мере, на часть человеческой личности (разумеется, во имя самой личности).
Но если это и описывает до определенной степени метафизические основания расхождения сторон, оно никак не объясняет страсти, с которой искоренялись противники, а именно это было главным вопросом статьи.
Больше того, можно отметить, что поборники целостности личности по своим взглядам гораздо больше отвечают национальному идеалу, чем их соперники.
В русском сознании, протягиваясь от языческих времен до формирования Московского самодержавного государства, сложился идеал правды-воли [23]. Он, по определению, складывается из двух взаимодополняющих понятий правды как высшей справедливости и высшей истины (истины сердца, в отличие от истины разума) и воли — абсолютной внутренней свободы. При всей своей привлекательности этот идеал парадоксальным образом заставляет общество духовно противостоять реальным законам государства (как конкретному выражению общественной справедливости) и жестко связанной с ними общественно-политической свободе (как выражению вольности). Государственные законы и обеспечиваемая ими свобода личности (подчиненной закону, а не произволу другой личности) в свете правды-воли оказываются чем-то несовершенным.
Но если мы действительно обнаруживаем большее соответствие национальному идеалу у Нила и др. [24], то ситуация становится даже более странной и заставляет обратить внимание еще на одну особенность русской истории: начиная с Московской Руси, русский национальный идеал вступает в жесточайшее противоречие с идеализацией государства. С одной стороны — устремленность к правде и воле, которые выше всего, которые являются основой глубинной внутренней свободы (заставлявшей западника Герцена с презрением относиться к мещанству и пошлости, окрашивающей западную жизнь), с другой — преклонение перед жесточайшей тиранией, выделение народным сознанием и воспевание в исторических песнях того же Ивана Грозного. Или так: с одной стороны, вольность души, с другой — государственный монстр, вытеснявший все более или менее самостоятельное. Можно вспомнить переселение в Сибирь при Столыпине, когда одних специальных вагонов построили столько, что потом хватило для бесперебойного обеспечения гулаговских строек и лесоповалов [25]. Ключевский выразил это в простой фразе: “Государство пухло, народ хирел”. С одной стороны — глубинная обращенность к Богу и внутренняя независимость, с другой — глубинная зависимость от духа времени и при этом утверждение вечных ценностей. Почему-то дух времени, по крайней мере с Петра Великого, навевал дымок немецкой и французской интеллектуальной кухни — немецкой диалектики и французского социализма.
Я думаю, что ключом к решению вопроса о трагическом несоответствии между проповедью греховности свободного человека и страшной общественной реакцией на эту проповедь может явиться только вопрос о власти. Именно он выходит на первый план, когда мы говорим о целостности человека. Властные отношения формируют общество. Законный порядок в обществе гарантируется только властью, которая спасает общество от анархии. Власть есть отношение, при котором одно существо, властвующее, по своему произволу распоряжается другим существом, тем самым осуществляя отчуждение чужого “я”, т.е. нарушая автономию чужой личности. Эта опасность власти осознается всеми, но противоядия предлагаются разные. В одном случае в виде закона, правовых норм, в другом — в виде ухода от властеотнощений. Оба противоядия предлагаются во имя спасения личности, но спасают по-разному. Закон, право подразумевают идеал безвластной организации, где подчинение безлично, а принятие закона безусловно [26]. Ограничивая произвол власти, право делает это за счет того же отчуждения “я”, что и власть. Разница в личности-безличности этого отчуждения. Эта разница в действительности огромна, но покушение на свободную волю личности сохраняется.
Второй способ решения проблемы — уход, предлагаемый Нилом. Это не противодействие власти, а индифферентность к ней. Но дело в том, что индифферентность в реальности означает исключение личности из властеотношений. Ведь истинная власть властна только пока она абсолютна. А абсолютность исключает свободу отношения. Если человек признает власть по своей воле, он сохраняет возможность ее непризнания. Но в этом случае слишком очевидна опасность анархии. Ни Нил, ни Гоголь, ни веховцы не выступают за анархию, но признать власть общества как абсолютную не могут, поскольку в этом случае человек лишается свободы и, соответственно, цельности. Остается одно: подвластный человек должен полюбить властвующего, а властвующий — подвластного. Эта идея, на первый взгляд, кажется странной, но в действительности, если мы хотим сохранить свободу личности, мы обязаны признать, что это — единственно возможное решение. Власть обеспечивает целостность общества. Любовь также обеспечивает эту целостность. Но власть при этом покушается на целостность личности, тогда как любовь нет. Власть заведомо иерархична, тогда как любовь предполагает отношения равные. Власть сама по себе не налагает никаких обязательств на властвующего, любовь налагает. Любовь исключает предполагаемое властью безусловное отчуждение “я”. Конечно, единство на основе любви не является по содержанию тем единством, которое возникает на основе власти, хотя бы внешне это выглядело одинаково. Когда подчинение строится на основе любви, возникают псевдовластные отношения, поскольку “я” подвластного и “я” властвующего не субординированы, как это происходит в истинновластных отношениях. Нил Сорский, например, считает, что его единство с учениками, его учительство строится на основе любви. Он пишет: “И аще кто любовию духовной прилепляется мне...” [27] Отсюда и представленная Гоголем идея, что монарх должен сделаться “одна любовь”, в то время как навстречу ему чиновники устремляют поток народной любви. Отсюда и славянофильский идеал монархии. Нельзя любить принцип. Закон можно уважать, но не любить. Право — это принцип, монарх — лицо. Право уважается, монарх может быть любим. Итак, парадоксальную логику этого направления можно представить так: для того чтобы не потерять себя как целостную личность, сохранить свободу воли, человек должен полюбить монарха и сделать эту любовь основой псевдо-властных отношений. В этом ключе и расшифровывается хомяковское определение самодержавия как государственности безгосударственного народа.
Иосиф и партийные интеллигенты понимали, что такой идеал не может служить основой государственного строительства. Для Иосифа неприемлемо государственное строительство на основе необязательных отношений, а отношения любви именно таковы.
В случае же с интеллигенцией ситуация еще интереснее: идея любви по крайней мере по двум причинам подрывает принцип существования ее самой. Интеллигенция в России сформировалась как социальная группа, жестко объединенная идеей негативного отношения к существующей государственной власти. Даже великие реформы 60-х годов принимались в штыки. Соответственно, полюбить существующую власть интеллигенция могла только в страшном сне. Идея любви связана с идеей свободы, вольности. Это Белинский понимает великолепно. Из этого следует, что положить любовь в основу общественных отношений — значит отказаться от идеала права. Принять идеал Гоголя — это подорвать основу своего существования как интеллигента — передового человека с благородным сердцем, перечеркнуть свою жизнь. И здесь ожесточение вполне понятно. Академическим разбором не ограничишься. С “Вехами” та же история. С точки зрения оппонентов, авторы “Вех” обсуждают то, что нельзя обсуждать. Во имя абсолютной личности авторы покусились на идею абсолютности власти. А признание свободы личности устраняет смысл существования людей, которые создают партии с целью изменения структуры государства ради того, чтобы личность стала свободной. Партийная интеллигенции во главе с П. Н. Милюковым отчаянно борется за выживание.
Теперь зададим вопрос: могла ли восторжествовать вторая сторона? Совершенно невозможно, хотя бы по той причине, что, исключив себя из властеотношений, Нил, Гоголь и веховцы тем самым поставили себя вне организаций, вне командной борьбы [28].
И последнее. Судя по словам Белинского, приведенным выше, он очень ценит волю, без которой сердце чахнет и гибнет. Искренен он здесь? Несомненно. Выступает ли он здесь как цельная личность? Разумеется, нет. Потому что делить Гоголя на две половинки он мог только по аналогии с самим собой: искренне требуя воли для себя, осознавая, что без нее он как личность неполноценен, Белинский-личность интеллигентно, добровольно, абсолютно искренне и со всей присущей ему страстью приносит свою волю в жертву себе-гражданину. Он боится, что личность откажется быть гражданкой, и надевает на нее мундир. С оговоркой, что снимет его в будущем царстве свободы. Но это царство несколько позже с полным уважением к великому критику стали строить большевики, и мундир ему пришлось бы снять, независимо от того, что это было бы против его воли, от которой он сам отказался.
Мельбурн, Австралия
(Australian Slavonic and East European Studies)
Церковь и время, № 2 (15) 2001
[1] По этому поводу очень определенно высказался А. В. Карташев, указавший на необъективность оценок историков, в первую очередь светских не в пользу Иосифа (см.: А. В. Карташев. Очерки по истории русской Церкви. М., 1993. Т. 1. С. 396), особенно в интеллигентской среде второй половины XIX в. А. В. Первушин резко, несправедливо и антиисторично критикует Карташева в статье “Размышления о Ниле Сорском” (Вестник Русского христианского движения, № 128, 1979. С. 1—11), но никак не опровергает тезиса о каноничности позиций как Нила, так и Иосифа.
[2] Г. П. Федотов. Трагедия древнерусской святости: Россия, Европа и мы. Париж, 1973. С. 103. Несколько иначе картина представлена у Карташева, который говорит о том, что “идеологическая школа "нестяжательского" меньшинства уснула”, а защищали ее позже люди для русского монашества случайные, вроде Вассиана и Максима Грека. Независимо от оценок характера противостояния двух идеологий, одно остается несомненным: если в конце XV — начале XVI в. были два каноничных и необходимых для нормального развития Церкви духовных течения, то к середине — концу XVI в, одно практически исчезает.
[3] По Гоголю, монарх должен “сделаться весь одна любовь”, и его “полномощная власть” должна быть выше закона, должна смягчать закон. В свою очередь, снизу вверх устремляется другой поток любви, которая “должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремленье к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь самому Богу” (Н.В. Гоголь. Полн. собр. соч. Изд-во АН СССР. Т. 8. С. 255, 366).
[4] М. О. Гершензон, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. С. Изгоев, Б. А Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк.
[5] Косвенным подтверждением правомерности такого сопоставления может служить выражение С. Франка: “Всероссийский духовный монастырь, который образует русская интеллигенция” (“Этика нигилизма”. Соч. М., 1990. С. 105). Кроме того важно отметить, что, по объяснимому недоразумению, интеллигенция связывала свои симпатии с Нилом, а не с Иосифом, тогда как последний представлялся в качестве раболепного слуги самодержавия и т.п.
[6] Слово “интеллигенция” употребляется здесь не в самом общем смысле — “образованная часть общества”, а в историко-социологическом — для обозначения специфической общественной группы, сформировавшейся в середине XIX в. и доминировавшей в духовной жизни России. Ни Чаадаев, ни Достоевский, ни Вл. Соловьев, ни Лев Толстой не являются в этом смысле “интеллигентами”, поскольку были слишком самостоятельны, чтобы играть по законам группы. А вот Белинский, Писарев, Чернышевский — истинные интеллигенты.
[7] Возражая Пушкину на его “О, люди! Все похожи вы на прародительницу Еву…”, Белинский читает ему мораль: “Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и убеждены, что человек родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе” (Избр. статьи. М., 1978. С. 162).
[8] Перевод: “Где они, говорящие, что нельзя осуждать ни еретика, ни вероотступника. Ведь очевидно, что следует не только осуждать, но предавать жестоким казням...” (Цит. по: Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого. В: Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI в. М., 1984. Подготовка текста “Слова” и комментарии Я. С. Лурье, перевод А. А. Алексеева. С. 334, пер. С. 335).
[9] Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков. В: Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984. Подготовка текста и комментарии Н А. Казаковой. С. 358.
[10] Стоит вспомнить, что в одной из ранних статей Белинский написал: “Если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры”. Но, очевидно, по Белинскому, “поэт” должен быть передовым и прогрессивным, в противном случае судить его можно и должно.
[11] У Белинского, например, это сквозит в таких строчках: “Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и не литературные — Чичиковы, Ноздревы, городничие... и литературные, которых имена вам хорошо известны”. (Цит. по: В. Белинский. Письма. СПб., 1914. Т. III. С. 230).
[12] В очерке Горького о Ленине, написанном к пятидесятилетию вождя и не имеющем ничего общего с позднейшим известным очерком “Ленин”, подчеркивается, что Ленин мыслил массами, партиями и государствами и отдельные люди для него просто не существовали: “Ленин — это гильотина, которая мыслит”.
[13] Я имею в виду, к примеру, что Азефу, руководителю эссеровских боевиков, который, как выяснилось, был одновременно сотрудником охранного отделения, за его “нашесть” долго прощался известный факт воровства, а припомнили это ему, когда стало известно, что он работал на “не наших”. (статья Изгоева в “Вехах”).
[14] Конечно, интеллигенция много спорит и обсуждает, но в то же время есть ряд положений, которые вне критики и обсуждения, они — духовная основа группового сознания. Во-первых, это, конечно, заведомо негативное отношение к существующей власти. Во-вторых — к Православию. В-третьих, добросовестное следование модным западным учениям, начиная от дарвинизма и кончая марксизмом.
[15] На то, что разгром заволжцев связан с духовной и политической диктатурой, намекает в упомянутой выше статье Первушин, не разрабатывая этого тезиса подробнее.
[16] Ключом к этому высказыванию Ленина, самому по себе не слишком оригинальному, служит известная идея о том, что социализм есть переход из царства необходимости в царство свободы.
[17] Деятельность Иосифа находит прямую аналогию в деятельности великого реформатора католической церкви Григория VII. В. С. Соловьев в рецензии на книгу кн. Евгения Трубецкого “Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. — Идея Божественного царства в творениях Григория VII и публицистов его современников” (Киев, 1897) пишет: “Чем же, однако объяснить в таком случае неустанную и необъятную деятельность Григория VII на пользу всего христианского мира? Он сам дает объяснение в тех библейских словах, в которых он перед смертью выразил смысл своей жизни "Я возлюбил правду и возненавидел беззаконие, сего ради умираю в изгнании". Он действовал не для осуществления какого-нибудь идеала, а потому, что возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Dilexi justitiam et odi iniquitatem — вот достаточный мотив для деятельности такого человека. Правда не теряет своей силы и накануне Страшного суда, когда ни о каком здешнем идеале не может быть и речи”.
[18] Я меньше всего склонен считать иосифлянство в целом чем-то отрицательным, несмотря на негативные явления, с ним связанные. Оно сыграло огромную положительную роль в становлении Русской Церкви как мощной духовной опоры нового самодержавного государства и упорядоченного семейного быта. А. Кизеветтер убедительно показывает, например, что такой важный памятник, как “Домострой”, есть выражение семейного идеала, как он понимался иосифлянской партией (“Исторические очерки”. М., 1912).
[19] “Аще убо святей отцы... от святагаго и животворящаго духа наставляеми, и учиниша божественная правила и законы... со всеми же сими и градстяа законы сочеташа…” (Слово об осуждении еретиков. С. 334).
[20] Архангельский по этому поводу трогательно замечает: “Что касается до отношения сочинений нашего писателя |Нила Сорского] к окружающему их живому миру, то отношение это вообще довольно слабое” (А. С. Архангельский. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев... СПб., 1882. С. 135). Иначе говоря, оно непрактическое, и, следовательно, ни о каких законах, ни о каком государственном праве Нил не печется.
[21] Разум только тогда полномочен и дает основание для свободы, когда Он направляется к высшему. Вассиан Патрикеев, осуждая иосифлян, пишет: “Мудрования бо их не Божиим Духом водятся, но в тине земных вещей валающеся” (Н.А. Казакова. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.—Л, I960. С. 255).
[22] Это особенно хорошо видно на примере письма “Что такое губернаторша” из “Выбранных мест”.
[23] Подробный анализ этого идеала дается в моей статье “Не в силе Бог, а в правде: метафизические предпосылки русского национального самосознания — правда-воля” (Australian Slavonic and East European Studies, v, 10, №2, 1996. P. 73—105).
[24] Хотя на словах, как это видно из приведенной цитаты Белинского, идеал воли разделялся им совершенно.
[25] Я меньше всего хочу здесь критиковать столыпинские реформы, важен сам факт убежденности государства в необходимости переселения крестьян с богатейших в мире черноземов (кстати, большая часть переселенцев вернулась в родные места в течение первых трех лет).
[26] Диалектику власти и права великолепно представил Б. П. Вышеславцев в главе “Смысл и ценность демократии” (Кризис индустриальной культуры, Chaildze Publications. New York, 1982).
[27] Цит по: Архангельский. Назв. соч. С. 134.
[28] Вассиан Патрикеев как бывший политик внес, конечно до известной степени, дух командной борьбы, но и он в первую очередь опирается только на положительное отношение к себе князя, и как только это отношение меняется, Вассиан погибает.
Православная беседа >> Библиотека >> Донских О.А. 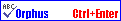
На правах рекламы: