|
|
Путь моей жизни
Глава 5.
В миру
(1892-1894)Выпускные экзамены окончились в июне, затем последовало представление в Петербурге (в Учебный комитет при Святейшем Синоде) списков кандидатов и - томительное ожидание вакансий. Многих из нас тревожила мысль: скоро ли найдется подходящая вакансия? Протекция имела большое значение, но у меня никакой протекции не было. А чем жить до поступления на службу? Неужели бедному отцу сесть на шею? Я уехал в Тулу и решил найти урок.
Мне помог знакомый учитель - указал, что в семье товарища прокурора Сергея Алексеевича Лопухина есть место живущего учителя. Я должность эту и принял.
Семья Лопухиных была дворянская, родовитая, богатая, культурная семья либерального уклона типа "Вестника Европы" или "Русской Мысли". Круг знакомств и родственных связей был сановный, но в доме бывала и интеллигенция. Жили Лопухины широко, по-барски, жизнью привольной и беспечальной. Семья была большая (10 человек детей), крепкая, с устоями - прекрасная семья. Дети учились дома. Гувернеры, гувернантки, учителя, учительницы... - целое учебное заведение. С утра во всех комнатах шли уроки.
Я преподавал старшим детям Закон Божий, географию и историю, с младшими готовил вечером уроки, гулял, читал им вслух (помню, мы вместе читали "Каштанку"), укладывал их спать. Мои обязанности я исполнял с увлечением, с желанием быть добросовестным. Дети ко мне привязались. Мы стали приятелями. О судьбе моих учеников мне известно, что Рафаил, доблестный мальчик, был убит на войне, а Мишу поймали большевики. "Дайте нам слово, что вы не будете против нас, и мы вас выпустим", - сказали они. - "Не могу..." И Мишу расстреляли...
У Лопухиных меня любили, к семье я прижился. Житейски мне было у них очень хорошо. С детьми не трудно, а к жизни взрослых я присматривался не без интереса.
За столом велись оживленные беседы. Обсуждались текущие вопросы русской общественной и политической жизни, но уделяли внимание и европейским политическим событиям, о которых были хорошо осведомлены, - так, например, следили за борьбой политических партий во французском парламенте по французской газете, которую получали. В семье Лопухиных мне довелось встретить Л.Н.Толстого, его друга Николая Васильевича Давыдова, князя Георгия Евгеньевича Львова и Михаила Александровича Стаховича... Как-то раз Толстой со Стаховичем пришли из Москвы в Тулу пешком в лаптях и наследили лаптями на коврах; лакеи потом ворчали: "Дурят господа..."
С.А.Лопухин был человек прекрасной души, но немного ленивый. Любил играть со мной в игру, которая называлась "хальма", и так ею увлекался, что способен был забыть о каком-нибудь нужном деле.
Пребывание у Лопухиных, несомненно, дало мне некоторое общественное развитие, равно как и расширило круг моего познания русского общества. Я попал в новый, неведомый мне мир. Богатство, комфорт, самоублажение, культ земного благополучия... Духовное мое воспитание определяло угол зрения, под которым все окружающее я рассматривал. Меня удивляло, когда какое-нибудь подгорелое блюдо могло быть событием, о котором говорят; что внешнее благоустройство - предмет культа; что к практике церковного благочестия относятся как-то вольно и с соблюдением привычного комфорта: накануне больших праздников устраивали всенощные у себя в доме, чтобы не затруднять себя поездкой в церковь... Помню, как удивило меня, когда С.А.Лопухин и гувернантка-француженка, постояв 5 минут на заутрени, ушли (голова закружилась), а когда мы вернулись, они уже разговелись. Церковь не отвергалась, но в обиходе жизни занимала очень скромное, незаметное место.
Как на барских "хлебах" после академических "харчей" мне приятно ни было, но душа тревожилась, чуя в новых условиях жизни опасность - незаметно растерять все духовные стремления, обмирщиться, стать любителем бифштексов, уклониться от намеченного пути... Удобная, благополучная жизнь, культ земного я воспринял, как искушение: стал бояться, что окружающее довольство меня засосет и я пропаду. О своих опасениях я писал архимандриту Антонию.
Долгожданное извещение о назначении в г.Ефремов на должность помощника смотрителя духовного училища я принял с большой радостью. Лопухины удерживали меня, уговаривали остаться в Туле, обещая использовать связи и устроить меня либо в суде, либо в гимназии преподавателем литературы. Я с благодарностью их предложение отклонил и стал собираться в Ефремов: заказал вицмундир с серебряными пуговицами, приобрел фуражку с кокардой... Лопухинские мальчики, увидав на мне впервые этот наряд, приветствовали меня веселым "ура!".
Я расстался с Лопухиными в самых добрых отношениях и впоследствии приезжал к ним в деревню навещать моих маленьких приятелей, мы вместе гуляли, ловили рыбу... Лопухина, когда я уезжал, старалась рассеять мои опасения, что я, быть может, не сумею справиться со школьной детворой: "Справитесь, видите, как мои вас полюбили..."
У Лопухиных я пробыл 6 месяцев: с октября 1892 по март 1893 года.
Пребывание в Ефремовском духовном училище в должности помощника смотрителя - содержательный период в моей жизни. Это было время напряженной борьбы двух начал, двух стремлений в моей душе: к Богу и к миру. Моя мысль о том, что, прежде чем стать монахом, надо посмотреть мир, получила решительное опровержение. Я опытно пришел к убеждению, что молодым людям, призванным к монашеству, надо постригаться, в мир не уходя, а по окончании образования.
Первое время по вступлении в должность (12 марта 1893г.) я был вполне удовлетворен своей судьбой и упивался новой ролью. Для меня началось вполне самостоятельное существование: ответственная педагогическая работа; сознание, что принадлежу благодаря академическому образованию к тому составу воспитателей, на который тогда возлагали надежды как на культурную силу, которая может обновить "бурсу"; досуги, которыми я мог располагать безотчетно; наконец - своя комната! Это обстоятельство, хоть оно и кажется незначительным, имело для меня большое значение и меня очень радовало. Правда, радость была эгоистического порядка, а психологически она все же понятная. Я жил из года в год на казенном содержании, в общежитии, без своего угла, в казарменной обстановке, - и это было тяжко. В Академии в комнате нас проживало 8-12 человек; в ней всегда был базар: все на глазах, постоянно на людях, письма спокойно не написать... Теперь у меня был свой угол.
Совсем новая область переживаний открылась мне в общении с детьми. Пребывание у Лопухиных было лишь кратким к этому приуготовлением.
Курс духовного училища был пятилетний (4 класса и приготовительный). Дети поступали - крошки, 9-летние мальчики. Их привозили из теплого семейного гнезда - в казарму. Какую бурю они, бедные, переживали! Их распределяли по койкам (в одном дортуаре человек по сорок). Иной малыш и с хозяйством-то своим - с бельем, тетрадками, книжками - не умеет управляться и спать не умеет, не чувствуя под боком стенки, и среди ночи вываливается с криком: "Мама!"... Старшие ученики проходу ему потом не дают: "Девчонка! Девчонка!" Где же такому малышу дать отпор насмешке! Приезжали они нежные, сентиментальные, доверчивые - и переживали, каждый по-своему, настоящую драму. Смятение их испуганных детских сердец я понимал, и мне хотелось их приласкать.
Не забыть мне одного мальчика - Колю Михайловского, умного, нежного, ласкового. Через две недели по поступлении он ночью пропал, хотя в дортуаре спало с детьми два надзирателя. Я испугался. Что случилось? Устройство уборных было примитивно - не в яму ли провалился? А потом другая мысль: не домой ли, в село за 35 верст, убежал? Я нанял верхового и послал его вдогонку - не настигнет ли он мальчика с книжками... (Мальчуган предусмотрительно захватил с собой новые сапоги и книжки.) Верховой его настиг в 5-6 верстах от города, но, чтобы заработать прогонные за 35 верст, проскакал мимо и оповестил родителей. Мать была в ужасе, отец-священник запряг лошадь и помчался сынишке навстречу: встретил его уже на 15-й версте. Объяснил мальчик свой побег просто: "Там нехорошо, обратно не хочу, а все новое я взял с собой..." Из расспросов выяснилось, что он шел голодный, но дорогой какая-то старушка помогла ему и, узнав, что он убежал из школы и пробирается домой, его поощрила и попоила молочком...
Никакие уговоры домашних вернуться в школу, ни устрашение навсегда остаться пастухом... - ничего не помогло. В ответ - слезы, рев, истерика... В конце концов все же отец его привез и сдал мне. Мои увещания оказались тоже бессильными. "У вас скверно, дома лучше..." - твердил мальчик. Стоило отцу встать, он вцеплялся в его рясу - и опять рев, истерика... Так длилось целый день. К вечеру он обессилел и заснул на моей койке. Наутро проснулся, огляделся... побледнел - и молчит. В тот день надо было вести детей в соседнюю церковь к обедне. "Пойдем, Коля, в церковь", - сказал я. "Пойдем..." - покорно проговорил он. Я поставил его на дворе в ряды, и мы пошли в церковь. В дальнейшем понемногу обошлось.
Смотритель училища был старик чуть ли не николаевских времен. Больной, мрачный, без улыбки, мундир на все пуговицы застегнут... Он стоял во главе всего учебно-воспитательного дела. Дети его боялись и, бывало, при нем как мыши. Преподавал он катехизис. Что-нибудь ученик не так ответит, смотритель мрачно: "Скажи отцу, чтобы он тебя на осине повесил. Так скажешь отцу?" Малыш глотает слезы: "Скажу..." Или постучит по столу: "Вот твой родной брат!" Неприветливый тон главного начальствующего лица создавал в училище тягостную атмосферу.
Учителя тоже не находили с детьми контакта.
Учитель русского языка Дмитрий Иванович Прозоровский, аскет, маньяк, спирит, немного философ, был предметом их детских шуток и шаловливых насмешек.
По обязанности библиотекаря он выдавал книги. Положит шляпу, палку и записывает выданные книги. Дети его вещи спрячут. Он их хватится, а они кричат: "Дмитрий Иванович, это духи унесли!" - "Духи такими глупостями не занимаются", - поясняет он.
Подшучивали они и над его зябкостью (его всегда лихорадило). Если термометр в классе показывал 10-12 градусов, он начинал урок, шубы не снимая. В классе тепло, а дети натрут термометр снегом и ждут: что будет? Дмитрий Иванович обливается потом, а затем, видя, что ртуть поднимается, начинает разоблачаться. Дети к нему гурьбой: снимают с него шубу и тащат ее на окно, забавляясь, ерошат ее мех. А потом от Дмитрия Ивановича донесение: "Такой-то ученик щипал мою доху..."
Его мелочность, придирчивость, маниакальная точность в пустяках походили на анекдот. Купленная им доха показалась ему недостаточно теплой, - он подал в суд на купца, что ему продали "негреющую шубу". Кто-то посоветовал ему обмотаться куском фланели (он страдал катаром желудка), - он пришел на экзамен, намотав на себя целый многоаршинный фланелевый кусок. Стоило в церкви сторожу снять огарок его свечки - он бежал за ним через всю церковь: "Где моя свечка? Поставить обратно!" Хозяйке-мещанке он выговаривал: "Почему картофель пахнет пяткой?" Хозяйка объясняла: "Извините, когда готовила, почесала пятку..." Удовлетворенный объяснением, он принимался за картофель.
Когда ко мне приехал погостить товарищ, приват-доцент Московской Академии Тихомиров, Дмитрий Иванович стал безо всяких оснований подозревать, что тот стремится занять его место. Рапорты он подавал по самому ничтожному поводу: "Такой-то ученик ерзал по полу... такой-то кричал: 4, 4, 4!.." Если ответа на рапорт не следовало, он докучал запросами: "Какое последствие имело мое донесение? Какое наказание?"
В младших классах преподавал молодой семинарист, способный, образованный, мой товарищ по семинарии, настоящий Диоген: нечищеный, неприглядный, грязный - сапоги о ваксе забыли... Он безжалостно допекал детей единицами. (Скоро ушел в университет и был математиком.)
Учитель арифметики Дмитрий Матвеевич Волкобой, академик, щеголь, любитель клубной картежной игры, к ученикам относился пренебрежительно.
Был еще латинист. Обхождение его с детьми было неровное: то - "Детки, детки...", то вдруг: "Ну и сукины же вы дети!"
Суровая школа была. Скромной детской радостью были только прогулки и гимнастика.
Я старался хоть чем-нибудь скрасить детям их пребывание в училище, войти в их положение, отдавался им всей душой. Когда вспыхнула скарлатина (она была в тяжелой форме и скосила многих), я постоянно навещал их в больнице, забросил свою личную жизнь совершенно. Отношения у нас были прекрасные. Смотритель нередко упрекал меня, что я "нарушаю дисциплину". Может быть, я ее иногда и нарушал... Смотритель в наказание оставлял учеников на неделю без обеда; все - за столом, а провинившийся - у стенки: стоит, плачет, слюнки у него текут... Товарищи ему откладывали от своих порций и потихоньку подкармливали. Я смотрел на это сквозь пальцы, а про себя думал: "Молодцы! Доброе в них товарищеское чувство..." Дети ко мне привязались, а родители приходили благодарить.
Помню такой случай. Вдова псаломщика, выражая мне благодарность, неожиданно извлекла из-под полы своего черного салопа лукошко с яйцами. Я растерялся, кровь хлынула к лицу... "Что вы делаете! Вы обижаете!.." Теперь бы я иначе отнесся к ее подарку, а тогда возмутился. Молодость чего-то не понимает. Бедная вдова ушла обиженная.
О монашестве о ту пору я забыл, но мысль о нем все же иногда просыпалась. Вне службы я ходил в гости, на вечера, играл в карты, вел жизнь рассеянную, безотчетную. Мне казалось, что я живу, как надо, но бывали минуты, когда сжималось сердце... Так вот к чему свелась моя мысль о пребывании до пострига в миру! К обывательщине... Тогда я шел к детям. Пойду, бывало, к ним, посижу с ними, рассказываю что-нибудь из истории или на религиозные темы. Дети, наши чудные отношения, были в то время моим верным утешением. Забыть о монашестве начисто я все же не мог. Весной меня потянуло на богомолье к святому Тихону Задонскому.
Отправились мы вдвоем - мой приятель, студент Речкин, и я. Доехали поездом до Ельца, а оттуда 40 верст пешком. Шли весенней ночью, на заре завернули передохнуть в какую-то избу; здесь нам дали молока; в избе роились тучи мух - и хозяйка препроводила нас в погреб, но тут был такой пронизывающий холод, что мы выскочили и пошли дальше. Поспели в монастырь к вечерне. Собор... монастырское пение... мощи святителя... Что-то дорогое, заветное воскресло в душе. И тут же укор совести: я - изменник, предатель... (потом я еще несколько раз сюда ездил).
По возвращении из Задонска жизнь, однако, потекла по-старому. У меня было много знакомых. Семьи священников в уезде полюбили меня и приглашали в гости. У некоторых были дочери-девицы. Снова вставал вопрос: не жениться ли? Но он уже был неотделим от чувства неловкости, греха и измены... Семья профессора Кудрявцева оказалась в уезде. Отец его был прекрасный, идеальный сельский священник, но не допускавший мысли, чтобы кто-нибудь из его сыновей последовал его примеру и принял священство, так тяжела была в его сознании доля священника. Я возобновил знакомство и несколько раз ездил к ним. Повеселишься, бывало, развлечешься, а домой вернешься - и опять разлад, раздвоение, сознание, что погрязаю в провинциальном болоте все глубже и глубже... Удивительно, что даже во время одного из моих паломничеств в Задонск одна женщина едва не увлекла меня в свои сети, но Господь меня хранил среди всех искушений и козней диавольских...
Так длилось с марта 1893 по октябрь 1894 года. В ту осень, в год смерти Александра III, пришло в училище письмо от местного архиерея: в Тульскую семинарию требуется преподаватель греческого языка при условии, чтобы он был монах. Смотритель принес письмо в учительскую, мы должны были расписаться, что его прочли.
Я прочел письмо - и стрела пронзила мне сердце... Письмо - для меня! Это - зов... Бог меня не забыл, хотя я закопал уже глубоко мысль о монашестве. Божий глас! Довольно глупостей! Колебания бесчестны... С Богом шутить нельзя... Я был потрясен, был сам не свой. Моя жизнь представилась мне в столь неприглядном виде, что показались пошлыми даже вицмундир и фуражка с кокардой. Не сказав никому ни слова, я написал архиерею ответ о своем согласии на его предложение и 21 сентября, в день святого Дмитрия Ростовского, опустил его в почтовый ящик.
Проходит месяц, второй... - никакого ответа. Я недоумевал. Значит, я ошибся, зова Божьего не было. Я-то готов, а Господь не хочет... В душе был даже доволен: монашество миновало...
Но оно не миновало, а бумага моя пролежала долго без движения - и вот почему так случилось.
Епископ Ириней замешкался с моим представлением, а тем временем из Петербурга прислали иеромонаха Викторина. 4 декабря, на святую Варвару, епископ должен был служить, в сослужение ему вписали и иеромонаха Викторина. Утром все духовенство в сборе, а о.Викторина нет. За ним послали. Келья его оказалась пустой. На столе лежала записка: "Я ухожу, прошу меня не искать". Общее смятение. Сразу у всех возникло предположение: о.Викторин покончил с собой. Вызвали полицию, бросились к прорубям, но все поиски были тщетны... Оказалось, что бедный иеромонах Викторин самовольно покинул Тулу и уехал к своему брату, сельскому священнику Владимирской губернии. Причина его исчезновения была та, что он давно мучился тоскою одиночества, а открыться архиерею побоялся. Епископ Ириней был человек суховатый, несколько формальный, киевской академической традиции, так сказать, "могилянской складки". У брата своего о.Викторин тоже сочувствия не нашел, брат испугался, укорял его в непослушании церковному начальству и потребовал, чтобы о.Викторин немедленно у епископа просил прощенья. Викторин письменно принес повинную, но ответ был строг, неумолим: "Не трудитесь возвращаться, я вас не приму".
Тут и дали ход моему прошению.
Указ о моем назначении в Тульскую семинарию пришел в декабре. Все были изумлены, выражали сожаленье. Прощание было трогательно. Подношения, речи... Ученики - каждый класс отдельно - поднесли мне иконы. Расставаться было тяжело. Плакали и я, и дети...
Перед праздником Рождества я покинул Ефремов и направился в Тулу. Дорогой заехал в родителям. Отец принял известие молча, но после моего отъезда плакал. Мать верила, что Господь руководит моей судьбой по молитвам старца о.Амвросия, и отпускала меня в монашество, точно провожала в некий светлый край...
Я приехал в Тулу на второй день праздника и явился к архиерею. Начиналась новая глава моей еще молодой жизни: мне шел 27-й год.
Православная беседа >> Библиотека >> Евлогий (Георгиевский), митр. 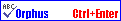
На правах рекламы: