|
|
Путь моей жизни
Глава 7.
Преподаватель семинарии
(1895)В большом волнении шел я по Никитской улице от архиерейского дома к семинарии, направляясь впервые на службу... Я возвращался монахом, преподавателем греческого языка, в ту самую семинарию, где протекли годы моего отрочества и ранней юности. Ректор и учителя были прежние, только учитель греческого языка, тот самый, который пострадал от жестокой шутки учеников и упал со стула, занял место инспектора.
Меня тревожила неизвестность. Как примет меня учительская корпорация? Как встретят ученики? Как в клобуке и в рясе я войду в класс?
Учителя отнеслись ко мне с легкой иронией, я сразу почувствовал средостение. Правда, в учительской все меня поздравляли, но когда я обмолвился, что с монашеской одеждой еще не освоился и клобук тянет назад, - один из преподавателей усмехнулся: "Ну, потом потянет вперед..." Я понял, что мои сотоварищи видят в моем монашестве лишь путь для карьеры, а себя считают обреченными на пребывание в рядах незаметных преподавателей. Однако открытой враждебности я не почувствовал. Инспектор (бывший преподаватель греческого языка) любезно показал и объяснил мне все, что было нужно, и тем самым помог мне освоиться с новым положением.
Семинаристы ожидали моего появления с нетерпением. Одни присутствовали на моем постриге; другие - о нем слышали; многих просто интересовало посмотреть на нового учителя.
С первого же урока ученики взяли меня "под обстрел" - задавали вопросы, которые, по их убеждению, должны были привести меня в замешательство. Я сразу понял, что они меня экзаменуют. У меня не было той меры самолюбия, когда человек считает себя непогрешимым, и потому, когда мне было трудно ответить сразу на какой-нибудь вопрос, я, не смущаясь, спокойно отвечал, что справлюсь в пособии. Увидав, что я не теряюсь и не робею, ученики скоро "экзамен" прекратили. Готовили они уроки плохо, часто манкировали, и вообще мой монашеский сан вселял в них, кажется, уверенность, что у меня можно учиться спустя рукава, потому что требовательным и строгим монах быть не может.
К своим обязанностям я относился добросовестно. Вне семинарии (я жил по-прежнему в архиерейском доме) я замыкался в своей келье и усердно готовился к урокам. Изредка меня навещал мой духовник о.Иларион. Он приносил мне аскетические книги, поучал монашеству, рассказывая что-нибудь из прошлого епархии или из жизни архиерейского дома. Мы пили чай и в беседах приятно проводили время. Однако досуга у меня оставалось очень мало: я был занят с утра до ночи. Преподавание, подготовка уроков, чтение... Но этим мои занятия не исчерпывались.
Архиерей дал мне работу для "Епархиальных Ведомостей", поручив мне библиографической отдел. Епископ Ириней был любознателен и выписывал все новые издания из местного склада Пантелеева. Свои отзывы я докладывал епископу Иринею либо устно, либо представлял в письменной форме, и тогда он, исправив мою рукопись, отсылал ее в редакцию. Впоследствии он стал мне поручать и журналы епархиальных духовных училищ. Я должен был давать свое заключение по поводу постановлений педагогических правлений. Иногда преосвященный Ириней моей работой пользовался, а иногда написанное рвал.
Часто я служил в архиерейской церкви и нередко сослужил архиерею в городском соборе. Мне было еще поручено по воскресеньям служить вечерню, а потом вести "беседу" в часовне святителя Николая при маленьком монастыре (там было лишь 3-4 монаха). Если мне случалось говорить проповедь, я по требованию епископа Иринея предварительно ее писал.
Работы у меня было столько, что я иногда ложился спать в 2 часа ночи. Но это было хорошо: у меня не оставалось времени ни для мечтаний, ни для воспоминаний.
Епископ Ириней зорко наблюдал за мной. О доброй и мудрой его попечительности я вспоминаю с глубокой благодарностью. Постучится, бывало, ко мне его келейник: "Владыка вас зовет..." Преосвященный Ириней приглашал меня к чаю, а то и просто так посидеть, побеседовать.
На дворе весна... окна открыты... тихий теплый вечер... из Кремлевского сада доносится музыка... - а я сижу у архиерея, и у нас идет серьезная, наставительная беседа, подчас экзаменационного характера.
Помню первую Пасху в монашестве. Я знал "мирскую" Пасху: визиты, гости, встречи, праздничное веселье... Теперь я себя почувствовал отрезанным ломтем. В первый день праздника я был приглашен одним преподавателем, женатым человеком (он был моим совоспитанником по Московской Духовной Академии), - провести у него вечер. Приглашение я охотно принял. Не успел я выйти за ворота, как меня из окна увидел преосвященный Ириней, и, дабы я узнал, что мое отсутствие замечено, велел вызвать меня из кельи. Когда я вернулся, мне сообщили, что архиерей за мною посылал. Дня через два последовало внушение.
- Я не знал, - недовольным тоном сказал архиерей, - что теперь иеромонахи вечером ходят по знакомым. В наше время они по гостям не ходили...
Я не очень оправдывался, я просто рассказал, где был. Замечание епископа Иринея принял к сведению, и, когда меня позвала к себе одна родственница (жена священника, которая сшила мне "власяницу"), я уже принять приглашение не решился. Добрый о.Иларион все же уговорил меня навестить ее и предложил пойти вместе с ним. Больше на праздниках я ни у кого не был.
Как-то раз на Святой, перед обедней, я заметил, что ризничий на меня таинственно посматривает. Потом выяснилось, что в тот день архиерей решил наградить меня набедренником. "Вот с учеными-то как, не то, что с нами... - добродушно вздыхал ризничий, - трубишь-трубишь, когда-то чего-нибудь дождешься..."
На Пасхальной неделе неожиданно последовало и приглашение к о.эконому - на трапезу. Оказалось, что епископ Ириней осведомился у него, как меня кормят, и дал распоряжение устроить угощенье, созвав всю монашескую братию архиерейского дома. Мы все собрались; разнообразие и изобилие вкусных яств нас удивило, и мы недоумевали, чем все это объяснить. О.эконом многозначительно поднял палец кверху (наверху были архиерейские покои) и сказал, обращаясь ко мне: "Все это из-за вас..."
После праздников жизнь вновь потекла в непрерывной работе. Меня она не только не пугала, но я был ей рад: она охраняла мой душевный мир. Я боялся праздников: было жутко, что на досуге пробудятся воспоминания... К счастью, прибой прежней жизни был слабый, хотя и бывали минуты, когда приходилось брать себя в руки.
Окна моей кельи выходили в архиерейский сад. По вечерам в городе гремела музыка. Под моими окнами бегала и резвилась молодежь - две юные дочери и сын архиерея, гостившие у отца. Звонкий смех, веселые возгласы, музыка в Кремлевском саду... - это немножко задевало. Я затворял окна, чтобы ничего не видеть и не слышать...
В мае в семинарии начались экзамены. Помню экзамен греческого языка в 3-м классе. Ассистентом у меня был инспектор (бывший преподаватель греческого языка). Ученики разбирали речи Демосфена. Вдруг открылась дверь - и вошел архиерей. Преподаватели боялись его как огня. Успехи или неудачи учеников отражались на их педагогической репутации. Я понял, что мне предстоит экзамен.
Преосвященный Ириней стал спрашивать учеников; отвечали они довольно слабо. Архиерей был недоволен, но свое неудовольствие высказал не мне, а обращаясь к инспектору: "Я не ставлю это на вид молодому преподавателю - он служит без году неделю, - но почему они так плохо у вас разбираются в грамматике? Как у вас поставлено преподавание!"
Когда после отъезда архиерея учителя собрались в учительской и стали обсуждать результаты экзаменационного дня, мне дали понять, что у моего предшественника никогда столь неудачного экзамена не бывало.
Помню еще экзамен в 5-м классе. Предметом его были "Отцы Церкви". Ассистентом моим оказался преподаватель, который когда-то читал нам "Практическое руководство по пастырству". Ученики не подготовились и отвечали плохо. Я наставил несколько двоек и тем самым обрек группу учеников на переэкзаменовки осенью. Когда я их спросил, почему они не подготовились, они сказали, что считали предмет "не важным". Двойки вызвали негодование и озлобление. "Так вот он какой!" - возмущались семинаристы и решили после каникул встретить меня "демонстрацией".
"Демонстрация" заключалась в следующем. У нас был очень длинный коридор, по обеим его сторонам были расположены классы. Когда приговоренный к "демонстрации" преподаватель шел по коридору, изо всех дверей раздавался пронзительный свист. Семинаристов было 500 человек, - где же дознаться, кто свистел? Одних преподавателей эти проявления враждебных настроений очень волновали, другие проходили по коридору улыбаясь и даже раскланиваясь и тем лишали "демонстрацию" ее смысла.
Педагогический опыт того года мне показал, что для пользы самих учеников я должен в будущем быть требовательней.
По окончании экзаменов все стали разъезжаться на каникулы, а я решил остаться в Туле. Ну, думаю, теперь на досуге займусь своим внутренним миром... Но меня неудержимо потянуло в родную Академию, к архимандриту Антонию, к старым профессорам, к товарищам, к их веселому, жизнерадостному монашеству... - и я попросил у архиерея позволения уехать туда.
Было еще одно важное обстоятельство, побуждавшее меня к этой поездке. Нашего ректора архимандрита Антония переводили на ту же должность в Казанскую Духовную Академию. Это невольное перемещение было результатом нерасположения к архимандриту Антонию нового Московского митрополита Сергия (Ляпидевского). Митрополит Сергий был человеком старой Филаретовской школы, с ее сухой и суровой дисциплиной, и, естественно, ему был не по душе новый дух в педагогике архимандрита Антония; невзлюбил он и нового "антониевского" монашества, которое он презрительно называл "антониевской сворой". После некоторых столкновений в официальных делах состоялось, по представлению митрополита Сергия, перемещение архимандрита Антония из Московской Духовной Академии в окраинную Казанскую, что было, конечно, его служебным понижением. Архимандрит Антоний принял этот перевод довольно спокойно, по крайней мере с внешней стороны. Мне хотелось повидать его, чтобы выразить ему сочувствие.
Он встретил меня со свойственным ему радушием и любовью.
Нас съехалось человек пять-шесть молодых монахов. Мы участвовали в прощальном богослужении нашего бывшего ректора, присутствовали на прощальном обеде, который давала ему академическая корпорация, говорили застольные речи. Наши профессора впервые увидали меня в монашеском одеянии; они любезно беседовали со мною, может быть, не без оттенка некоторой иронии по поводу моего неожиданного для них иночества. Вообще наше молодое академическое монашество не встречало сочувствия не только у наших профессоров, но и в других широких церковных кругах. Быстрое продвижение по службе молодых монахов, часто не по достоинству и не по их заслугам, всегда давало пищу к подозрению, что мы шли в монашество не по идейному побуждению, а ради карьеры (будущее архиерейство!). Доля правды в этом подозрении, несомненно, была: не следовало нас так быстро тащить по ступеням служебной иерархии. Я скоро на себе испытал большую трудность от такого быстрого возвышения.
Связанные единством церковного духа и идейного направления, встретившиеся после долгой разлуки под сенью любимой "alma mater", - мы, молодые монахи, наслаждались нашей взаимной братской близостью, мы делились впечатлениями, обсуждали интересующие нас вопросы; ездили в "Вифанию", катались на лодке на прудах... При этих условиях какой отрадой был для нас летний отдых! Тут подоспело событие, которое решило мою дальнейшую судьбу.
В Академию приехал ректор Петербургской семинарии архиепископ Иннокентий (Фигуровский), впоследствии начальник миссии в Пекине; у него возникли недоразумения с Петербургским митрополитом Палладием, и его назначили в Москву в Покровский монастырь. Он привез из столицы много всяких новостей, в числе их была одна, для меня очень важная.
- Какого-то иеромонаха Евлогия назначили инспектором Владимирской семинарии, - вскользь сказал не знавший меня ректор.
- Как - Евлогия? - удивились все присутствующие.
Известие было столь неожиданно и невероятно, что в него поверили лишь через два-три дня, когда о моем назначении было напечатано в газетах.
Оказалось, преосвященный Ириней по окончании учебного года отправил свое очень благоприятное для меня донесение о моей деятельности в Тульской семинарии, и вот в результате мне дали такое высокое и ответственное назначение.
Я вернулся в Тулу и стал ждать указа.
Православная беседа >> Библиотека >> Евлогий (Георгиевский), митр. 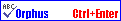
На правах рекламы: