|
|
Путь моей жизни
Глава 18.
Архиепископ Волынский
Опять на родине (1919)Мы возвращались на родину после Успения (1919 г.), пробыв в плену 9 месяцев. Эти месяцы прошли для нас, как годы. И вот мы подплываем к русским берегам, уже видим их очертания, уже вырисовываются дома Новороссийска...
На пристани нас встречает огромная толпа. Знакомые и незнакомые: много духовенства, военные, штатские... В толпе и графиня Игнатьева, - она издали веет нам платком.
Не успели мы сойти с парохода, нас обнимают, целуют, приветствуют - встречают как воскресших из мертвых. Оказалось, прошел слух, что мы расстреляны; он добежал до Москвы, до Патриарха, о нас служили панихиды.
Под ногами родная земля... Незабываемое, непередаваемое волнующее чувство родины! Если оно чисто и светло, если не изуродовано шовинизмом, оно одно из самых высоких человеческих чувств - продолжение или расширение той же любви, которая связывает навеки с отцом, с матерью, с семьей.
После радостной встречи на пристани нас привезли в какой-то дом, где нам была приготовлена трапеза. Опять кто-то встречал, приветствовал. Среди собравшихся был и городской голова Сенько-Поповский.
Митрополит Антоний и епископ Никодим остались в Новороссийске, а я решил не задерживаться и выехал в Екатеринодар к брату. Переезд был ужасный: грязь, вонь, клопы... Я ехал в 3-м классе. С братом, который занимал в Екатеринодаре должность члена Окружного суда, я уже давно потерял всякую связь и даже не знал его адреса, поэтому по прибытии в Екатеринодар я направился в архиерейский дом.
Во главе епархии стоял епископ Иоанн [99]. Прежде он был викарием Ставропольского архиепископа Агафодора; теперь Кубань была выделена в особую епархию и преосвященный Иоанн именовался епископом Кубанским и Екатеринодарским.
Владыку я не застал (он куда-то уехал). Архиерейский келейник, бравый казак-кубанец, весьма заботливо устроил мне ночлег, уложив в архиерейскую кровать. Наутро я расспросил о брате (местожительство его было известно), кто-то побежал оповестить его о моем приезде, - и наша встреча состоялась. В тот же день я переехал к брату. Он жил в хорошей квартире и отлично меня устроил.
Я узнал, что с братом стряслась беда. Екатеринодар в период гражданской войны переходил из рук в руки: то красные завладевали городом, то - белые. В первый свой приход большевики потребовали, чтобы Окружной суд свою деятельность продолжал, но ведать делами должны были только два представителя судейской корпорации, остальные увольнялись. Корпорация собралась, бросили жребий - и моему брату (и еще одному члену суда) выпало на долю вершить делами Окружного суда при большевиках. Когда пришли белые, брата притянули к ответу: на каком основании он работал во время оккупации города красными? Военный суд отрешил его от должности; впоследствии уладилось, но тень на него все же была наброшена.
У брата я гостил, отдыхая от всего пережитого. Читал беллетристику: Андреева, Куприна... гулял по Екатеринодару. Какой богатейший край - Кубань! Какое изобилие! Горы овощей, фруктов... Нет, кажется, жителя, который бы в эту пору года не нес с базара себе на завтрак огромного арбуза... Под городом поля подсолнечников - целые десятины желтых шапок! Совсем как в Голландии поля гиацинтов.
Отдохнув немного, я стал подумывать о дальнейшей работе. Мне захотелось установить связь с церковно-административным центром юга. Высшее Церковное управление под председательством Донского и Новочеркасского архиепископа Митрофана находилось в Новочеркасске. Туда я и направился, но по пути заехал в Ростов-на-Дону, который находится от Новочеркасска в полутора часах езды.
Ростов, большой торговый центр всей Донской области, был теперь и центром административным. Здесь скопились все новые правительственные учреждения, а также съехалось и немало беженцев из Великороссии. На вокзале меня встречала толпа знакомых, среди них один холмский священник, о.Симеон Калеин [100], радостно, со слезами, приветствовал меня.
Я остановился в доме протоиерея Молчанова, моего земляка-туляка, - пожилого семейного священника. Его семья - старушка матушка и взрослые дочери - просили меня у них обосноваться. Я на время остался в Ростове, а в Новочеркасске бывал лишь наездами. В это время митрополит Антоний и епископ Никодим были тоже в Ростове. Поначалу нас чествовало местное общество: купцы, профессора, общественные деятели угощали нас завтраками, обедами, устраивали в честь нас приемы в клубах; щедрое купечество, приметив мою невзрачную одежду, посылало мне пакеты с деньгами... - словом, город встретил нас тепло, радушно.
Ростов-на-Дону входил в состав Екатеринославской епархии; теперь же образовалась самостоятельная Ростовская и Таганрогская епархия, и во главе ее поставили преосвященного Арсения (Смоленец). Он имел пребывание в Таганроге, там же находилась в это время и ставка Деникина. Владыка Арсений пригласил меня к себе, и я некоторое время погостил у него; туда же приехал и митрополит Антоний, и мы с ним вдвоем были с визитом у Деникина. Наши дела шли тогда хорошо: линия фронта продвинулась до Орла.
Митрополит Антоний и епископ Никодим наводили справки, как бы им пробраться в Киев. Долго Киев переходил из рук в руки, теперь же пришла оттуда весть, что им вновь завладели белые, - и митрополит Антоний и епископ Никодим поспешили уехать. А я остался: Житомир все еще был во власти большевиков.
Я часто служил в городском соборе. Помню, 8 сентября, в день Рождества Богородицы, я служил в старом соборе, а 14 сентября, в Воздвижение Животворящего Креста, - в новом. Я произносил горячие проповеди перед огромной толпой молящихся, состоявшей сплошь из военных. Дело в том, что наблюдались уже признаки развала: офицеры с сестрами милосердия кутили на вокзалах, лилось вино, множество офицеров бездельничало, уклоняясь от отправки на фронт, замечалась расхлябанность дисциплины... И одновременно среди этой разрухи сколько было проявлено жертвенности, патриотического воодушевления некоторыми юными добровольцами, мальчиками-подростками, учениками средних школ!
Бичом и фронта и тыла был в те дни сыпной тиф. Покойников едва успевали хоронить. Мне случалось служить панихиду на братской могиле. Трупов наложили полный ров, а тщательно не засыпали. Трупный запах ощущался очень сильно.
Однажды на вокзале я увидал солдат, пленных большевиков. Я подошел и спросил их: "Что вы, братцы, - большевики?" - "Да какие мы большевики..." - был ответ. И верно, стоило на них только посмотреть - бессознательное стадо; куда погонят, туда и пойдет. Часть пленных расстреливали, другая - вливалась в белые войска и стреляла в красных. Тяжелое впечатление произвели на меня пленные большевики...
Я был приглашен участвовать в заседаниях Высшего Церковного управления. В одном из заседаний судили архиепископа Екатеринославского Агапита (Вишневского). Он встречал Петлюру в Киеве. Архиепископ Агапит был инспектором Полтавской семинарии в то время, когда Петлюра в ней учился. Из семинарии Петлюру выгнали за какой-то неблаговидный поступок. Когда Петлюра въехал в Киев, архиепископ Агапит встретил его льстивой речью, приветствуя его как "героя" и "освободителя". "Мы с вами давно знакомы..." - между прочим напомнил он. Петлюра промолчал. Потом архиепископ Агапит повел резко украинскую линию. За этот уклон теперь Высшее Церковное управление его и судило. Был поднят вопрос: оставить его на кафедре или уволить? Решили уволить на покой. На его место назначили донского викария епископа Аксайского Гермогена. Однако политические события развернулись так, что он не мог добраться до своей кафедры.
Дальнейшая моя работа в Высшем Церковном управлении свелась к порученной мне ревизии Кубанской епархии. Преосвященный Иоанн, слабый и беспомощный человек, в столь трудное и бурное революционное время наладить управление своей епархии не сумел. В епархиальных делах был хаос, в консистории с ним мало считались, в архиерейском доме командовал архиерейский келейник, простой мужик-казак, о котором я уже упоминал. Он допускал к архиерею только того, кого сам хотел допустить, а других посетителей бесцеремонно выпроваживал. Развал в управлении епархией дошел до крайнего предела, когда священник Калабухов вошел в "самостийную" кубанскую организацию, снял рясу, нарядился в черкеску с кинжалом за поясом и в таком виде представлялся епископу... Владыка Иоанн все это видел, но ничего не делал для того, чтобы его образумить, и не запретил ему даже священнослужения. Я произвел ревизию и представил Высшему Церковному управлению обстоятельный доклад. В нем, вне всяких личных счетов, я изобразил живую, правдивую картину того, что в Кубанской епархии происходило. Собранный фактический материал предрешил суждение Высшего управления об епископе Иоанне. Он давал объяснения, но они оправдать его не могли, - и он был уволен. В состав Высшего Церковного управления входили кроме епископов протопресвитер Г.И.Шавельский и профессор Петербургской Духовной Академии протоирей А.П.Рождественский. Епископ Иоанн уехал в какой-то монастырь и вскоре там умер.
После ревизии делать мне было нечего. Мой знакомый холмский священник пригласил меня к себе в Старочеркасск - старое гнездо донского казачества, его древний исторический центр. Я приглашением охотно воспользовался; мне не хотелось дольше стеснять моих гостеприимных хозяев - о.Молчанова и его милую семью.
Старочеркасск - своеобразный городок: все дома его построены на сваях, чтобы весной, в разлив Дона, вода не заливала жилых помещений. После разлива на берегах остается множество рыбы, которую вылавливают голыми руками. Рассказывают, что в одну хату казака заплыл огромный сом, который ударом хвоста по голове убил старика-хозяина. В городе - старый собор, в котором много церковных ценностей, захваченных когда- то казаками в виде военной добычи: священные сосуды, иконы и проч. Даже сейчас, в трудное время, чувствовалось, что население городка ни в чем не нуждается. Раздолье, богатство, изобилие, доступность земных благ... - вот мое впечатление об этом маленьком казачьем городе. Смотрю, стоит на мосту старичок и вылавливает простым черпаком рыбу. Съездил на хутор к казакам посмотреть, как они живут, - и удивился: живет простой казак, как помещик, яств полный стол; в хозяйстве, видимо, всего вдоволь.
Тут подошел вскоре годовой казачий праздник завоевания Азова ("Азовское сидение"). Была панихида, а потом смотр казакам. Приехал атаман А.П.Богаевский, сказал горячую обличительную речь, обвиняя казаков в бездействии, в равнодушии к тому, что происходит на фронте. "Вы тут сидите беспечно, а там солдаты наши голые, разутые, раздетые... Зима надвигается... Недаром большевики злорадствуют: "Скоро придет наш новый союзник - зима!" Действительно, несмотря на богатство казачьей жизни, в атмосфере ее уже чувствовалось разложение.
Меня потянуло на Волынь. Я узнал, что председательница "Белого Креста" госпожа Митрофанова, жена ректора Варшавского университета, эвакуированная со своей организацией в Ростов, снаряжает госпиталь в Киев, освобожденный от большевиков. Я решил воспользоваться удобным случаем и добраться до Киева, оттуда я хотел попытаться проникнуть на Волынь. Председательница с удовольствием откликнулась на мою просьбу, мне оставалось лишь перебраться в один из двух-трех вагонов-теплушек ее подвижного госпиталя. Обстановка больничная, и в том же вагоне доктор и сестры. В дорогу надо было запастись провиантом. Мои добрые знакомые снабдили меня большим количеством сушеной рыбы, - и я сам потащил свою кладь на вокзал. Сижу в вагоне день, два... мы не двигаемся. Комендант, сын холмского священника, хмурится: "Трудно вам будет в пути, владыка, - всюду непорядки, банды... не могу пустить поезда; может быть, наши дела на фронте окрепнут, тогда пущу". А на третий день уже решительно: "Я против того, чтобы вы ехали". И вот я опять тащусь с вещами к о.Молчанову. Опасения коменданта были основательны: поезд подвергся нападению, и много пассажиров было перебито.
Что ж делать дальше? Я сижу в Ростове и жду. На фронте роковой перелом: началось стремительное отступление наших войск. В эти дни у меня разболелись ноги, вновь обнаружилось воспаление вен, и я по совету профессора Варшавского университета Никольского лег в клинику. Ростовские клиники, выстроенные купцами-благотворителями, были прекрасно оборудованы. Я пробыл там недолго и мне стало лучше. Священник, обслуживавший клинику, был кладбищенский и жил рядом с клиникой на кладбище. Он пригласил меня к себе. Я с радостью его приглашением воспользовался, чтобы не обременять собою о.Молчанова.
Наступил конец ноября. Наши войска откатились уже до Харькова Там начался "пир во время чумы". Май-Маевский устраивал вакханалии, дикие кутежи... Слухи о безобразном его поведении распространились по армии. Атмосфера сгущалась. Я узнал что Киев взят; что митрополит Антоний с духовенством проследовал через Ростов в Екатеринодар и ему поручено возглавлять Кубанскую епархию.
Большевики все ближе и ближе... Казаки стали изменять. На фронте не хватало продовольствия, население голодало тоже. Началось массовое дезертирство. Надвигалась анархия...
Генерал Тихменев, заведующий движением, предупредил меня, что мне пора уезжать. Он дал мне отдельный вагон (на вагоне была надпись, что вагон предоставлен мне) и разрешил набрать спутников по моему усмотрению. Прослышав об этом, знакомые и незнакомые стали умолять меня пустить их в мой вагон. Через два-три дня он был набит битком. Военные и штатские, дамы, дети... В числе пассажиров был епископ Гавриил Челябинский. Стоим-стоим на запасном пути, - нас не прицепляют. Среди железнодорожных рабочих уже чувствовалось коммунистическое настроение - ожидание прихода большевиков. Начальник станции бессильно разводил руками; рабочие бездельничали, соглашаясь работать только за взятки. Нам пришлось делать сборы среди пассажиров и давать взятки сцепщикам, смазчикам, кондукторам... В вагоне мы прожили дней восемь. Сели 2 декабря, а двинулись 10-11 декабря. Ехали медленно, с длительными, зачастую не предусмотренными, остановками. Тащились больше суток до Екатеринодара, тогда как обычно туда часов семь-восемь езды. Всюду на станциях толпы солдат с винтовками и без винтовок - отряды в беспорядке отступающей нашей армии... Тучи беженцев; среди них случалось встречать своих знакомых - словом, общая картина разложения...
Екатеринодар... Город превратился в большой военный лагерь. На улицах, на вокзале - всюду военные. И со всех концов к городу наплывают все новые и новые эвакуированные войсковые части, учреждения и беженцы.
Гражданская власть образовала "самостийное" Кубанское управление, даже наставила на границах Кубани таможенные рогатки. В правительстве сочетались два течения: "самостийный" кубанский шовинизм с социализмом левого направления. Но все же оно было умеренным по сравнению с крайним "самостийным" течением казака Быча, священника Калабухова... Генерал Покровский, один из генералов Врангеля, арестовал главарей этой шайки, повесил Калабухова и не позволил снимать повешенного. Это вызвало среди населения большое негодование. Казненного стали считать мучеником, бабы со слезами целовали ему ноги, причитая: "Батюшка!., батюшка!.."
Первое впечатление от Екатеринодара было у меня очень тягостное. Я направился к брату, а потом прошел в архиерейский дом. Тут помещалось Кубанское Епархиальное управление во главе с митрополитом Антонием. В доме - точно ярмарка. Архиереи, монахи, священники... Среди собратьев встретил епископа Гавриила Челябинского, архиепископа Георгия Минского, епископа Митрофана, епископа Аполлинария... и много других. Все обменивались впечатлениями и обсуждали тревожный вопрос: что же будет дальше?
Однажды зашел я в архиерейский дом, сидим мы, раздумываем о положении дел, - и вдруг входит старик, в мещанской чуйке, в шапке, изнуренный, измученный, по виду странник, - и мы в изумлении узнаем в нем... бывшего Петербургского митрополита Питирима. Оказывается, он был сослан в Успенский монастырь, на Кавказе, на горе Бештау. Когда началась эвакуация, он бросился к нам. И теперь, дрожа от волнения, психически потрясенный, он униженно молил нас о помощи: "Не оставляйте, не бросайте меня..." - "Не беспокойтесь, не волнуйтесь, мы не оставим вас..." - сказал я. "Отдохните у меня..." - предложил митрополит Антоний. Неожиданной встречей я был потрясен. Помню митрополита Питирима в митрополичьих покоях... Как он домогался этого высокого поста! Как старался снискать расположение Распутина, несомненно в душе его презирая! Эта встреча осталась в моей памяти ярким примером тщеты земного величия...
В тревожном, гнетущем настроении встретили мы праздник Рождества Христова. И какой мог быть для нас "праздник"! Все на перепутьи, все в тревоге, в неизвестности за завтрашний день... Я служил в военном соборе, митрополит Антоний - в городском.
Тяжкие дни... Внешне мне жилось у брата неплохо, куда лучше, чем другим архиереям, которые, кое-как пристроившись, жили на бивуаках, но душевное мое состояние было подавленное. Вставал вопрос о дальнейшей эвакуации. Надо было хлопотать о заграничном паспорте, о вагоне.
Кубанское правительство выдало мне паспорт без затруднений. Меня спросили, куда я хочу ехать. Я указал Грецию (мне хотелось эвакуироваться в православную страну). С вагоном было труднее, но в конце концов и его нам, архиереям, предоставили - "Ноев ковчег", в котором мы двинулись в Новороссийск, в день Нового года.
Под Новый год я служил, потом встретил праздник у брата, грустно, не празднично. В день Нового года был в церкви, поздравил митрополита Антония и стал готовиться к отъезду. Митрополита Питирима взять с собой не удалось: он заболел, ехать с нами доктор ему не разрешил. Мы оставили его на попечение митрополита Антония, которому власти обеспечили в случае опасности своевременную эвакуацию. Митрополит Питирим проболел с месяц и умер.
Выехали мы [101] из Екатеринодара 1 января в полночь. Шли на станцию в темноте, в проливной дождь, по глубоким лужам, зачерпывая калошами воду, путаясь в длинных рясах. На вокзале темень: освещения почти никакого. На платформах сутолока: солдаты, беженцы, поклажа... С трудом в темноте и сумятице разыскали наш салон-вагон. Вошли, - весь он уже битком набит. Тут и духовенство, и военные, и штатские, и дамы... В салоне чемоданы наложены горой. Тесно. Среди пассажиров в те дни встречались и больные. Сыпняк косил людей беспощадно. Так было и в нашем вагоне. С вечера зашел в наше купе член Государственной думы Кадыгробов: в карманах насованы бутылки удельного красного вина. "Вот, владыки, вам вина..." - предложил он. Было холодно, сыро, и мы с удовольствием вместе выпили бутылку. Он жаловался на головную боль, на ощущение общего недомогания. А наутро узнаем: его в сыпняке вынесли из вагона...
В Новороссийск мы прибыли утром. Нас предупредили еще в пути, что в городе свирепствует сыпной тиф, что все свободные помещения забиты больными. Нам, архиереям, пришлось жить в вагоне. Нас отцепили и задвинули далеко от станции на запасной путь. Тут мы и поселились. Еды у нас не было, денег в обрез, от города далеко, а если и надо было там побывать, приходилось ходить пешком. Надо мной сжалился Сенько-Поповский (теперь он был губернатором) и предложил мне переехать к нему в квартиру, в свободную комнату. Я предложению обрадовался. У него было сухо, тепло; я опять очутился в человеческих условиях. Вместе со мною в квартире Сенько-Поповского жил заведующий лазаретом Красного Креста В.Д.Евреинов. Спутники же мои две недели прожили в вагоне. Дул норд-ост, вагон не топили. Они очень страдали от холода. Епископ Гавриил Челябинский, пробираясь ночью к вагону, попал в нефтяную цистерну и погрузился в нефть по грудь. Железнодорожные рабочие с трудом его вытащили. Ряса промокла, переодеться не во что, в вагоне стужа... К счастью, удалось потом его пристроить в одном церковном доме; там ему отвели в передней уголок, где на сундуке он и спал.
Я познакомился с местным архиереем, преосвященным Сергием Черноморским и Новороссийским, и по его приглашению служил на Крещенье в городском соборе.
Новороссийск представлял сплошной лазарет. В больницах и госпиталях не знали, куда девать больных. Мне довелось посетить одну из больниц.
Епископ Сергий (Лавров), начальник Урмийской миссии, человек неуравновешенный, под влиянием революционных настроений объявил себя принадлежащим к Англиканской Церкви. Его от Православной Церкви отлучили. Во время моего пребывания в Екатеринодаре до Высшего Церковного управления дошли сведения, что он раскаивается, и мы тогда же его воссоединили. Теперь я узнал, что он лежит в сыпном тифе, в одной из больниц для сыпнотифозных. Туда я и направился, чтобы сообщить ему о восстановлении его общения с Православною Церковью и принести некоторое денежное пособие. Трудно себе представить тяжелую картину, которую я увидел... Больные лежали и на койках, и под койками, и в проходах. Стоны, бред... И тут же две сестрички милосердия щебечут о чем-то у себя в комнате. Кругом вопли "Воды!.. воды!.. жажду!..", а сестры равнодушно санитару: "Иван, дай воды!" - и продолжают прерванный щебет. Я был возмущен. Разыскивая епископа Сергия, я случайно натолкнулся на больного члена Государственной думы Антонова: лежит в жару, весь красный... Наконец я отыскал преосвященного Сергия. Когда-то он был красивый, а теперь и не узнать: лицо искаженное, измученное, глаза мутные, губы иссохшие...
- Мой приход - весть, что вы воссоединены, - сказал я.
- Благодарю Бога за болезнь, - зашептал он, - теперь я все понял... Как мелко, глупо то, чего я домогался...
Я посидел с ним недолго - и простился. Засиживаться среди сыпных я побоялся.
Вскоре после этого я встретил на улице князя Ев.Ник.Трубецкого. Он стал уговаривать меня ехать в Сербию. "Повезем туда нашу русскую культуру..." На другой день он заболел сыпным тифом и умер.
Умер в те дни от сыпняка и Пуришкевич. Я его отпевал.
Потом дошел до меня слух, что от паралича сердца скончался в маленьком новороссийском монастырьке архиепископ Алексей Дородицын. Епископ Сергий, человек мало распорядительный, относительно погребения никаких приказаний не дал, и труп в одном белье пролежал дня три в сарае. Я сказал об этом владыке Сергию и предложил ему поручить мне отпевание. Он с радостью согласился.
К назначенному часу я с диаконом прибыл в кладбищенскую церковь. На кладбище пришлось идти пешком. Вхожу в церковь, - служат молебен, толпятся богомольцы, а гроба нет. Спрашиваю: "Где гроб?" Никто не знает. Кладбищенский батюшка пригласил меня зайти к нему в домик, обогреться, выпить чаю, пока он будет наводить справки. Выяснилось, что тело привезут, но надо подождать. Жду-жду... покойника все не привозят. Наконец показались дроги в одну лошадь, на них огромный гроб, на гробе сидит возница; за дрогами идут два-три монаха. Я вышел встретить жалкую процессию. Огромный гроб был так тяжел, что его едва-едва смогли поднять. В церкви открыли крышку... - архиепископ Алексей лежал неубранный, в старом подряснике, в епитрахили. Благодаря морозу разложение еще не наступило. Отпевать пришлось не так, как обычно отпевают архиереев, хоть я и старался, по мере возможности, вычитать все, что по чину погребения в таких случаях полагается. После отпевания спрашиваю: "Где могила?" Оказывается, - на краю кладбища в заросли кустов. Мы долго пробирались по сугробам, увязая в снегу... - Погребение архиепископа Алексея, как и судьба митрополита Питирима, показало мне всю тщету честолюбия, властолюбия...
Одновременно с этими событиями мне приходилось хлопотать о переезде в Грецию. Паспорт у меня был, но как до Греции добраться? Когда я обращался за разъяснениями к нашим военным властям, они отсылали меня в греческое консульство. Вхожу как-то раз в дом, где помещались иностранные консульства, встречает меня сербский представитель и говорит: "Да что вам ехать в Грецию? поезжайте к нам! Мы будем счастливы, мы примем вас с распростертыми объятиями... Россия столько для нас сделала, мы рады хоть чем-нибудь ей отплатить..." Незадолго до этой встречи я получил письмо от графа В.Бобринского, который мне писал, что встречен в Сербии радушно. Предложение сербского представителя, сделанное в столь любезной форме, мне понравилось, и я тут же дал ему согласие. "И отлично, - сказал он, - дайте мне только поскорее список архиереев". Мои спутники, епископы, узнав о проекте ехать в Сербию, предложению тоже обрадовались.
Для перевозки русских беженцев был зафрахтован старенький грузовой пароход "Иртыш".
Сели мы на этот пароход 16 января. Главной персоной среди отъезжающих был Сергей Николаевич Смирнов, управляющий делами князя Иоанна Константиновича, женатого на сербской королевне Елене Петровне. Ему с семьей и еще нескольким лицам были отведены каюты. Нам, архиереям, предоставили уголок в трюмном помещении; там мы потом и расположились на полу, покрытом брезентом... Когда все пассажиры оказались в сборе, я как старший из архиереев служил молебен. Обходя палубы после молебна с кроплением, я оступился и чуть не провалился в открытый трюм; матросы меня поддержали. Перед отходом парохода ко мне бросилась М.Л.Маклакова, провожавшая своего сына Ю.Н., и просила взять его под свое покровительство. Среди отъезжающих оказался и князь Жевахов. С нами ехали Евреинов с лазаретом Красного Креста, Казем-Бек, граф М.Л.Толстой и др.
Когда мы отвалили от пристани и берега начали удаляться, - на душе стало бесконечно грустно... Но самые грустные минуты были впереди. Мы обогнули Крым с остановками в Феодосии, в Ялте: к нам еще подсели беженцы. И вот пароход повернул и стал держать курс в открытое море на юго-запад. За нами виднелся Крым, белый, зимний, весь в снегу, точно в саване. Потом родные берега исчезли... Вокруг лишь беспредельное, взволнованное море, а над нами - небо...
[99] Он был раньше протоиереем в г.Мышкине, высшего образования не получил.
[100] Жена его воспитывалась в Леснинском монастыре.
[101] Епископ Гавриил Челябинский, епископ Митрофан Сумский, епископ Георгий Минский, епископ Аполлинарий Белгородский и я.
Православная беседа >> Библиотека >> Евлогий (Георгиевский), митр. 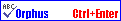
На правах рекламы: