|
|
Флоровский Георгий, прот.
Духовные размышления
Содержание:
- “Непрестанно молитесь.”
- О почести горнего призвания.
- “От Рождества Христова.”
- Тайна фаворского света.
- Сыны и наёмники (Мф.20:1-16).
- Соблазн учеников (Ин.13:12-30).
- Подвиг и Радость.
- Преподобный Силуан Афонский
(1Сол. 5:17)
Есть два вида молитвы, и об обоих свидетельствовал сам Спаситель в его беседах с народом.
В Нагорной Проповеди Господь заповедует ученикам “молиться втайне.” Правда, это наставление направлено прежде всего против молитвы “лицемеров,” против молитвы напоказ, “в синагогах и на углах улиц.” Но этим противопоставлением заповедь не исчерпывается, и не на нем стоит здесь главное ударение. Молитва есть личное стояние пред Отцом Небесным, “Который втайне,” и при этой личной “встрече” с Богом не должно быть свидетелей: “войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему.” Впрочем, и при этой “тайной” молитве нужно помнить, что “мой Отец” есть в действительности “Отец Наш,” и так и следует к Нему обращаться. Уединение не означает обособления или забвения о других, о братьях и общем единстве пред Богом. И потому прощение обид и “оставление долгов,” мир и примирение с братьями есть предусловие и необходимый момент правильной молитвы: “как и мы прощаем должникам нашим” (Мф.6).
В другой своей беседе Господь говорит об этом с особенной твердостью. “Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих....” И затем свидетельствует о силе общей и соединенной молитвы. “Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.” Надлежит “соглашаться” в молитве, “просить” заодно, и тогда открывается последняя тайна: со-присутствие Христа в молитве (Мф.18).
Молитва “втайне” и молитва “в согласии” — здесь ни противоречия, ни даже антиномии. Оба вида молитвы связаны неразрывно, и возможны только вместе. Один вид предполагает другой, и только в этой взаимной связи они достигают своей подлинной меры. Это двуединство христианской молитвы отражает и выражает глубокое двуединство христианского бытия, тайну Церкви.
Никто не может быть христианином сам по себе, в уединении, в обособлении. Быть христианином — значит “быть в Церкви.” Христианское бытие существенно корпоративно, “соборно.” Однако само участие в “соборности Церкви” предполагает личную веру, и с нее начинается и в ней укоренено. Церковь состоит и слагается из лиц, ответственных и преданных Богу. Личность не растворяется, и не должна растворяться, в “соборности,” в коллективе. Первые ученики Христа, “во дни Его плоти,” не были обособленными индивидуумами, искавшими правды в частном порядке. Они были израильтянами, то есть полноправными членами Богоустановленного общества, членами “Избранного Народа,” к которому и было прежде всего обращено новое Благовестие. И в этом качестве они ожидали наступления Царствия, прихода Грядущего, “утешения Израилева.” В известном смысле, “Церковь” уже существовала, когда пришел Мессия, Христос. Это был именно Израиль, Народ Завета. “Завет” этот предполагается евангельской проповедью. Проповедь Спасителя была обращена к членам этой “Церкви,” к “погибшим овцам Дома Израилева.” Христос в своей проповеди никогда не обращался к “обособленным людям.” “Завет” был всегдашней предпосылкой его проповеди. И Нагорная Проповедь была обращена не к толпе случайных слушателей, но скорее к некоему “внутреннему кругу” тех, кто уже “следовал” за Ним в ожидании, что Он был Тот, Кого они ждали, по пророчеству и завету. Нагорная Проповедь есть очерк наступающего Царствия. “Малое стадо,” которое Господь собирал вокруг Себя, было в действительности верным “остатком” Израиля, “остатком” Народа Божия, Избранного Народа. Этот “народ” должен был быть теперь преобразован — зовом Божиим, благовестием Царствия, приходом Обетованного. Однако на этот зов каждый должен был откликнуться за себя, личным и полным приятием, личной верой и послушанием. “Завет” как таковой еще не обеспечивал отклика веры. И только немногие откликнулись и узнали Грядущего. И вместе с тем этот личный отклик веры включал верующего в новое единство, в новую “соборность.” Такова неизменная схема христианского бытия: уверовать и затем креститься, креститься в единое Тело. “Вера Церкви” должна быть лично принята и усвоена. Но только через крещальное включение в Тело этот личный акт веры получает подлинную устойчивость, достигает своей полноты. “Новый человек” рождается только в крещальной купели — однако под непременным условием личной веры. “Обращение” есть только условие. Таинство его “исполняет.”
И та же неразрывная двойственность характеризует всю жизнь христианина и, прежде всего, его молитвенную жизнь. Христианская молитва есть всегда личный акт, но свою полноту он получает только в “соборности” Церкви, в связи общей и корпоративной жизни. Личная и “общественная” молитва связаны неразрывно, и каждая из них вполне осуществима, достигает подлинности, только через другую. Сознание и сердечное приятие этого двуединства есть условие и залог правильной и подлинной молитвенной жизни.
Нужно научиться молиться “втайне,” наедине с Богом, свидетельствовать пред Ним свою веру и послушание, воздавать Ему славу и хвалу, в свободной и личной встрече или общении. И только те, кто воспитан в делании этой “уединенной” молитвы, “при закрытых дверях,” могут духовно встретить друг друга и “согласиться” в том, что они должны просить совместно у их общего Отца на небесах. “Общественная” молитва требует личной подготовки и ее предполагает. Однако странным образом личная молитва христианина возможна только в измерении Церкви, ибо только в Церкви верующий становится христианином. Ибо и “втайне,” “в своей комнате,” христианин молится как член Церкви, как гражданин Царствия, как участник в спасении рода человеческого. Именно в Церкви мы научаемся молиться “по-христиански,” как христиане, соединенные с Христом и в Нем друг с другом. Этот круг не может быть разорван или разомкнут без серьезной духовной опасности, без духовного вреда. Личная молитва вне контекста Церкви может легко выродиться в сентиментальный пиетизм, разложиться в ритм эгоистических эмоций, потерять трезвость. С другой стороны, без предварительной подготовки в искусе личной молитвы и общественная молитва легко может превратиться в ритуальную формальность или, что не менее опасно, выродиться в эстетический транс. Церковь обязывает каждого верующего готовиться “втайне” к участию в “общественной” молитве. И это не только внешняя или формальная дисциплина. Она относится к самому существу молитвенного делания. В “общественной” молитве христианин должен участвовать, и не только присутствовать в храме — со-участвоватъ лично, совместно с другими. Предел и мера христианской общественной молитвы есть единомыслие — “едиными усты и единем сердцем.” Но и в этом единомыслии христианин должен участвовать лично, действенно, а не пассивно. Молитвенный акт всегда есть личное делание, даже и в “симфонии” с другими. С другой стороны, и личная молитва, даже “втайне,” не есть “частная молитва,” не есть “частное” дело каждого. Христианин всегда молится и должен молиться как член Церкви, памятуя об этом, никогда не обособляясь. В свое время, объясняя Молитву Господню, св. Киприан Карфагенский настойчиво подчеркивал, что христианская молитва всегда есть “общая и всенародная молитва” — publica et communis oratio, “потому что мы — весь народ — одно.” И поэтому личная молитва должна быть широкой и объемлющей, молитвою о всех и за вся. И только в таком молитвенном расположении верующие могут действительно “согласиться” и встретить друг друга, как братья — во Христе. Иначе умалится тайна Церкви: все — одно Тело.
Христианская молитва есть ответ на Божий призыв, ответ на великие дела Божий, завершившиеся в деле спасения, в смерти и воскресении Спасителя. И потому она определяется, по форме и содержанию, истинами веры. Молитва не отделима от догматов. Христианская молитва существенно догматична. И прежде всего, она есть воспоминание, anamnesis, и возможна она только в перспективе “священной истории,” истории Спасения. Церковные гимны полны воспоминаний и образов священной истории обоих заветов, Ветхого и Нового. Самая вера христианская есть ответ — благодарное опознание спасительного смотрения Божия. Мы молимся по-христиански именно потому, что начало положено самим Господом. Мы обращаемся к Богу потому, что Он первый к нам обратился и нас признал. Весь строй библейской молитвы есть строй “исторический,” уже в Ветхом Завете. И тогда он определялся памятью и воспоминанием: призвание Авраама, “отца верующих,” Исход, Синайское законодательство. Этот исторический характер молитвы, в ее духовном обосновании, выражен еще строже и сильнее в Церкви Христовой, ибо воспоминаемые события достигли своего завершения — в Кресте и Воскресении. Литургическая анафора вся построена по исторической схеме: “поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся яже о нас бывшая — крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие...” Христиане всегда смотрят назад — обращены ко Христу, пришедшему во плоти, к Его кресту и воскресению. Настоящее, всегда текущее, может быть опознано и осмыслено по-христиански только через обращение или возвращение к прошлому, единственному и окончательному. Христианский “анамнезис” больше чем только память или воспоминание. Он есть, в известном смысле, возврат к прошлому. Ибо “прошлое” во Христе стало постоянным “настоящим,” и это единство веков с такой силой открывается в Божественной Евхаристии, в этом основании и Откровении тайны Церкви. Христос — один и тот же, по апостольскому слову, и прежде, и теперь и до века. Св. Иоанн Златоуст с парадоксальной настойчивостью разъяснял своим слушателям, что каждая Евхаристия есть та же Тайная Вечеря, и на ней действует тот же Христос. Церковь есть нечто большее, чем только “общество верующих,” общество тех, кто верует в смысл и силу древних событий — Креста и Воскресения. Церковь есть Тело Христово, общение или общество тех, кто “во Христе,” и в ком сам Христос, по его обетованию, пребывает.
Есть некоторая непрерывность между Христом Спасителем и христианами, как ни трудно описать и определить точно смысл и характер этой непрерывности. Об этом опять-таки с неустрашимой настойчивостью говорил св. Иоанн Златоуст. В уста Спасителя он дерзал вложить такие слова: “соединенные вещи остаются все-таки в своих пределах, но Я сплетен с тобою. Я не хочу, чтобы оставалось какое-либо разделение между нами. Я “хочу, чтобы мы были одно”“ (Слово XV на 1Тим., заключение). В молитве Церкви, и в молитве в Церкви, эта тайна единства и единения раскрывается для очей веры. Молитва определяется верой, видением и прозрением веры. Но самая вера укоренена в том единстве, которое, по силе крещальной благодати, установлено между Христом и “присными Ему.”
Молитва в Церкви есть общение между членами и Главой. Христианская молитва имеет характер и строй диалога. Не случайно многие отцы называли молитву “собеседованием.” Господь слышит и слушает молитву. С другой стороны, верующий ждет на свое обращение молитвенное ответа, в пределах самой молитвы. Об этом в недавнее время говорил Святитель Феофан Затворник. Мы начинаем с чтения молитв, установленных молитв, по молитвеннику, и не следует перескакивать чрез ступени. Но бывает, что молящемуся отвечает Дух, и тогда надлежит прервать чтение молитв и внимать и слушать. Вероятно, это дается не часто. Но в этом предел и цель молитвы, ее смысл и исполнение. Цель молитвы — встреча, и предание себя в руки Божий. Иначе говоря, наше молитвенное правило начинается обычно дерзновенным обращением к Духу Святому, Царю небес: “приди и вселися в ны.” Молитва в ее полноте не есть односторонний акт верующего. В ней таинственно соучаствует сам Господь — не только потому, что Он “слушает молитву,” но и потому, что Он ее внушает. “Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — чада Божия” (Рим.8:16). Строго говоря, по силе крещальной благодати, через крещальное “облечение во Христа,” христианин не только стоит или ходит пред Богом — так было уже в Ветхом Завете, но и пребывает во Христе, как член Его тела, Церкви. Это — любимый и постоянный оборот речи у ап. Павла. Христиане не странники и пришельцы, не сторонние, но присные Богу, чрез Христа и в Нем. Молитва раскрывает и осуществляет это таинственное пребывание “во Христе.” Цель и смысл молитвы — быть с Богом, сознавать Его присутствие и близость. Она есть постоянная обращенность к Богу. И потому именно должна она быть непрестанной. Молитва есть состояние христианина, а не только ряд отдельных обращений к Богу. В молитве есть ступени, и по ним нужно восходить смиренно и терпеливо. Как ответ на дела Божий, молитва есть, прежде всего, благодарение. Анамнезис и Евхаристия связаны неразрывно и нераздельно: это, в сущности, две стороны единого акта. Нельзя “вспоминать” Крест и Воскресение, это совершенное Откровение любви Божией, без чувства благодарности. От благодарения рождается любовь, в ответ на Любовь Божественную. Но и благодарение рождается от любви. Здесь опять нерасторжимое двуединство. Однако христианская молитва простирается дальше и глубже, чем благодарение. Ибо любовь Божественная есть Слава Божия, Его величие. И вершина молитвы есть именно созерцание этой неизреченной Славы, в котором даже благодарение умолкает и всякое слово человеческое изнемогает. По свидетельству святых отцов, ангелы не просят и даже не благодарят, они только славословят. Это — предел и вершина. Однако славословие должно присутствовать на всех ступенях молитвенного делания. И потому молитвы обычно завершаются доксологией, славословием Богу, Которому подобает “всякая слава, и честь, и поклонение.” Но это завершение есть в то же время и начало: ведь первое прошение Молитвы Господней есть именно прославление Бога — “да святится Имя Твое.”
В нашем обыденном понимании, молитва есть прежде всего “моление,” просьба. И действительно, такова молитва начинающих. И об ее ограниченности и несовершенстве говорил сам Христос в Нагорной Проповеди. Не подобает быть многословным в молитве, подобно язычникам: “ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.” Именно этим сознанием должна вдохновляться всякая молитва: только Господь действительно знает, в чем мы нуждаемся, знает наши действительные нужды, как наш всегдашний Помощник и Покровитель. И потому подобает всецело вверить себя Его любви: “сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.” В этом и начало, и конец молитвы.
Да будет Его святая воля!
В Евангелии есть трудные и суровые слова, — боится, укрывается от них косное и немощное сердце... Страшит и смущает максимализм евангельского идеала. “Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам,” — говорил Господь (Ин.13:15). И апостол повторял христианам: “Кто говорит, что в Нем пребывает, должен так поступать, как поступал Он” (1Ин.2:6). Это кажется невозможным... “Так кто же может спастись?” — недоумевали ученики. Но именно это “невозможное” и требуется от каждого христианина: “Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен” (Мф.5:48). От каждого христианина требуется “последование” Христу, и требуется безусловно: “Ко всем сказал: кто хочет идти за Мною, да отвергнется себя и возьмет крест свой, и следует за Мной” (Лк.9.23). Строгость заповеди скрепляется величием обетования: “и где есмь Я, там и слуга Мой будет...” (Ин.12:26). — Так открывается единый и единственный христианский путь, — скорбный путь к славе... И слава страшит еще более скорби.
Высшая радость христианской веры — в том, что “Слово плоть бысть...” (Ин.1:14). Это было абсолютное богоявление, абсолютное Откровение, — Откровение Божественной премудрости и любви. И Откровение не только о Боге, но и о человеке... Ибо Сын Божий стал и Сыном человеческим... Во Христе как Богочеловеке открывается смысл человеческого бытия; и не только открывается, но осуществляется... Во Христе исполняется человеческая природа, — и пересозидается, воссозидается, новотворится... Сбывается человеческая судьба, свершается изначальный и предвечный совет Божий об устроении человека. В этом смысле Христос есть “Последний Адам” (1Кор.15:45), — то есть истинный человек; и в Нем — мера и предел человеческой жизни. “Сын Божий стал Сыном человеческим, чтобы и человек стал сыном Божиим,” — говорил св. Ириней Лионский. И в этом — спасение человека.
Христианство есть прежде всего Евангелие спасения, — вера в Спасителя, в Искупителя и в совершившееся искупление... Спасение совершается уже в Воплощении Слова. Ибо это есть Откровение Жизни: “Жизнь явилась, и мы видели, и мы свидетельствуем, и возвещаем вам эту Вечную Жизнь, Которая была у Отца и явилась нам...” (1Ин.1:2). И сам Христос есть “Путь, Истина и Жизнь” (Ин.14:6). Но жизнь открывается нам чрез смерть... Христос спасает нас не Своею земною жизнью, но Своею смертию, — не жизнью праведника, но позорною смертью с беззаконными. Он приходит на землю не только для проповеди и не только для дел милосердия; но, прежде всего, — для того, чтобы пострадать и смертию Своею разрушить или упразднить смерть в Воскресении. И в этом — таинственный парадокс христианства: жизнь через смерть, жизнь от гроба и из гроба, гроб животворящий, — гроб как купель крещения, как купель рождения к вечной жизни... Спасение есть избавление, спасение от чего-то, — от греха, от немощи, от смерти... Спасение есть прощение, оправдание, примирение... Спасение есть жертва — и жертва смертная, жертва Крестная... И Христос умирает за нас, “рукописание грех наших растерзавый.”.. Но Он приносит нам не только прощение или оставление грехов, но и славу… Смерть прелагается в Воскресение. И в Воскресении Христос является, как Новый Адам, как родоначальник нового человечества или нового народа, “третьего рода людей,” “рода христианского.”.. Как “первенец из умерших” (1Кор.15:20,22)... И за Воскресением следует Вознесение и Седение одесную Отца, — в этом Христос есть тоже “первенец,” и Его слава есть слава человеческого естества. Христос входит в предвечную славу, как человек, и со-вводит в Себе и с Собою человечество. “Бог, богатый милостию, — по великою любви Своей, которою возлюбил нас, — нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом... и совоскресил с Ним, и спосадил на небесах во Христе Иисусе” (Еф.2:4-6). Это — дар Милости и Любви. Но это не есть нечто сверхдолжное для человека. В этой славе — смысл человеческого существования; в ней — цель творения, “так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви” (Еф.1:4). Так “совершается из всего нового самое новое и единственно новое под солнцем,” — замечает преп. Иоанн Дамаскин. Жизнь человека отныне “сокрыта со Христом в Боге” (Кол.3:3), и для человека открывается путь “обожения” во Христе, — не только “последования” Христу, но и “уподобления” Богу... И “невозможное для человека возможно для Бога” (Мф.19:26)...
Человек создан “по образу Божию” (Быт.1:26,27). Нелегко и непросто определить в статических, в природных категориях, что означает “образ Божий” в человеке. Святые отцы указывали на разум и на свободу. И это значит, что “образ” имеет динамический смысл и природу. “Образ” есть то, что изображает, что отражает, воспроизводит... Создание человека “по образу Божию” означает его призвание и его способность к Богоподобию, к жизни в Боге... И потому не может являть в себе “образ Божий” человек греховный и падший, он — вне Бога, вне жизни; он далек от Бога, и Божий лик не отражается в его душе... Восстановление “падшего образа” Христом есть оживотворение человека, воссоединение с Богом... “Ибо, так как Он уделил нам Свой собственный образ и Свое собственное дыхание, но мы не сохранили того, — говорил преп. Иоанн Дамаскин, — то Он принимает на Себя наше бедное и немощное естество для того, чтобы очистить нас, избавить от тления, и опять соделать причастниками Его божества.”.. В этом “причастии” — жизнь для человека, ибо только Бог есть истинная Жизнь. И потому спасение есть Воскресение, и Христос есть для нас “Воскресение и Жизнь” (Ин.11:25).
Эта Жизнь открывается в нас Духом Святым. И, как говорил св. Афанасий Великий, “напоеваемые Духом, мы пием Христа...” В дарах Духа соединяемся со Спасителем — в этом смысле Дух Святый есть Дух Христов. И Дух Святый есть Дух Животворящий. Духовное оживотворение человеческого бытия есть его освящение. Дух есть “источник освящения,” — в этом смысле, по отеческому объяснению, нужно разуметь наименование Его Духом Святым. И “освящение” есть “обожение,” теозис, — ибо только один Бог свят, и только чрез соединение с Богом может человек становиться “причастником святости.” Обратно, приемля освящающие дары Духа, мы становимся “причастниками Божества,” — соединяемся с Богом, в нас открывается духовная или божественная жизнь. И в этом осуществляется спасение. Оно осуществляется в Церкви, и Церковь, прежде всего, есть Церковь Святая. “Христос возлюбил Церковь, и предал Себя за нее, чтобы освятить ее” (Еф.5:25,26). Церковь есть Дом Божий, Дом Духа Святаго. И Церковь есть Тело Христово, таинственное Тело Воплощенного Слова, — потому в ней также сочетаются и соединяются два естества. Она есть организм Богочеловеческой жизни. Эта жизнь осуществляется, прежде всего, в таинствах. Все таинства суть освящающие действия, в них дышит Дух Святый, чрез них осуществляется единение со Христом, чрез них восстанавливается общение с Богом. И все таинства святы, в них осуществляется святая жизнь Церкви. Общение таинств есть общение в святости, в освящении, в дарах Духа. И именно чрез таинства выделяются христиане из неосвященного мира в “род избранный,” в “царственное священство,” в “народ святой” (ср. 1Петр.2:9). Это относится, прежде всего, к таинству крещения, в котором рожденные “от плоти и крови” возрождаются Духом, рождаются от Бога. Это — таинство усыновления; в нем сыны человеческие становятся чадами Божиими, облекаются во Христа, помазуются Духом. И постольку это — таинство освящения по преимуществу, таинство обожения, “баня возрождения и обновления Святым Духом,” по апостольскому речению (Тит.3:5). В этом смысле и назывались “святыми” все верующие в первые века христианства, — как рожденные от Духа, как освященные в таинствах. И вне Духа Святого вообще не может быть и нет действительной христианской жизни. “Если кто не имеет Духа Христова, тот и не Его,” — говорил апостол (Рим.8:9). Вся христианская жизнь есть в известном смысле дар Духа Святаго. К освящению все призваны, в этом — смысл христианства. И это значит: все призваны к святости, к стяжанию Духа. В этом — основная задача христианина, смысл его жизни, его надежда... От Духа Святаго — дар веры, и дар молитвы, и дар любви... Вся жизнь Церкви есть некое явление Духа Святаго. Но Церковь слагается из людей, как из членов. И если Церковь есть Дом Божий, то и каждый член Церкви должен быть Божиим домом и храмом. “Разве вы не знаете, что вы — храм Божий и Дух Божий живет в вас?” — говорил апостол (1Кор.3:16). — Так определяется первый и основной момент святости, — его можно назвать харизматическим (то есть — благодатным - изд.) моментом. Это — причастие Духу, единство с Богом, причастие жизни. Оно имеет свои ступени и меры. Но к нему призваны все, и в нем все христианское упование, — в “почести вышнего призвания Божия во Христе Иисусе” (Фил.3:14).
Святость — от Святого, святость — от Бога... Это — дар и милость, или благодать. Дар — и от Призывающего, а не от дел (ср. Рим.9:12; Гал.2:8,9). И, однако, — не без дел. Прежде всего, уже потому, что освящение есть сыноположение, усыновление Богу, — усыновление, а не рабство. “Я уже не называю вас рабами... но... — друзьями,” — говорил Господь (Ин.15:15). В Боге нельзя жить и пребывать по-рабски, из страха, по насилию, — жить в Боге значит жить богоподобно, а первая черта богоподобия есть свобода, “самовластие,” как говорили древние отцы, то есть творчество и волевая решимость. И благодать действует не насильственно, не магически или непреоборимо. Благодать привлекает, но не влечет, — призывает: “се, стою у двери и стучу, — если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему” (Откр.3:20). И отсюда второй момент святости — его можно назвать аскетическим. Это момент подвига и творчества. И притом — подвига вольного, а не подневольного, подвига из любви, а не из страха. По словам преп. Исаака Сирина, “по великой любви Своей, Бог не благоволил стеснять свободу нашу, но благоволил, чтобы мы любовию собственного сердца нашего приближались к Нему,” — и потому благодать действует в “таинстве свободы.” По любви Бог требует любви, и на Любовь должно отвечать любовию. Освящение — не от дел, но в дар, — и потому должно быть принято в свободе, то есть в любви. Так сочетаются харизматический и аскетический моменты. Как говорил св. Григорий Богослов: “добродетель не есть только дар великого Бога, почтившего Свой образ, ибо нужно и наше стремление, и не есть только произволение сердца, ибо нужна превысшая сила.”
И все совершается в любви. Любовь не только предел подвига, но и начало, — или лучше, она есть стихия подвига, “путь превосходнейший” (1Кор.12:31). И первая заповедь есть заповедь любви, — “Возлюби Господа Бога Твоего” (Мф.22:37). Но это — более, чем заповедь. Ибо любовь есть жизнь: “так поступай, и будешь жить,” — сказал Господь (Лк.10:28). Ибо, по апостольскому слову, “любовь — от Бога, и всякий любящий рожден от Бога, и знает Бога... потому что Бог есть любовь” (1Ин.4:7,8). Любовь к Богу есть, прежде всего, стремление к Богу, жажда Богообщения, потребность в нем. И об этом с особым подъемом всегда говорили христианские подвижники, аскеты и мистики, — от великих апостолов Иоанна и Павла. Именно аскетическая мистика всегда была мистикой любви, — гораздо более, чем мистикой покаяния. Любовь ко Христу, как влечение ко Христу, была мотивом и движущей силой первого христианского, первохристианского подвига, подвига мученического. Достаточно припомнить сияющий образ св. Игнатия. Это не только терпение за Христа и ради Христа, но и последование Ему с радостью, сострадание, со-крестоношение. В любви ко Христу и источник мученической радости, — так много было вдохновения и мистики в первохристианском мученичестве. И то же нужно сказать о монашеском подвиге. Отречение есть любовь; оно значимо, когда мотивировано любовью. Отречение должно быть мотивировано не только отрицательно, но именно положительно — ради Христа. И снова — не из простого повиновения, но именно из любви. Аскетический подвиг получает обоснование и оправдание в мистическом идеале, — в идеале таинственного брака души со Христом. Это — постоянное сравнение древних аскетов. И они со всею силою старались подчеркнуть мотив стремления, влечения, жажды... Нередко предпочитали поэтому эллинистическое слово “эрос” новозаветному “агапи.” Аскетическая любовь динамична, как бы ненасытна. Это — путь непрерывного восхождения. Это — забвение о себе в любви к Богу. И с этим связана собранность, напряженная сосредоточенность души, помышляющей только о Боге. В восточной аскетике очень резко выражен эстетический мотив, и это особенно оттеняет свободу любви.
Подвиг христианский рождается из любви и осуществляется чрез послушание или покорность воле Божией. “Да будет воля Твоя!” Это — последняя мера любви. Ибо покорность должна преобразиться в преданность, в свободное согласование воли, — иначе сказать, собственная воля должна возвыситься до совпадения с волею Божией. Такое совпадение и будет осуществлением подлинной воли, богообразной и чистой воли человека, — будет “исправлением произволения.” Так послушание раскрывается в чистоту. Чистота есть, во-первых, отрицательное понятие: чистота от мира и от злого в мире, свобода от страстей, от вовлеченности в мир с его кружением и заботами, с его суетой. Но, во-вторых, это — и положительное понятие: оно означает собирание и собранность души, ее трезвенность и цельность. Иначе сказать, ее внутренний мир и покой, верную иерархию ценностей и душевных движений. В пределе — сосредоточенность души в мысли о Боге, в стремлении к Нему. И это возможно снова чрез любовь. Так послушание совпадает с чистотою, и все одушевляется любовью. Это и есть “праведность,” причастие Правде, — или добродетель. В ней осуществляется человеком его подлинный, нормальный лик, — с помощью Божией. Эту черту, праведность или добродетель, мы и чтим, прежде всего, как святость. И в святых видим праведников и угодников, — угодников Божиих, то есть исполнителей воли Божией. Но прежде всего — носителей любви. Ибо, как говорил апостол, “любовь есть совокупность совершенства” (Кол.3:14), — и “святость и непорочность” открываются именно в любви (ср. Еф.1:4).
Здесь нужно подчеркнуть: святость не есть героизм; и вообще святость не исчерпывается нравственными чертами. И в святых мы чтим не только героев, героев воли и дела, но — подвижников; и прежде всего чтим в них явление и вселение Духа. В их подвиге чтим стяжание Духа. Харизматический момент оказывается первым и решающим. Аскетический — имеет характер служебный, поскольку является свидетельством любви к Богу и преданности Его воле. Однако подвиг есть только путь или вместилище освящения, но не его фактор. Основное — в веянии Духа, в явлении благодати. Не силою подвига, но силою благодати освящается душа и весь состав человека.
И с этим связано то, что непрерывная молитвенность есть основной момент “праведной” жизни. Молитвенность или непрестанная молитва состоит, по отеческому определению, “в произволении души и в доброделании.” Это — непрестанная память о Боге, некое бодрствование пред лицем Божиим, неизменная обращенность души к Нему, — как бы постоянное “собеседование” с Богом. “Всякая беседа, совершаемая втайне, всякое попечение доброго ума о Боге, всякое размышление духовное включается в определение молитвы и называется этим именем,” — говорит преп. Исаак Сирин. Молитва свидетельствует о любви, она есть плод любви, — “никогда не насыщается молитвою, кто пламенеет любовью,” — замечает св. Григорий Нисский. И, обратно, молитвою воспламеняется любовь, и открываются все новые основания любить Бога. Можно сказать, молитва есть некое таинство, — ибо в подлинной молитве действует Дух Святый. По апостольскому слову, “Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” (Рим.8:26)... В молитве есть ступени, и молитва многообразна, — слагается из хвалы, и благодарений, и прошений. Но для молитвы существеннее всего внутренняя раскрытость, искреннее благоволение. Молитва должна быть возможно широкой, ибо мера ее — во всеобъемлющей любви Божией. Молитва должна свидетельствовать о полноте любви, — о любви к ближним, без которой неподлинна и любовь к Богу. Ибо “кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит,” — говорил апостол (1Ин.4:20). О радостном универсализме совершенной любви замечательно рассказал преп. Исаак Сирин — “Сердце милующее” говорит о всякой твари, — и потому “и о бессловесных, и о врагах истины, и о вредящих ему ежечасно приносит молитву, чтобы и они очистились и сохранились; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, возбуждаемой в сердце его без меры, по уподоблению в том Богу...” Ибо мера молитвенной любви — в Крестной молитве Спасителя за распинающих... Эту молитвенность мы чтим в святых, как свидетельство их любви и предстояния пред Богом, — чтим их, как молитвенников и предстателей за мир... “Не разлучены с нами преподобные отцы, — говорил преп. Ефрем Сирин, — ибо всегда с нами любовь; не будем отлучать их от себя, как чуждых нам, потому что всегда молятся они о наших грехопадениях.”
Так любовь к Богу раскрывается в любовь к ближним: это — две стороны единой христианской любви. “По тому узнают все, что вы — Мои ученики, если будете любовь иметь между собою...” (Ин.13:35). Эта любовь выражается прежде всего во взаимных отношениях между христианами. Верующие во Христа суть “братья” друг для друга, и должны быть связаны между собою “братолюбием.”.. “Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, — говорит апостол, — и всякий, кто любит Родившего, любит рожденного от Него...” (1Ин.5:1). Христианство есть некое великое “братство” во Христе, — не может быть обособленного, замкнутого христианского пути. Христианство есть Церковь, т.е. некое кафолическое единство и общение, — прежде всего, “единство духа в союзе мира” (Еф.4:3). И в этом “общем,” или “кафолическом,” строе христианской жизни отображается всеобъемлющая любовь Божия. Вся жизнь христианская должна быть “общею жизнью,” жизнью сообща... С особою силой выражен этот мотив в духовной аскетике, более всего у св. Василия Великого и затем у преп. Феодора Студита. Выше уединенного подвига стоит подвиг совместный, — и только он в точности соответствует идее Церкви, как органического тела Христова. Идеальным прообразом здесь является первохристианское общение, общение во всем... “Господь требует от нас и желает именно общежития (киновии), к которому нас и призвал,” — говорит преп. Феодор Студит. И показывает это примером Своих двенадцати учеников, образовывавших некое братство. Сам Спаситель “избрал на земле не пустынное, не столпническое и не какое подобное житие, но закон и правило послушания,” — и пришел “послужить” людям (Мф.20:28)... “Вот Я среди вас, как служащий.”.. (Лк.22:27)... Только в общей жизни вполне осуществима заповедь любви. И дана она не одному, но многим и всем... “Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью” (Рим.12:10), — эту апостольскую заповедь напоминает св. Василий Великий и объясняет, что под этой “нежностью” нужно разуметь высшую степень дружбы, достигающей пламенного расположения и влечения друг к другу... Таков закон внутренней христианской жизни... И это — не простая симпатия, не естественное или органическое влечение, но именно подвиг. Ибо, во-первых, такая любовь требует самоотречения или самозабвения, — любить ближнего, как самого себя, значит не только отождествлять другого с собою, уравнивать его с собою, но и видеть себя именно в другом, в друге, а не в самом себе. В этом и есть смысл дружбы: друг есть другое “Я,” и при том — “Я” предпочитаемое. По отеческому объяснению, именно в христианстве закон дружбы достигает своей полноты... “любимый для любящего есть то же, что он сам,” — говорил Златоуст. И — более, чем он сам. Во-вторых, христианская любовь видит в ближнем брата, созданного по “образу Божию,” видит в нем именно “образ Божий,” видит в “каждом из братии сих меньших” самого Христа. В этом — подлинная мистика “любви к ближнему.”.. И это братство во Христе не ограничивается единством веры, единством крещального братотворения, — для христианина ближним является не только израильтянин, но и самарянин. Ближним является во Христе каждый, ради кого приходил Спаситель, ради кого Он пострадал и умер, за кого Он молился, — а молился Он, предавая дух на Кресте, за распинавших Его, как за неведавших, что творят... Христовой меры любовь к ближнему достигает тогда, когда она возрастает в любовь и к врагам, и к ненавидящим, и обидящим (Мф.5:44). Ибо любить любящих — невеликое дело; так поступают и грешники, и мытари (Лк.6:32,33; ср. Мф.5:46,47). Иначе сказать, любовь христианская должна быть бескорыстною и как бы беспричинною, не искать для себя причин и оснований. Христианин должен любить ближнего потому, что иначе он сам внутренне не может к нему относиться. То есть, он сам должен стать любовью, и любовь будет из него источаться, как из преисполненного источника... В этом — мера богоподобной любви. Отец Небесный равно благотворит и праведным, и неправедным, и добрым, и злым, — потому что Он благ и есть Благо, и всякое действие Божие есть благодеяние и благодать. И уже дело грешника, что он опаляется любовию Божией, как гневом... Вот почему, кто притязает любить Бога и не любит брата, лжет... Он не познал, не знает Бога, — ибо “Бог есть любовь.” И Бог не ждет, чтобы Его возлюбили, — “в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас” (1Ин.4:19,20; 8; 10). В этой любви к ближнему, поднимающейся до богоподобия, совершается очищение и освящение сердца. В такой любви веет Дух Святый. И такую любовь мы чтим в праведниках и угодниках Божиих, “возжигаемых любовию Духа,” по выражению преп. Макария Египетского.
Эта любовь сказывается прежде всего в молитве, в молитвенной памяти о всех, в горении сердца, томящегося чужим грехом, как отчуждением братьев от любви Божией, стремящегося “приобрести брата своего” (ср. Мф.18:15), — “ибо нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих” (Мф.18:14). Молитва есть первое дело любви, но не единственное. Любовь источается в милосердие. И Господь призывает к делам милосердия и любви. В делах милосердия человеческий подвиг вновь простирается к богоподобию. Ибо Бог милосерд, и кто достигает милосердия, сам становится причастником Божественного милосердия. Потому отцы видели в милости великий подвиг и почесть. Златоуст подчеркивал, что в своей беседе о Страшном Суде Господь ублажает именно милостивых, — “и вот что, заметь, удивительно, ни о какой добродетели Он не упоминает, кроме дел милостыни... ибо все добродетели ниже милосердия.” И можно говорить о христианской мистике милосердия. Это не простая сердечная отзывчивость или доброта. Ибо христианская милость должна видеть в нуждающемся и страждуем Самого Христа. Так прямо и звучат евангельские слова, слова Самого Господа: “Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; и жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и приняли Меня... Ибо, так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне” (Мф.25:35, 40). В таком смысле и объясняли эти слова Господа древние отцы. “Христос не ограничился только смертью и крестом, — говорил св. Иоанн Златоуст, — но благоволил сделаться нищим, странником, бесприютным, нагим, быть заключенным в темницу, терпеть болезнь, чтобы привлечь тебя к Себе. Если не воздаешь Мне за то, что Я страдал за тебя, — говорит Он, — то сжалься надо Мною ради нищеты... Склонись милостию хотя бы к самому естеству, видя Меня нагим, и вспомни о той наготе, которую Я терпел за тебя на кресте. А если не хочешь вспомнить о ней, представь наготу, какую терплю Я в лице нищих... Хотя Я избавил тебя от самых тяжелых уз, но для Меня достаточно и того, если ты захочешь увидеть Меня связанного.”.. Это значит, что Сам Христос скорбит о всякой нужде человеческой, приемлет ее на Себя, — и увидеть в ближнем Христа значит стать причастником Его спасительной и милосердующей любви. Это значит — войти в дух и разум Его спасительного дела. В святых мы чтим их великое милосердие; мы чтим их как милостивцев... В милосердии веет Дух, подающий освящение.
Так в святости человеческой мы видим и чтим явление любви, — не столько волевой героизм, сколько интимное движение сердца, загорающегося нераздельной любовью к Богу во Христе и потому пламенеющего такою же любовью к миру, какие открылись в явлении Сына человеческого. И это есть осуществление смысла человеческого бытия. Это — субъективная сторона святости. Но в последнем смысле мы чтим не человеческий подвиг, а силу Божию, открывающуюся чрез него, — мы чтим явление Духа Святаго, освящающего и животворящего. В святых мы чтим “изобразившегося Христа” (ср. Гал.4:19). Мы чтим в них “исполнение” Церкви, “исполнение” Христово (ср. Еф.1:23), — Царствие Божие, приходящее в силе, — т.е. чтим в них Христа. Как говорил преп. Иоанн Дамаскин, “должно почитать святых, как друзей Христовых, как чад и наследников Божиих..., потому что они по собственному расположению соединились с Богом, приняли Его в жилище сердца и, приобщившись Его, стали по благодати тем, что Он по естеству.”.. Иначе сказать, мы чтим в них “обожение” человеческого естества, Божие о них благоволение. Церковь узнает святых в своем составе, в своей среде, — и склоняется пред знамениями Духа. Святых Бог прославляет, — это некое слово Бога к человеку. И человек отвечает на это прославлением Бога. Бог являет угодников Своих, Церковь узнает это и приемлет, свидетельствует о Божией воле. “Дивен Бог во святых Своих.”..
В жизни христианской есть ступени, и в праведниках мы чтим преуспевших, — “подвигом добрым подвизался,” говорил о себе апостол (2Тим.4:8). Но это — общий подвиг, к которому каждый призван: “на сие самое создал нас Бог, и дал нам залог Духа” (2Кор.5:5). Одно и то же “призвание” обращено к каждому, — призвание к вечной жизни (1Тим.6:12), призвание в Божие Царство и славу (1Фес.1:12)... Иначе — призвание к святости или к освящению, к соединению со Христом, к жизни во Христе. Есть единый идеал христианской жизни, — есть ступени в его осуществлении, но нет разных идеалов или задач. В этом и заключается максимализм христианских заповедей, — “по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках” (1Петр.1:15). И речь идет не о том, что каждый должен творить те же и определенные дела, совершать определенные подвиги, — важнее внутреннее стремление, дух, а не форма подвига. “Достигайте любви” (1Кор.14:1), и она раскроется в делах. Христианин должен быть максималистом в своих упованиях, — ибо должен жить во Христе, быть членом Христовым. И это упование он должен оправдать делом своей жизни, — чтобы вместить и усвоить подаваемую ему благодать и воистину “стать сообразным” Воплотившемуся Слову (Рим.8:29). И это — единственная цель и единственный смысл жизни.
Человек создан Богом в жилище Его святой славы, чтобы являть Бога в делах своих, в самом себе. “Так да светит ваш свет перед людьми, чтобы видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного” (Мф.5:16). У каждого свой путь, но все пути — к единой цели, к жизни в Боге. Для этого благоволил Бог о создании человека.
Да будет воля Твоя!..
Счисление годов “от Рождества Христова” для многих давно уже стало только привычной условностью. Редко кто действительно чувствует и помнит, от какого великого “потрясения” ведем мы наше летосчисление, должны вести мы наш исторический счет. Есть в этом немощь нашего нечувствия и неведения... В старину же так прямо и обозначали время от воплощения Бога Слова... То значит — живем мы уже в обновленном и искупленном мире, уже в “царстве благодати,” и счисляем годы уже “новой твари.”.. Самое время тем уже знаменовано, уже освящено, озарено и высветлено тем вечным Светом, которого тьма не объяла... Ибо во времени уже действуется тайна спасения...” С нами Бог,” — с того таинственного дня, с той таинственной вифлеемской ночи... “С нами” — в новом и превосходнейшем смысле. “Бог явися во плоти” (Тим.3:16). И оттоле поклоняемся Богу, “сшедшему с небес.”.. Во исполнение времен Бог посылает в мир Сына своего, рождаемого от жены (Гал.4:4). “Сын Бога сын Девы бывает.”.. В этом залог и начаток нашего спасения, залог и источник жизни вечной. И о том веселится небесная и радуются земная, — об этой тайне Богочеловечества, об этой славе Божественного Воплощения... Тогда началось и открылось воистину “лето Господне приятно,” — и открылось внутри самой истории, в смирении и уничижении простой жизни... Звезда Завета вечного остановилась и горит над вифлеемским вертепом... И уничтожение вертепа свидетельствует, что открылось тогда царствие не от мира сего... То сбылось и случилось тогда — во дни Ирода царя, и в Вифлееме иудейском... Но это “тогда” есть и некое и непременное и непреложное “ныне.”.. Ибо то было именно начало, именно нового... Тогда началась евангельская история, открылся тогда Новый Завет... Пророчества сбылись, ожидания разрешились, обетование исполнилось... “И вселися в ны” (Ин.1:14)... И то Божественное нисхождение не есть только снисхождение Божие, но еще и явление славы. Тогда естество человеческое исцелено было и уврачевано, чрез это неизреченное Божественное восприятие, и вновь введено в общение Жизни Присносущной. И восстановилось тогда круговращение благодати, прегражденное в падшем мире грехом... “Небо и земля днесь совокупишася, рождгиуся Христу: днесь Бога на землю прииде, и человек на небеса взыде.”.. Отныне человеческое естество нераздельно и неразлучно сообщено с Божеством, в неприкосновенном единстве ипостаси Воплощенного Слова. Все стало оттоле новым... Так исполнилось превечное таинство и совет Любви Божественной. “Основавший бытие всякой твари, видимой и невидимой, единым мановением воли, прежде всех веков и всякого возникновения тварного мира неизреченно имел о нем тот преблагий совет, чтобы самому Ему непреложно соединиться с естеством человеческим через истинное единство по ипостаси, и с Собою неизменно соединить естество человеческое, — так, чтобы Самому стать человеком, как знает Сам, и человека сделать через соединение с Собою богом.” Так говорил о предвечном совете Божией преп. Максим Исповедник... Бог созидает мир и открывается, чтобы в этом мире стать человеком. И человек затем созидается, чтобы Бог стал человеком, и чрез то человек был обожен. Или, как говорил еще св. Ириней Лионский, “Сын Божий затем и стал сыном человеческим, чтобы и человек стал сыном Божиим.”.. Это сбылось. И в таинстве Рождества Христова уже предобразуется основание Церкви, “яже есть тело Его” (Еф.1:23), — “полнота” или “исполнение” Воплощенного Слова...
Но, вот, путь от Вифлеема к Сионской границе долог, и ведет он чрез Гефсиманию и Голгофу. И в самом Вифлееме новорожденному Богомладенцу волхвы с востока приносят погребальные дары... “Днесь Бог звездою волхвы в поклонение приводит, провозвещая свое тридневное погребение, яко в злате и смирне и Ливане.”.. И не обагряется ли почти что самый порог вифлеемской пещеры кровию младенцев Христа ради избиваемых, кровию первомученической и невинной... К самому Вифлеему простираются ищущие души Его... Так таинственно уже предваряется Слово Крестное... Господь и рождается ради этого часа Крестного. “Сего ради приидох на час сей” (Ин.12:27)... Господь рождается на смерть и пропятие, рождается ради смерти... “Для принятия смерти имел Он тело,” — говорит св. Афанасий Великий. “И не по причине рождения приключилась смерть, но напротив — ради смерти воспринято было и рождение,” — вторит ему св. Григорий Нисский... И чрез вольную страсть и смерть претворяется Рождественская радость в Воскресную, — в Пасхальную радость... То вторая и высшая победа Жизни... В самом Рождестве Христовом “побеждается естества чин.” И не столько освящается “естественное” рождение, сколько показуется и прообразуется высшее, “И чудесе рождества твоего сказати язык не может.”.. То тайна девственного рождения, — от Духа Свята... В Рождестве Христовом открывается не только слава Богочеловечества, но еще и тайна Богоматеринства...
О тайне Божественного Воплощения свидетельствует Церковь в очень четких и требовательных словах. И нас призывает к ответственной твердости и точности вероизъявлений... Великим именем “Богородицы” свидетельствует Церковь о славе Боговоплощения, о славе Единородного, тогда Рожденного от Девы, по человечеству. Как говорит преп. Иоанн Дамаскин, “это имя содержит все таинство домостроительства.”.. И тем самым свидетельствует о единстве Богочеловеческого лика. Двойство естеств мы созерцаем в нераздельном и неразлучном единстве, внутри неделимой ипостаси Воплощенного Слова. И об Одном и Едином сказуется обое, — и слава, и уничижение... “Ибо если родившая — Богородица, то Рожденный от нея — непременно Бог, но непременно и человек. Ибо, как от жены мог бы родиться Бог, имеющий бытие прежде веков, если бы Он не соделался человеком!.”.. Недоразумеваемая тайна Богоматеринства не исчерпывается одним рождением, как телесным рождением не исчерпывается и естественное материнство. Исполнение материнства — в любви, и в любви жертвенной. В этой любви размыкается косная самость сердца ради рожденного. В ней предпоказан естественный прообраз любви к другому или ближнему. Как к самому себе. В своей глубине и в своем исполнении материнство имеет духовный смысл, не только телесный... И вся эта правда естественного материнства включена и превзойдена в несказуемом и девственном Богоматеринстве... И эта любовь Благодатной к Рожденному от Нее не может быть преходящей, ни замкнутой... В чистой любви Матери Божией нет ничего произвольного, ни случайного, нет никакого пристрастия... Эта любовь вмещает и включает Крест, сраспростирается искупительной любви Сына... Ведь нельзя любить Христа воистину, если не последовать Ему в Его Крестной любви, если с Ним и в Нем не полюбить весь род человеческий... Любовь Богоматери в том достигает исполнения, что становится предстательством и покровом... Имя матери всегда знаменует любовь... Тем более имя Матери Света... “Много бо может моление матернее ко благосердию Владыки.”.. В таинстве Воплощения открывается Любовь Божественная, снисходящая и низводящая в мир мир и благоволение. Но открывается и любовь человеческая, отвечающая в смирении и согласии на Откровение Божие... Так тайна Рождества есть слава любви... В этом и радость Рождественского Откровения. “Если бы кто спросил, что мы чествуем и чему поклоняемся, ответ готов — мы чтим любовь” (слова св. Григория Богослова). “Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына своего Единородного дал есть, да всяк веруяй в онь не погибнет, но имать живот вечный” (Ин.3:16)... В этом тайна Рождества. И пред этой тайной любви склоняемся мы в эти дни священных воспоминаний, ее торжествуем и песнословим. И вспоминаем не о том, что было, и прошло, и прешло, — но о том, что сбылось и настало... И настала радость во веки... Настало в человецех благоволение... И мы счисляем годы благодати... Тако бо возлюби Бог мир...
В истории духовной жизни есть свои приливы и отливы. И бывают эпохи и времена, когда как-то особенно изобилуют дарования, и не в меру подает их Бог, и явно носится бурное дыхание Духа. Так было в первые времена христианства, когда еще оставались в живых и блаженные самовидцы Слова. Так бывало не раз в истории пустынного и общежительного подвига. Так будет, веруем, и еще не раз... В XIV веке святая Гора Афонская переживает один из таких подъемов. То был некий новый опыт безмолвия и бдения духовного, и в нем вновь открылись дивные озарения нетленного света Фаворского... Возрождение и восстановление созерцательной жизни на Афоне в эти годы связано с именем преп. Григория Синаита. Он пришел на Святую Гору из обители св. Екатерины. Он нашел здесь только трех отшельников, отчасти занимавшихся умным деланием в уединении своего скита. Сперва преподобный поселился один, в безмолвной келий. Вскоре у него появились ученики и подражатели; созерцательное делание начали восстанавливать понемногу и в больших лаврах и киновиях. В короткий срок это безмолвническое движение овладело Святою Горой почти вполне. Но оно перекинулось и дальше, в славянские земли. Сам преп. Григорий много путешествовал, проповедуя и основывая монастыри, — в Македонии им были основаны три великие лавры... Преп. Григорий учил хранению и трезвению ума, созерцанию, непрестанной и умной молитве. Сам он этому деланию научился у некоего отшельника на Крите, по имени Арсения... Нового по содержанию в этой проповеди и учении не было ничего. Это было восстановление и повторение заветов и преданий древнего подвига, преданий Синайского благочестия, заветов преп. Симеона и других древних. Это было учение о молитве и о стяжании Духа, прежде всего — о молитве Иисусовой... Есть трудный и долгий путь делания, путь заповедей или путь “практический.” И нужно его проходить со смирением, и пройти до конца. Однако то есть только начало пути, только еще начало подвига. Подобает ревновать о дарованиях высочайших. Созерцание или путь “теоретический” выше делания, выше и самой молитвы. Это ее предел, и начало большего... В самой молитве главное есть стяжание Духа. Многовидно действует Дух в молитве, и ощутимый знак Его содействия есть некая теплота сердечная... Всего важнее, чтобы пробудилось и ожило сердце, чтобы оно очистилось и освободилось от кружения помыслов, и установилось в чистом памятовании о Боге. Такая свобода от помыслов и есть безмолвие. Через молитву освобождается и ум, и прилепляется к Богу, в чистом ощущении или восприятии истины. Так достигается созерцание... И здесь новые ступени и новое восхождение. Только очень немногие в этой уже жизни входят в эту таинственную “землю кротких,” в эту блаженную землю чаяний и обетовании. Это есть скиния уже будущего века... И на высотах подвига начинается некая “божественная беседа” души. Как воск тает в огне, объемлется светом, и сам становится светом, и разливается в пламени, точно некая жидкость, — так и душа, объемлемая божественным огнем благодати, сама воспламеняется и делается светозарной и самим светом, и уже не своею силой действует, но силою Духа. Внутренно это сочетается со смирением, ибо все достигнутое — не от собственного подвига, а втуне, от Божественного подаяния. Это и есть дух кротости... И вот озаренная душа созерцает некий таинственный Божественный свет, — преп. Григорий называет это “преображением.” В этом свете и вся тварь уже представляется световидной. Преп. Григорий знал то по опыту. Не у него одного только был такой опыт. И в этом опыте не было ничего нового или неслыханного. О таких озарениях и явлениях света многократно свидетельствует Писание. И еще у Моисея лицо просияло лучами с тех пор, как говорил с ним Бог, и он принужден был покрывалом умерять этот нестерпимый блеск (ср. Исх.34:29-35)... “Свет был и явился Моисею во огне, когда видение сие опаляло, но не сжигало купину, чтобы и естество показать, и силу явить. Свет — и путеводившее Израиля в столпе огненном и делавшее приятною пустыню. Свет — восхитившее Илию на огненной колеснице, и не опалившее восхищаемого. Свет — облиставшее пастырей, когда довременный Свет соединился со временем. Свет — и та красота звезды, предшествовавшей в Вифлеем, чтобы и волхвам указать путь, и сопутствовать Свету, который превыше нас и соединился с нами. Свет — явленное ученикам на горе Божество, впрочем нестерпимое для слабого зрения. Свет — облиставшее Павла видение и поражением очей уврачевавшее тьму душевную. Свет — и тамошняя светлость для очистившихся здесь, когда праведницы, просветятся яко солнце, и станет Бог посреде их, богов и царей, распределяя и разделяя достоинство тамошнего блаженства.” Так перечисляет эти библейские озарения уже св. Григорий Богослов (слово 40, на Св. Крещение)... И спрашивается: что есть этот дивный и таинственный свет, и какова его природа... Что означают эти видения и озарения, в которых созерцатели находят такую сладость и утешение... И что есть этот таинственный свет Фаворский, в сиянии которого Спаситель явился избранным ученикам среди огненных пророков Ветхого Завета... Об этом свете Фаворском св. Григорий говорит прямо: “явленное ученикам на горе Божество.” И в этом смысле свидетельствует и вся служба Преображения (стихиры, самогласны и канон принадлежат Иоанну и Косьме). То был свет “неодержимый и незаходимый,” “заря Божества,” явление “Богосиянной плоти,” “свет невещественного Божества.” Это был свет присносущный... “Ныне видена быша апостолом невидимая Божества, во плоти на горе Фаворстей облиставша.”.. И вот, афонские подвижники и созерцатели утверждали, что и они в их опыте озаряются тем же Присносущным Светом, той же славою Фаворской... Вокруг этого опыта вспыхивает и завязывается долгий и мучительный спор, спор и о природе Фаворского Богоявления, и о смысле световидных или светоносных видений в молитве. О дерзновении афонских подвижников многие соблазнялись, и в особенности люди западнической или западной культуры, воспитанные уже в духе тогда расцветшей на римском Западе схоластической культуры, в частности в духе философии Фомы Аквинского. Среди них больше других выдвигался Варлаам из Калабрии, у которого впоследствии Петрарка учился греческому языку. Афонские созерцатели этим западникам казались не только простаками и простецами, но и грубыми суеверами, почти идолопоклонниками. Вспыхнувшая смута на долгие годы волнует всю восточную Церковь. Собирается ряд соборов, истинных и ложных... Спор решается богословским истолкованием светоносного опыта афонских созерцателей. В этом — богословский подвиг святителя Григория Паламы, святителя Фессалоникского. И за этот подвиг чтит его Церковь, творя его память в вторую неделю великого поста...
Святитель Григорий родился в самом конце XIII века, в знатной и придворной семье. Систематическое словесно-философское образование он соединяет со строгим аскетическим искусом. В совсем юные годы удаляется он на Святую Гору, с ним одновременно уходят в монастырь и другие члены семьи. Подвизается сперва в Ватопеде, потом в лавре св. Афанасия, наконец, в уединенном месте, — здесь пробыл он десять лет в молитвенном подвиге. Затем он возвращается к совместной жизни, поселяется в небольшом монастыре св. Саввы, и здесь принимает священство, “по повелению Божию.” В эти именно годы уединенного раздумья и созерцания слагается его богословская система или учение... Когда вспыхивает спор о Фаворском Свете, Григорий сразу становится руководителем православной стороны. Борьба шла с перемежающимся успехом, и св. Григорию пришлось перенести и изгнание, и заточение, и запрещение. В средине спора он был избран и поставлен архиепископом Солунским, но не сразу смог вступить на кафедру. В последние годы жизни он должен был еще претерпеть и агарянский плен. Почил он в 1360 г., и уже на соборе 1468 г. был прославлен и объявлен в лике святых, как за свои богословские подвиги, так и за чудотворения... Константинопольский собор 1351 г. приписывает исповедать, под прещением и страхом запрещения, о свете Фаворском, “что оный божественнейший Свет не есть ни тварь, ни сущность Бога, но есть нетварная, естественная благодать, воссияние и энергия, нераздельно и вечно происходящая от самой Божественнейшей сущности.”.. И все богословское учение св. Григория есть только объяснение и развитие этого определения, им же и подсказанного. Он твердо при этом держится святоотеческого Предания и в самих выражениях точно примыкает к древним отцам... В споре есть две стороны: вопрос о самом опыте, его аскетическая или мистическая оценка, и вопрос богословского обоснования или оправдания. Но обе стороны неразделимы. Важно помнить, то был жизненный и религиозный спор, не только школьное препирательство или распря среди богословов разных стилей и разного духа... Противники афонских “безмолвников” (или “исихастов,” от “исихия” — молчание, безмолвие) и о самом Фаворском свете утверждали, что это была некая вещественная и тварная вспышка, преходящая и вскоре потухшая, некий призрак или видение только. Ибо как может быть вещественно видимо Божество, и как может Оно так непосредственно открываться в здешнем мире. Тем более все световые озарения в опыте подвижников есть только видения, и часто обманчивые. Действительного причастия Божественной жизни в молитвенном делании человек не достигает, хотя бы его собственная природа в этом искусе и усовершалась. За этим стоит сложная и целостная система богословских и философских предпосылок... Св. Григорий и его последователи (их называли “паламитами”) в ответ на это развивают двоякое учение. О смысле молитвы, во-первых. И о различении в Самом Божестве “сущности” и “действий” (или “энергий”). В обоих случаях они твердо верны и держатся Предания... Молитва не есть только обращение человеческого сердца или ума к Богу, но именно общение с Ним, некое таинственное причастие Его благодати. Это Богообщение в молитве вполне действительно и подлинно. Самая душа в молитвенном делании преображается. Молитва есть стояние пред Богом с непокровенным умом и открытым сердцем. Потому и есть молитва дело страшное, требующее тщания, блюдения и трезвения. И есть в молитве действительные опасности, опасность прелести и мечтания. Следует иметь опытного руководителя в делании умной молитвы. “Веяние света тонкое и мирное, когда Христос вселится в сердце и таинственно воссияет в духе,” — таков предел и исполнение молитвы. Св. Григорий всячески настаивает на совершенной действительности единения или общения с Богом, — нужно говорить о самом присутствии Божием. И, однако, грань, отделяющая тварь от Творца, нисколько не сдвигается. Учение паламитов о молитве вполне напоминает дерзновенный опыт преп. Симеона, и более ранние свидетельства преп. Максима, или св. Григория Нисского, и даже Оригена... Что преискреннее общение душ совещающихся с Богом нисколько не противоречит основному учению Церкви о Божественной потусторонности и непознаваемости. Ибо не в одном и том же смысле Бог непознаваем и несообщим, — и познается и сообщается верным... Св. Григорий придерживается терминологии св. Василия Великого, который различает в Божественном бытии “сущность” и “действие.” Как говорил св. Василий, “мы утверждаем, что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действования Его до нас нисходят, — сущность Его остается неприступной. И действований много, но сущность проста и неделима.”.. Эти “действования” или “энергии” суть некие живые силы, — это существенные и животворящие проявления божественной жизни и бытия. Это есть Сам Бог, — поскольку Он Себя являет миру. Это есть лик Божий, обращенный к тварному миру... Но не нами воображаемый лик, — не то, что мы видим и как мы видим... А именно сущий и живой взор Самого Бога, которым Он и изволяет, и животворит, и хранит всяческая, — взор всемощной крепости и сверхизбыточной любви. В этом и состоит тайна этого “вездеприсутствия” Божия, которое (по выражению Златоуста) “мы не особенно понимаем,” и которое вполне совмещается с Божественной неприступностью. Бог неприступен в существе Своем, и сообщается в своих действиях... Противники паламитов отрицали возможность и правомерность такого различения или разграничения. И потому им приходилось отрицать подлинность Богоявлений в молитвенном опыте, и подлинность самого Богообщения, чтобы не впасть в некое пантеистическое смешение Божеского и человеческого. Иначе сказать, они толковали мистический опыт гораздо душевнее, — находили в нем больше чувств и переживаний, чем подлинного веяния Божия Духа... Паламу и паламитов они обвиняли в рассечении Божества и в том, что нечто третье точно вдвигается между Богом и миром. Такое обвинение было напрасным. “Сущность” и “энергия” в Боге различаются, но не разъединяются. Напротив, в действиях сущность является и проявляется. Различие здесь только в том, что действия есть проявления Божией воли... Бог сразу и далек, и близок. И тварь сразу и причастна Его благодатным действиям, — и о Нем и живет, и движется, и существует, — и бесконечно удалена от него... Свет Фаворский и есть одно и преимущественное из действий Божественных. Это есть луч Божества и существенный блеск Бога Слова. И чрез причастие этого Света Бог себя сообщает преуспевшим душам... И когда воссияет в душе нашей день и в сердцах взойдет солнце, изыдет истинный человек на истинное делание свое, и, направляемый внутренним светом, возводится на некие вечные горные вершины, чтобы там во свете Божией созерцать Божественные вещи. Это не есть усилие воображения. Но именно парение силой Духа, некое духовное “восприятие.”.. Силою этих “действий” божественных или “благодатных” человек и выходит за пределы своего естественного бытия, чтобы стать присным Богу и “причастником Божественного естества” (2Петр.1:4)... Весь смысл и задание богословия св. Григория Паламы именно в том, чтобы обосновать и утвердить подлинность духовного и молитвенного опыта, — подлинность и предметность того “обожения” или того богообщения, которого достигают святые и праведные, — те кроткие, которым дано обетование, что “Бога узрят.”.. Учение св. Григория было подтверждено и закреплено на соборах в Константинополе, при его жизни и позже, — в особенности на соборе 1351 г. Оттоле это свидетельство о Фаворском свете есть уже некий “член веры,” хотя и выраженный только отрицательно, в виде запрета допускать “тварный” характер Преображенского осияния. И Церковь подтверждает и напоминает о том в богослужении, больше, чем в богословии... “Да воссияет и нам грешным Свет Твой присносущный, молитвами Богородицы... Светодавче, слава Тебе.”..
1935.8 IV
Господь говорил к народу о Царстве Божием чаще всего в притчах. На этот раз Он уподобляет Царство домашнему хозяйству. Домовладыка — это Сам Господь, Виноградник есть Церковь, “егоже насади десница” Божия. Мы же — работники, которых Он посылает на делание. И великая честь и радость в том, что Он удостаивает нас Ему служить, для Него трудиться... Но Господь призывает нас к большему и к высшему. Мы — не только Его слуги, не только “рабы Господни.” “Я уже не называю вас рабами, — говорил Спаситель ученикам, — ибо раб не знает, что делает господин его; но Я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего” (Ин.15:15). Спаситель ясно различает и даже противопоставляет. Раб или слуга работает на своего господина из простого повиновения, исполняя приказ или заказ, и в своем повиновении он ограничен рамками сговора или приказа. Действительных целей или намерений господина он не знает. И вот мы, христиане, должны подняться выше этого уровня. Самое повиновение наше должно быть освещено высшим разумением. Воля Божия нам открыта. Мы должны уразуметь и усвоить задачи и намерения нашего Небесного Владыки, стяжать ум Христов и творить дело Божие, как наше собственное. Ибо Он призывает нас быть не только работниками, но “соработниками” Его (1Кор.3:9). Он поручает нам продолжать и заканчивать Его собственное дело, дело нашего спасения и спасения наших братьев, и всего мира. Мы должны войти в самый дух и смысл Его спасительного домостроительства. И нам дана для этого новая сила и власть, “власть быть чадами Божиими” (Ин.1:12). Мы — не наемники, которые работают только ради платы или награды, и готовы состязаться с домовладыкой о справедливой цене. Для нас Господь больше, чем только Владыка. Он есть наш Отец. И мы приняли “Духа усыновления” (Рим.8:15). Мы уже не рабы и более, чем только друзья, мы сподобились стать сынами Всевышнего и присными Богу. И потому любовь должна быть движущим началом самого нашего служения и работы. Даже блудный сын, по своем возвращении, не был лишен своего сыновства и не был допущен стать в ряду наемников и слуг... И еще более: мы — члены Христовы в Церкви, которая есть тело Его. Его жизнь нам привита Духом Святым, в Него мы облечены при нашем новом рождении “водою и Духом,” в крещальной купели. Его воля нам открыта, Его жизнь нам дана. Мы уже не принадлежим себе, но Христу: не из послушания только, но по любви. Как все это далеко от наемничества и рабства. Это — служение в совершенной свободе... И вот, допросим себя самих, со смирением и чистосердечно, — вправду ли мы преодолели этот наемнический соблазн? Не остались ли мы внутри себя все еще рабами? Не думаем ли мы слишком много о воздаянии и о награде? И когда мы ищем Царства Божия, то не потому ли, слишком часто, что ждем, что все прочее приложится нам?.. Главное здесь не в заслугах. Подлинная вера неразрывно связана со смирением, и никто из верующих не считает, ибо не знает за собою никаких заслуг. Он знает, напротив, и сознает свою немощь. Он знает, что нельзя оправдаться от дел закона. Он знает, что даже тогда, когда он исполнил бы действительно все повеленное ему, он должен считать себя рабом, “ничего не стоящим,” и не притязать на благодарность (Лк.17:9,10). Он знает, что всего он никогда не в силах исполнить, и что все доброе, что ему дано было сделать, было даром свыше, даром милости и благодати, а не его собственным достижением. Только в суеверии и в самообмане способен человек стязаться с Богом о заслугах и наградах... Но есть иное и более опасное искушение, тем более опасное, что очень часто мы не только его не замечаем, но даже принимаем его за добродетель. Не думаем ли мы обыкновенно о самой нашей вере всего больше со стороны той пользы, которую она нам и другим приносит? Не измеряем ли мы слишком часто даже ее истинность мерилом полезности? Не оправдываем ли мы ее, в своих глазах и в чужих, ее жизненными или житейскими приложениями, — тем, что она нам дает, чем она нас утешает, награждает и вознаграждает? И кажется нам, иначе и рассудить невозможно. Мы так привыкли примерять веру Христову к нашей жизни. Многие из нас остаются в Церкви, и даже возвращаются в нее после долгих скитаний на стороне, потому что нашли для себя в христианском вероучении разрешение своих умственных недоумений, удовлетворение своих умственных запросов. Для них христианство есть прежде всего высшая мудрость или философия. Для других в нем всего важнее его нравственное учение, наивысший образец и путь добродетельной жизни. Иные находят в Евангелии ключ к социальному вопросу, образец справедливого общества, на основе взаимного служения и братолюбия. Еще иные находят в христианском богослужении образец неземной и непревосходимой красоты. Еще иные вспоминают об исторических делах христианства, вообще или особенно в жизни своего народа, и оно связывается в их сознании неразрывно со славою или с силою их отечества. И вряд ли не большинство думает так или подобным образом. Христианская философия, евангельская мораль, “социальное Евангелие,” вера предков или родное православие, умилительная красота богослужений, сладкопение и великолепие храмов, — есть ли это уже все христианство, и чего еще нам не достает. “Что есмь еще не докончал” (Мф.19:20). И мы глубоко смутимся и даже вознегодуем, если нам скажут, что все это, даже вместе взятое, не только не все, но именно вовсе не то, что нужно. Мы действительно слишком часто просто не понимаем, что значит возлюбить Бога всем сердцем, всей душою, всем помышлением. А ведь это не только высшая, но и первая “заповедь,” и в Законе, и в царстве Благодати... Что же она значит, чего от нас требует? От нас теперь, в Церкви Христовой? Задумаемся и проверим себя. Странным образом, ведь все то, чем мы дорожим в христианстве, в нашем опыте так часто отрывается от Самого Христа. Можно стоять за веру предков и отцов и не иметь духа Христова, жить в братоненавидении и в нечувствии. Можно благотворить и не знать живого Христа. Можно говорить о христианских началах и идеях, и никогда не встретить на своем личном пути Христа Спасителя. Мы все живем обломками и отрывками христианства, или произвольными выборами из него, но из отрывков и обломков целого никогда не сложишь. Потому мы всегда предпочитаем говорить о христианстве, о православии, о заветах прошлого, как бы избегаем сказать прямо о Христе. Но подлинное христианство есть именно Он, и только Он Сам. И все прочее имеет смысл только в Нем: и мудрость, и нравственность, и добродетель, и справедливость, и красота, и умиление, любовь к отечеству. Вот этого многие из нас, христиан, совсем не сознают и не видят. Не ищут Самого Спасителя. Потому готовы спасать христианство на полях кровопролитных сражений, мечтают о православном мече, судят инакомыслящих сурово и без жалости. И напротив, всегда смущаются и негодуют, когда христианство не бывает облечено внешним блеском, земной славой и силой, не сопровождается внешним успехом или успехами. Не значит ли это, что мы больше всего ждем награды, воздаяния, земных приложений к Царству Божию, и ради них и самое Царствие ищем? Кто же воистину нашел драгоценную жемчужину, тот ничего иного не ждет, не ценит, ничем больше не дорожит, но все забывает, отдает ради этой единственной ценности. И тогда избирает благую часть, она же никогда от него не отымется, если только сам не соблазнится... Все это звучит странно и сурово. Но в Церкви нет легких и широких путей. В Церкви нельзя пребывать силой одного только послушания. Нужен еще личный и творческий подвиг, строение своей собственной личности. Быть христианином — значит жить во Христе, стоять всегда перед Ним, любить Его всей силой своей благодарной и жертвенной любви. Ничего другого не любить больше, даже того, что само по себе достойно любви. Даже домашние могут стать врагами человеку на его христианском пути, если они заслонят от него Спасителя. Путь христианский есть путь всецелого отречения. И мы все не решаемся отречься до конца, слишком многое стараемся сберечь из мирских ценностей, и остаемся христианами только настолько, чтобы наша вера не колебала наших мирских привязанностей и, напротив, подкрепляла их безусловностью своего авторитета... Такое половинчатое христианство неизбежно оказывается бездейственным и бессильным. Нельзя служить двум владыкам... Истину нужно любить не за то, что она полезна или утешительна. В Бога веровать нужно не потому, что от Него исходят житейские блага, и не для того, чтобы стяжать от Него мирское благополучие. Нужно Его полюбить бескорыстно, и тогда в Нем откроется такая полнота жизни, пред которой потускнеют все наши житейские привязанности... Только тогда мы перестанем быть наемниками. И в сыновней любви к Небесному Отцу сподобимся вечной радости и жизни вечной.
Соблазн учеников (Ин.13:12-30).
“Аминь, аминь, глаголю вам, яко един от вас предаст Меня”... Какое жуткое предупреждение, совсем неожиданное в праздничной обстановке праздничной Вечери. Господь был здесь среди Своих избранных учеников, которых Он Сам избрал (Ин.15:6) для того, чтобы они всегда с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. Он объяснял им тайны Царствия (Мк.4:11) и поручал им благовестие об этом открывшемся Царстве и для того облек их таинственной властью над духами нечистыми (Мк.14-15; Мф.10:1; Лк.6:13), той властью, которая всегда больше и яснее свидетельствовала о Его мессианском достоинстве. Им предназначено было, в пакибытии, воссесть на двенадцати престолах судить о полноте Израиля (Мф.19:27-29). И вот, “один из них,” один из Его присных избранников, предаст Его, один из них есть диавол (Ин.6:70). Как это странно и страшно. И понятно смущение и недоумение апостолов, их скорбь и растерянность. Но Господь настаивает: “се рука предающаго Мя со Мною есть на трапезе” (Лк.22:21).
Недоумеваем и смущаемся и мы. Как среди Двенадцати мог оказаться льстец и предатель? Разгадывать эту темную тайну предательства нас побуждает не праздное любопытство. Предательство избранного ученика не есть только случайная подробность в истории Спасения. Оно как-то внутренне связано с самой тайной нашего спасения. Вряд ли можно объяснить падение и предательство Иуды Искариотского его нравственной низостью, видеть в нем просто порочного человека. Такому человеку не было места в апостольском соборе... На Иуду некогда пал выбор Спасителя. Очевидно, в нем было что-то, оправдывавшее такой выбор. Спаситель не мог ошибиться и ввести злодея в тесный круг Своих доверенных учеников. В падении Иуды мы должны видеть не простую нравственную неустойчивость, но какой-то более глубокий и страшный грех. Этим нисколько не оправдывается его предательство, напротив — еще более отягощается его вина. Он предает Христа-Мессию, как один из Его присных. Он знал, что Христос есть Сын Благословенного и с этим знанием предает Его. Потому он затем и “раскаивается” и совершает над собой самосуд отчаяния. Его предательство есть грех мессианской неверности и ложной мессианской надежды. И потому это не только его личный грех.
И прежде всего, Иуда совсем не одинок в своем предательстве. Он предает Учителя законным властям своего народа, первосвященникам и воеводам. В своем предательстве он заодно со своим народом, с избранным народом Божиим, и с его признанными вождями, со священниками Божия храма и с книжниками, толковниками Божественного закона. Он как будто поступает по закону, как “по закону нашему” осуждают Спасителя ветхозаветные архиереи лета того и старцы людские. Падает Иуда не один. Падает весь народ, и это падение скрепляется именем закона. Предававшие и осуждавшие Иисуса воображали, что они служат Богу. И постольку не знали, что творили... Только в связи с этой общей неверностью и ослеплением Израиля становится понятным и особое предательство одного из Двенадцати. Иуда последовал за Иисусом, очевидно, потому, что узнал и признал в нем обетованного Избавителя, Христа Господня, пришедшего спасти людей Своих, Израиля, и воцариться в доме Иаковлеве вовек. Другие не узнавали и соблазнялись. Роковым образом соблазнился, в конце концов, и Иуда. Очевидно, потому, что поколебался в своей уверенности. Не забудем, что в ту страшную ночь “соблазнились” и все Двенадцать. “Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь,” — предупреждал их Господь (Мф.26:31; Мк.14:27). “Вот наступает час и настал уже, и вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного” (Ин.16:32). Все Его оставили и бежали (Мф.26:56; Мк.14:50), не только в страхе, но и в смущении, не разумея происходившего. Правда, Петр и другой ученик следуют за Ним во двор архиереев, но здесь Петр отрекается от Него. На Голгофу следует за Иисусом только один возлюбленный ученик. У креста стоят только он и Матерь Иисусова, и другие жены, следовавшие за Ним из Галилеи. Их приводит и удерживает здесь скорее непреоборимая верность любви, чем ясновидение веры. О женах мы знаем, что и для них смысл происходившего был скрыт, и они озабочены были тогда тем, чтобы помазать тело умершего Учителя. Они не сомневались, что найдут Его в гробу, и опустевший гроб их пугает, как изумляет он двоицу апостолов — Петра и Иоанна. Иоанн видит и верует только тогда. Тайна веры еще не раскрылась в ночь страданий, но и тогда торжествовала над всем любовь.
Что же смущало и соблазняло Одиннадцать? Какого сомнения и соблазна не вынес Иуда, “и не восхоте разумети”? Почему не узнал Израиль и не принял Того, Кто был его Славою? Ибо здесь единый вопрос, одна тайна. На этот вопрос нетрудно ответить. Иисус из Назарета, “иже бысть муж пророк, силен делом и словом пред Богом и всеми людьми” (Лк.24:19), не был похож на того, каким представляли себе иудеи обетованного и чаемого ими Избавителя, Христа Господня. И благовествовал Он не то, чего они ждали. Их ожидания как будто были не без почвы. Образ Грядущего они воссоздавали или строили от Писания, от Слова Божия, свои упования они вычитывали из пророческих предсказаний. Господь и Сам отсылал недоумевающих к Писаниям: ибо они свидетельствовали о Нем. И Он объяснял их, “начен от Моисея и от всех пророк,” как свидетельство о Себе: и Закон, и псалмы, и пророков... Это все те же книги и Писания, что толковали книжники и старцы, и не без основания надеялись найти в них жизнь вечную. Но толкования расходились. Книжники не находили в Писаниях того, что открывал в них Иисус, не понимали, что они свидетельствовали о Нем. Они находили в них только осуждения для Него. Их восприимчивость была притуплена, духовный взор помрачен. Их очи “держались” и не видели. Это было скорее помрачение веры, чем падение нравов. Снова спросим: в чем же корень соблазна? Почему Камень, положенный во спасение, оказался для многих камнем преткновения и соблазна?
Апостол из фарисеев назвал этот соблазн: это соблазн Креста. Иудеи ждут и ждали чудес, “знамения” (1Кор.1:22-23). Их, может быть, убедило бы чудо: если бы Иисус сошел с Креста, они, быть может, признали бы Его Христом. “Иудеи знамения ищут,” но знамение (т.е. чудо) им не дается, кроме знамения пререкаемого, неожиданного и беспокоящего, кроме “знамения Ионы пророка.” Крест, т.е. уничижение и страдание, в сознании книжников не совмещался с достоинством Мессии, посланника всемогущего Господа Славы. В образе Страждущего Праведника, предначертанном Исайей пророком, они не смогли узнать Мессию, не относили этого пророческого видения к чаемому Избавителю. Они ждали видимого и осязательного наступления Царства Божия, земного освобождения и мирской славы своего народа, возмездия врагам, поражения поработителей. Они ждали и жаждали земной победы, земного величия, мирского благоденствия. И потому они отвергли Иисуса. Это не был тот, кого, они ждали. Это был ложный пророк. Царствие не от мира сего их не привлекало, его проповедь казалась им опасным лжеучением, возмущением народов. И даже верные ученики Спасителя, которые сердцем своим не сомневались, что Иисус есть воистину Христос, умом своим не умели вместить этого Откровения сердца, и недоумевали, бессильные преодолеть этот внутренний разлад. “А мы надеялись, было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля” (Лк.24:21). Так было даже после Воскресения! И даже еще позже Одиннадцать вопрошают: “Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилево?” (Деян.1:6). Даже они, которым Воскресший Господь открывал тайны Царствия (ст. 3), ждут еще земного Царства. Только Дух Утешитель просветит и откроет их разум.
В Иудином предательстве раскрывается этот общий соблазн плотского мудрствования, жажда земного благоденствия и мирского явления Божественной мощи и славы. В христианском мире, казалось бы, уже нет вовсе места для подобного соблазна. Церковь живет победою Креста и в нем видит подлинное явление Божией мудрости и силы (1Кор.1:23). И, однако, не напрасно Церковь напоминает нам всем об Иуде Предателе, и тоже в са” мые торжественные минуты церковной жизни, когда “со страхом Божиим, верою и любовью” мы приступаем к “чаше спасения.” “Ни лобзания Ти дам, яко Иуда....” Это не просто красноречие, неуместное в такую торжественную минуту, но строгое напоминание и предостережение. Ибо каждому угрожает тот он мый соблазн плотского мудрования, который тяжко смущал ветхозаветного иудея “во дни плоти” Спасителя, который смутил торжественный покой Тайной Вечери. Мы все тоже избранники: “род избран, царское священие, язык свят, люди обновления” (1Петр.2:9). По силе крещальных обетов, мы — воинство! Христово. Мы — члены Тела Христова, Церкви. И вот и к нам не обращено ли то самое страшное предостережение: “Един от вас предаст Меня”?
Бывают открытые отступники и предатели. Не о них сейчас речь. Еще опаснее скрытое отступление, иногда даже не сознаваемое, и слепая неверность. Мы всегда предаем Спасителя, когда падаем и согрешаем, когда ради нашей неправды и немощи имя Христово хулится среди неверующих и неверных, от слабости христиан заключающих к бессилию христианства. Но еще более мы предаем Его, когда искажаем самые Его заветы и Его учение, когда мы их переделываем под внушением все того же плотского мудрования. Наше сердце слишком привязано к “миру сему,” и мы постоянно стараемся приспособить учение и заповеди Христовы к условиям этого мира, так чтобы они ничего в этом мире не потрясали и не осуждали, чтобы мы могли жить по-прежнему и все же считать себя христианами. Мы собираем для себя из Евангелия все легкое или что кажется легким, и все трудное объявляем необязательным, только советами, обращенными к ревнителям особого совершенства, забывая, что, по прямому слову Спасителя, совершенными должны быть все. Мы готовы забыть или даже замолчать заповедь о любви к врагам, объявляя ее невозможной или несвоевременной, ибо нужно беспощадно ненавидеть врагов, если не личных, то, во всяком случае, врагов отечества и врагов истины, забывая, что любовь к врагам в изображении Спасителя поставлена мерилом и залогом подлинной любви. Мы хотели бы спасения без подвига, христианства без самоотречения. Мы избегаем усилия мысли в постижении учения веры, под предлогом опасностей заблуждения; мы избегаем воспитания сердца и воли. Мы убеждаем себя и других, что христианство не запрещает мирских радостей и успехов, что в широте своей оно все благословляет, почти что все позволяет. И не вспоминаем, что Спаситель не напрасно же говорил об “узком пути.” Мы готовы со всем примириться и все оправдать: и насилие, и жестокость, и самолюбие, и гордость, и несправедливость, особенно в общественной жизни. И на этот раз вспоминаем обычно, что Церковь — “не от мира сего,” а потому не должна препятствовать “миру сему” жить по-своему, не должна и не смеет в мирские дела вмешиваться. Иными словами, должна с ним примириться и даже его оправдать. Мы ценим и дорожим в христианстве тем, что оправдывает нашу народную гордость, усиливает нашу народную силу и славу, что полезно для наших житейских успехов и благополучия. Нам дорого христианство тем, что оно было верой наших предков и связано множеством нитей со сладостными воспоминаниями русской старины. О родном Православии мы говорим чаще, чем об истине Христовой. Ревнители же совершенства пусть уходят в пустыню и не мешают нам прикрывать христианскими одеждами мирские вожделения и цели. Мы же живем в миру и должны жить по-мирскому. Однако христианское имя пусть нам останется.
И все же наступает час покаяния. Допросим себя, за Христом ли мы идем, Ему ли следуем, Его ли благовестие проповедуем? Не предаем ли мы его своей мнимой преданностью Его заветам? Не угрожает ли нам соблазн Искариота? Оживим для себя подлинный образ Спасителя, поставим себя перед Его лицом. Припомним подлинные заветы и заповеди Святой и Апостольской Церкви, опыт и наставления духовных мужей и наставников. И тогда, в подлинном смирении и бдении сердца, разоблачится все лукавство и вся тщета наших мирских ухищрений и самооправданий. Тогда поймем, что не к кому нам идти, кроме Христа Распятого, что не за кем следовать, кроме Него. Ибо у Него только одного глаголы вечной жизни. Не нужны будут тогда все ценности здешней жизни, ибо найдем драгоценную жемчужину.
Возьмем свой крест и пойдем за Ним.
Оптина пустынь была не единственным духовным очагом, как и “молдавское влияние” (старца Паисия. –Ред.) не было единственным, не было и решающим. Были и тайные посещения Духа. Во всяком случае начало прошлого века в судьбах Русской Церкви отмечено и ознаменовано каким-то внутренним и таинственным сдвигом. Об этом свидетельствует пророческий образ Преподобного Серафима Саровского, его подвиг, его радость, его учение. Образ вновь явленной святости оставался долго неразгаданным. В этом образе так дивно смыкаются подвиг и радость, тягота молитвенной брани и райская уже светлость, предображение уже нездешнего света. Старец немощный и притрудный, “убогий Серафим” с неожиданным дерзновением свидетельствует о тайнах Духа. Он был именно свидетелем скорее, чем учителем. И еще больше: его образ и вся его жизнь есть уже явление Духа. Есть внутреннее сходство между Преподобным Серафимом и святителем Тихоном. Но Преподобный Серафим еще более напоминает древних тайновидцев, преподобного Симеона больше других, с его дерзновенным призывом искать даров Духа. Преподобный Серафим был начитан в отцах.
В его опыте обновляется исконная традиция взыскания Духа. Святость преподобного Серафима сразу и древняя и новая: “Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божьяго.” И нет других целей, и быть не может, все другое должно быть только средством. Под елеем, которого недостало у юродивых дев евангельской притчи, Преподобный Серафим разумел не добрые дела, но именно благодать Всесвятаго Духа. “Творя добродетели, девы эти, по духовному своему неразумию, полагали, что в том-то и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать... а до того, получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли они ее, им и дела не было.” Так со властию противопоставляется морализму – духовность. Смысл и исполнение христианской жизни в том, что Дух вселяется в душе человеческой и претворяет ее “в храм Божества, в пресветлый чертог вечного радования.” Все это – почти что слова преподобного Симеона, ибо опыт все тот же (и не нужно предполагать литературное влияние)... Дух подается, но и взыскуется. Требуется подвиг, стяжание. И подаваемая благодать открывается в некоем неизреченном свете (сравните описание Мотовилова в его известной записке о Преподобном Серафиме).
Преподобный Серафим внутренне принадлежит византийской традиции. И в нем она вновь становится вполне живой.
Старец Силуан был смиренен, но учение его смело. И это не смелость любознательного ума, занятого умозрительными исследованиями и доводами, а бесстрашие духовной уверенности Так, по словам старца, “совершенные ничего не говорят от себя, но только то, что Дух дает им сказать.” Старец Силуан, конечно же, среди совершенных. Это “совершенство” есть плод смирения, которого можно достичь — и, что не менее важно, удержать и сохранить — только постоянным и непрерывным усилием по самоотвержению и самоотречению. Но самоотречение — вовсе не отрицательное усилие, вовсе не само-отрицание, само-умаление или само-уничижение. Напротив, это процесс восстановления истинного себя; и начало ему дают вера и любовь. Человек отказывается от себя ради Христа по своей великой любви к Нему; у этого процесса положительное стремление, оно всегда созидательно. Это, как говорил преподобный Серафим Саровский, “стяжание Духа Святого.” Здесь действительно парадоксальное напряжение. Цель духовных исканий возвышенна и дерзновенна: consortium divinae naturae (причастность Божественной природе — Пер.), стать “причастниками Божеского естества” (2 Пет 1:4). Как бы это поразительное место Писания ни интерпретировалось, оно ясно и определенно указывает на конечную цель всей христианской жизни: “жизнь вечную,” жизнь “во Христе,” “со-творчество Святому Духу.” Греческие Отцы использовали даже такое смелое выражение как theosis 'обожение'. Однако самый верный путь достичь этого — решительное само-отречение; награда дается только смиренным и кротким. Более того, и само смирение не является достижением человеческим, оно всегда — дар Божий, даваемый свободно, gratia gratis data (благодать, данная благодатью — Пер.). Все устроение духовной жизни на самом деле парадоксально — богатства Царства даются только бедным; а вместе с богатством дается власть. Смиренные ничего не говорят от себя, но всякий раз, когда они вообще побуждаются говорить, они говорят с властью. И власть им нужна не для себя, а чтобы через их посредничество раскрылось то, что исходит свыше. В противном случае они должны хранить молчание. “Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все” (1 Ин 2:20).
Слова старца Силуана просты; в них действительно нет ничего эффектного, кроме их собственной простоты. У него нет особого “призвания” разоблачать. Обычно он говорил об общих вещах, и все же даже об общих вещах он говорил совсем не обобщенным образом. Он не стеснялся говорить о своих сокровенных переживаниях. Любовь — это и начало, и самый центр устремлений христианина. Но на “новизну” христианской любви так часто не обращают внимания и пренебрегают ею. По словам Самого Христа, единственно истинная Любовь — это “любовь к врагам.” И это вовсе не настоятельное указание и тем более не свободный выбор. Это скорее первый критерий, отличительный признак подлинной Любви. Этот взгляд столь же настойчиво высказывал и апостол Павел. Господь любил нас и тогда, когда мы были к Нему враждебны. Сам Крест — это вечный символ и знак такой Любви. И христиане должны разделять искупительную Любовь своего Господа. Иным образом невозможно “устоять в Его Любви.” Старец Силуан не только говорил о любви. Он любил. Со смирением и в то же время бесстрашно он отдавал свою жизнь молитве за врагов, за погибающий и отвращающийся от него мир. Но без абсолютного смирения такая молитва — опасная и сомнительная попытка. Легко восчувствовать свою любовь, но потом она окажется разъеденной и зараженной тщеславием и гордыней. Невозможно любить совершенно, кроме как любовью Самого Христа, вливающейся в смиренное сердце и действующей в нем. Невозможно быть святым, кроме как осознавая себя “жалким грешником,” безусловно нуждающимся в помощи и прощении. Только Божия благодать смывает весь позор и исцеляет всю немощь. Слава святых является в их смирении, так же как слава Единородного является в абсолютном унижении Его земной жизни. Любовь Сама распинается в мире.
В своем духовном восхождении старец Силуан испытал печальный опыт “темной ночи,” полного одиночества и оставленности. Но в нем никогда не было мрачности или уныния. Он всегда был тих и спокоен, всегда излучал радость. Это была радость о Господе, совершенно отличная от любой мирской радости. Мы знаем из истории его жизни, что эта радость была приобретена долгой и изнуряющей борьбой, непрекращающейся “невидимой бранью.” Оставшись один, человек ощущает отчаяние и одиночество. Спасение только в Господе. Душа должна соединиться с Ним. Человек никогда не останется один, если только сам не оставит Бога. Старец Силуан опытно знал страх и опасности внешней тьмы. Но он так же опытно узнал и бесконечность Божественной Любви. Она сияет даже сквозь бездну испытаний, мук и горя. Именно потому, что Бог есть Любовь.
Старец Силуан пребывает в давно существующей, древней традиции. Он не был единственным даже в своем собственном времени. В каждом поколении был сонм свидетелей Тайн Царства Божия. Наша беда в том, что мы не знаем их, не интересуемся ими и их свидетельством. Мы поглощены мирскими заботами. История старца Силуана — это своевременное напоминание нашему поколению о единственном благе, которое никогда не отнимется, а также приглашение в паломничество к вере и надежде.
Примечания
(1) Rt. Rever. G. Florovsky. Foreword // Arhim. Sophrony (Sakharov). The Undistorted Image: Staretz Silouan (1866-1938). -L. The Faith Press, 1958. -Pp. 5-6. Это издание — первый краткий вариант той книги, которая ныне известна под заглавием “Старец Силуан.”
Печатается по изданию: Протоиерей Георгий Флоровский.
Старец Силуан / Пер. с англ. Н.А. Ерофеевой //
Альфа и Омега. -1998. -N 1(15). -С.122-124.
+ + +
В предисловии 1958 года к сочинениям русского старца Силуана (+ 1938), с которым он встречался на Афоне и чья фотография висела в его рабочем кабинете, Флоровский выразил свое восхищение святым, совершающим подвиг восхождения через полнейшее одиночество во тьме внешней к тому, чтобы принять наконец помазание Святого Духа, к познанию всех вещей (ср. 1 Ин. 2: 20) в простоте, познанию того, что Бог есть любовь и что Сама Любовь была распята в мире.
Печатается по изданию: Дж. Уильямс. Неопатристический синтез Георгия Флоровского // Георгий Флоровский: Священнослужитель, богослов, философ. -М.: Прогресс — Культура, 1995. -С. 318.
Миссионерский Листок # 95k Свято-Троицкая Православная Миссия Copyright © 2004, Holy Trinity Orthodox Mission 466 Foothill Blvd, Box 397, La Canada, Ca 91011, USА. Редактор: Епископ Александр (Милеант)
Православная беседа >> Библиотека >> Флоровский Георгий, прот. 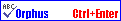
На правах рекламы: