|
|
Пути русского богословия
II.
Встреча с ЗападомВ жизни русского Запада XVI-й век был временем трагическим и тревожным. Это было время напряженной религиозной борьбы и богословских споров. В середине века вся Польша и особенно Литва охвачена реформационным возбуждением. Это возбуждение и беспокойство очень чувствовалось и в православной среде...
Всюду являются кальвинские проповедники и министры. Их поддерживают местные магнаты, особенно в Литве (достаточно назвать имя Радзивилов). Еще раньше образуются общины “чешских братьев…”
В Польше в это время находят себе приют и убежище разного рода религиозные вольнодумцы, гонимые у себя на родине. В частности, широко распространяется учение антитринитариев или социниан (у нас называли обычно “арианами”). Польша становится как бы второй родиной и новым центром антитринитарианского движения. И в самой Польской реформации всего сильнее были именно “либеральные” мотивы...
Католическая церковь сравнительно скоро локализовала это протестантское брожение. Решающим было вмешательство иезуитов, призванных в помощь знаменитым кардиналом Ст. Гозием, одним из главных деятелей Тридентского собора. От обороны отцы-иезуиты сразу перешли в наступление. В короткий срок им удалось разрешить поставленную задачу: религиозно перевоспитать (не только переубедить) католическое общество и самый клир. Проповедь и школа были главными средствами борьбы и пропаганды. И, кроме того, иезуиты получают преобладание при дворе, особенно в правление Сигизмунда III (1587-1632). К концу века Польша снова была вполне католической страной...
Русская Церковь не была готова тогда к этой воинственной встрече с Западом. Современники с горечью говорят о “великом грубиянстве и недбалости” местного клира. И всего менее была подготовлена к борьбе высшая иерархия. Политические вопросы интересовали западно-русских епископов тогда больше, чем вопросы веры, — “и вместо богословия учатся хитростям человеческим, адвокатской лжи и диавольскому празднословию” (отзыв Иоанна Вишенского)...
ХVI-ый век кончается почти повальным отступничеством иерархии, отпадением в Унию... Вся тяжесть православной самозащиты падает на церковный народ. И в соборном творчестве крепнет церковное самосознание ... Задача предстояла сложная и трудная. Строго говоря, нужно было разобраться во всех исторических разногласиях Востока и Запада. И найти или определить православное место среди противоречий тогдашнего Запада. Иначе сказать: решить вопрос о Риме и рассудить реформационный спор... Конечно, такая задача и не могла быть разрешена вдруг и сразу. Это программа для многих поколений. Нужно было предвидеть, что первые опыты полемики не будут очень удачны. К тому же в борьбе мешало невольное разъединение мирян и иерархии.
2. Старец Артемий и князь А. М. Курбский.
Среди западно-русских писателей ХVI-го века особо нужно отметить московских изгнанников (скорее беглецов). Это — старец Артемий и князь А. М. Курбский. Артемий, бывший Троицкий игумен, был осужден в Москве за ересь (“в некоторых люторских расколах”). Из Соловков, куда он был сослан под начало, ему удалось бежать за Литовский рубеж. Здесь он сразу втягивается в спор и борьбу с претестантами и арианами. Захария Копыстенский впоследствии так говорил о нем: “преподобный инок, споспешствующу ему Господу, многих от ереси арианской и люторской в Литве отвернул, и чрез него Бог справил, же весь русский народ в Литве в ереси тые ся не перевернул...”
Особенно интересны послание Артемия к Симону Будному, влиятельному кальвинскому и позже социнианскому министру (принадлежал к крайней левой польского арианства, к т. наз. “нон-адоранцам” и сочетал библейский критицизм с началами деизма, срв. влияние Спинозы). В них поражает дух терпимости, дух евангельской кротости. Чувствуется, что пишет ученик заволжцев. Будного Артемий называет братом, “для общаго человеком прирожениа,” — и этой связи, чувствует Артемий, не может разрушить и самое “зловерие лжеименного разума…”
По условиям полемики Артемий всего больше должен был говорить об обрядах, о внешнем благочестии вообще. Но сам он очень далек от всякого обрядоверия. Для него христианство есть прежде всего внутреннее делание, “деяние Креста,” — аскетический подвиг, путь безмолвия и собирания духа. Чаще всего он ссылается на Исаака Сирина, на Василия Великого, на Ареопагитики и на Дамаскина...
Артемий не был только начетчиком, он живет в отеческих преданиях. И, подобно преподобному Нилу Сорскому, настаивает на испытании писаний…
В другом стиле действовал Курбский (1528-1583). Он не вел прямой полемики. Встревоженный успехом “скверных ересей,” он не менее был встревожен беспечностью и неподготовленностью православных: “а мы неискусны и учитися ленивы, а вопрошати о неведомых горды и презоривы.” И, прежде всего, ревновал об общем укреплении православного сознания. Для этого звал вернуться к истокам, к первоисточникам вероучения. Курбский был ревнителем отеческих преданий. Его смущало (и возмущало), что православные так мало знают и мало читают творение отцов: “наших учителей чуждые наслаждаются, а мы гладом духовным таем, на свои зряще...”
Он удивляется, что не все отеческие творения переведены по-славянски. И прежние переводы его не удовлетворяют. Он решается переводить снова. При этом вспоминает Максима Грека, которого восторженно чтил и называл “превозлюбленным учителем...”
Курбский переводил с латинского, не с греческого, — и нарочито для того учился по латине. Он обращался на Запад, — ибо туда после взятие Константинополя вывезены все греческие книги, “вся газофилакия книжная,” и там переведены по латине. Так понял он рассказ Максима Грека. Именно по Максиму и судит Курбский о Западе, ищет там греческие предания...
Курбский не только спорил с Царем Московским и не только сводил с ним сословно боярские счеты. Он был не только ехидным и ядовитым памфлетистом. Курбский был искренним ревнителем православной культуры...
Кругозор Курбского типично византийский. Его можно назвать скорее всего византийским гуманистом. Отеческое богословие и эллинская мудрость смыкаются для него в единое целое. Он напоминает, что “древние учителя наши в обоих научены и искусны, сиречь, во внешних учениях философских и в священных писаниях.” И сам он кроме отцов Церкви изучает внешних философов, Аристотеля прежде всего (Физику и Ифику), еще Цицерона. Вероятно, от Цицерона у него (стоическая) идея естественного права. К Аристотелю он пришел, конечно, через Дамаскина...
У Курбского были большие переводческие планы. Он собирался перевести великих отцов IV-го века. Для этого собирает и организует кружок переводчиков или “бакаляров,” как сам их называет, для классического учения. Родственника своего, кн. Мих. Оболенского он посылает в Краков и в Италию учиться “вышних наук.” Курбский приобретает (а Западных изданиях) “все оперы” Златоуста, Григория, Кирилла Александрийского, Дамаскина... Перевести удалось сравнительно немногое. Начал Курбский со Златоуста и перевел сперва сборник его поучений (“Новый Маргарит”). Затем переводили Дамаскина, — Богословие, Диалектику, “Небеса,” мелкие сочинения. Из других отцов были переведены только отдельные статьи и поучения, еще отрывки из истории Евсевия. По-видимому, Курбскому принадлежит еще ряд интересных экзегетических сводов: Толковый Апостол особого состава, “Сокращение толковых пророчеств” (обычно, но неосновательно приписывается Максиму Греку), Толковая Псалтирь догматического содержания, составленная главным образом по Феодориту и псевдо-Афанасию, но с умелым и богатым подбором и других отеческих текстов. Все эти книги рассчитаны для споров с “арианами.” И в них сказывается живой догматический интерес, ясность и трезвость сознательной веры...
Важно не столько то, что Курбскому удалось сделать и закончить. Важно уже само намерение, один уже замысел его и план работы... Курбский не был только книжником или только эрудитом. У Курбского было живое чувство современности. Он стремился к творческому обновлению отеческих преданий, к оживлению и продолжению византийской традиции. У него чувствуется цельный религиозно-культурный идеал, и это был идеал словено-греческой православной культуры (его он противопоставляет “польской барбарии”)...
3. Начало печатания богословской литературы на Западной Руси.
Курбский не был одинок в своих литературно-богословских начинаниях. В середине XVI-го века в Литве развивается православное книгопечатание. И эта издательская деятельность вдохновлялась прежде всего апологетическими заданиями. Прежде всего нужно было бороться с протестантской и особенно с “арианской” пропагандой. Важно подчеркнуть: в целях борьбы издают не столько обличительные книги, сколько именно первоисточники...
В ряду издательских предприятий того времени всего важнее, конечно, Острожская Библия (1580). Это не только просветительный, но и богословский памятник. Издание было задумано с полемическим расчетом, — это прямо видно из предисловия, где читателя предостерегают против тех, кто “злохулно с Арием исповедати дерзают,” якобы на основании Священного Писания. К тому же ведь и вообще национальная Библия везде бывала одним из средств реформационной пропаганды; большинство западно-русских библейских переводов выходит именно из протестантской среды. Известный перевод Фр. Скорины (1520-е годы) связан с гуситством. Курбский о нем отзывался резко: “с препорченных книг жидовских,” и отмечал его сходство с “Люторовым Библием.” В действительности Скорина переводил по чешской гуситской Библии 1509 года, при помощи латинских постилл известного Николая де-Лиры. Другие переводили тоже с чешского или чаще с польского. Таковы переводы русских социниан: Евангелие Василия Тяпинского (около 1580 г.) с польской Библии Симона Будного, Новый Завет Валентина Негалевского (1581) с польского издания М. Чеховича. И часто это бывал не столько перевод, сколько пересказ или переложение, — и довольно ясно чувствовалась инославная тенденцие и в самом тексте, и еще более в объяснительных примечаниях. Во всяком случай, все эти западно-русские переводы отрывались от восточной библейской традиции. И в этой связи значение Острожской Библии определяется уже тем, что она сознательно и критически обоснована на греческом тексте. В основу издание был положен Геннадиевский свод (список удалось получить из Москвы не без труда). Но текст был заново и с большим вниманием пересмотрен, на основании сличение многих славянских списков, и еще раз сверен с греческой Библией (вероятно, по печатным изданиям, Альдинскому и Комплютенскому). При этом латинизмы Геннадиевского текста были во всяком случае сглажены и смягчены, хотя и в Остроге пользовались Вульгатой...
По-видимому, в Остроге был под руками достаточно богатый и разнообразный материал. Судить о нем приходится по самому тексту перевода. Князь К. К. Острожский собирал рукописи повсюду, — и в пределах Римских и в славянских землях, и в монастырях греческих, болгарских, сербских. Писал и в Константинополь, к патриарху, и просил его прислать “людей, наказанных в писаниях святых эллинских и славянских,” и еще “изводов добре исправленных и порока всякого свидетельствованных.” Ему удалось собрать в Остроге кружок “различных любомудрцев,” которые и работали над изданием. “Найдовалися тут и мовцы, оному Демосфенови ровный. Найдовалися тут и докторове славный в греческом, славянском и латинском языках выцвечоныи. Найдовалися мафематикове и острологове превыборныи” (Зах. Копыстенский). Не всех мы знаем: Герасим Смотрицкий, первопечатник Иван Федоров, священник Василий Суразкий, автор книги “О единой вере,” священник Демьян Наливайко, брат известного гетмана — особо нужно назвать Яна Лятоса, бывшего Краковского профессора, математика и астронома, принужденного уйти из Кракова из-за своего бурного сопротивление введению Нового стиля...
Работа над Библией была сложная и кропотливая. В предисловии Острожские издатели отмечают несовершенства рукописного предания, “но токмо разньствия, но и развращения,” и, при всех своих больших неcовершенствах, Острожская Библия в общем исправнее и надежнее латинской Вульгаты по знаменитому Сиксто-Климентову изданию. Это одно показывает всю значительность культурно-богословского подъема в Западной России конца XVI-го века...
Но всего важнее при этом ненарушенная и живая связь с византийским преданием. В Остроге вдохновлялись тем же заданием словено-греческой культуры, что и Курбский. Известное Острожское училище было устроено скорее всего по греческому образцу, в числе учителей мы встречаем греков. У Острожского была мысль и надежды создать в Остроге славяно-греческий культурный центр, превратить тамошнее училище (“трехязычный лицей”) в подлинную Академию, как бы в противовес Римской униатской коллегии св. Афанасия (так оценивал замыслы Острожского униатский митрополит Рутский). Этот замысел не осуществился, и сама Острожская школа существовала слишком недолго. Более того, этот замысел оказался неосуществимым!..
Для того было много причин. Время было смутное и трудное, не хватало сил, не хватало людей. Но всего важнее — настроение в Острожских кругах было неустойчивым и двоилось. Кн. К К. Острожский был непохож на кн. Курбского, который и за рубежом остался непреклонным москвитянином и филэллином, как ни мало любил он современную Москву и как много ни работал он по западным и латинским книгам. Острожский был уже скорее западным человеком. И кроме того, он был общественным и национально-политическим деятелем прежде всего, потому слишком часто бывал неосторожен и шел слишком далеко в вопросах примирение и соглашения, был способен на компромисс. Бесспорный ревнитель православия, он вместе с тем принимал известное участие в подготовке Унии, и дал повод и основание ссылаться на его сочувствие. Женат он был на католичке (Тарновской), и старший сын, князь Януш, был окрещен по католическому обряду. И в то же время он был настолько близок с социнианами, которых уважал за умелую постановку и развитие школьного дела, что не колебался прибегать к их помощи в своих начинаниях. Так опровержение на книгу Скарги “о греческом отступлении” Острожский поручил писать социнианину Мотовиле, к величайшему негодованию и возмущению Курбского, для которого Мотовила был “помощником Антихриста,” как последователь нечестивого Ария, Фотина и Павла Самосатского. “В таковую дерзость и стультицию начальницы христианские внидоша, иже не токмо тех ядовитых драконов в домех своих питати и ховати не стыдятся, но и за оборонителей и помощников их себе мнимают. И что еще дивнейшего: за духовных бесов духовную церковь Божию оброняти им рассказуют и книги сопротив полуверных латинов писати им повелевают…”
С ригоризмом Курбского соглашались вряд ли многие. Казалось: почему же не радоваться, что даже “геретики” заступаются за православную веру?!...
И в спорах и борьбе ведь нельзя было медлить и выжидать... В общей борьбе за веротерпимость и за религиозную свободу православные и протестанты оказались невольными “конфедератами,” и латинский натиск отвлекал внимание от протестанской опасности. Очень характерен Виленский съезд православных и кальвинистов в 1599 году, когда не только был заключен религиозно-политический союз между ними, но был поставлен и вопрос о соглашении в вере, причем сходство или единство определялось от противного, по противоположности латинской вере. Кстати заметить, переговоры с “разноверцами” входили в свое время в программу либеральных католиков в Польше и Литве, в эпоху Сигизмунда Августа...
Дальнейшего движения проект соглашения не имел, но богословское сотрудничество с протестантами продолжалось. Православные полемисты пользовались западной обличительной литературой, особенно по вопросу о папском главенстве, — на эту тему нередко повторяли доводы больших реформационных соборов (Базельского и Констанцкого), имела большую популярность известная книга сплетского архиепископа Марка Антония Господнечича, de Dominis (обращалась и в местных рукописных переводах, впрочем, позже)...
Социниане часто выступали в защиту православия, — правда, под чужими именами, как бы под маской... В этом отношении особенно характерен “Апокрисис,” изданный под именем Христофора Филалета в 1587 г., в ответ на книгу Скарги о Брестском соборе. Автор прикрылся литературной маской, греческим псевдонимом, выдавал свою книгу за перевод. Вряд ли этому многие верили. Кажется, автора узнавали и под ложным именем. Современным исследователям узнать его много труднее. Во всяком случае, автор не был ни русским, ни православным. Можно с достаточным основанием догадываться, что это был Мартин Броневский, секретарь Стефана Батория и дипломат, дважды ездивший послом к Крымскому хану, автор ценного труда “Описание Тартарии.” (Descriptio Tartariae, Coloniae Agripp. 1545). Он был хорош и близок с Острожским, принимал деятельное участие в конфедерациях православных и евангеликов. Каз. Несецкий в своем известном “гербовнике” отзывается о нем очень лестно...
В “Апокрисисе” по местам чувствуется очевидная близость к Institutiones christianae Кальвина. Еще автор пользовался тогда совсем новой книгой Сибранда Любберта: De papa Romano (1594). Ею же пользуется Мелетий Смотрицкий...
Не следует преувеличивать глубину этого “протестантского” влияния. Однако, известный налет “протестантизма” навсегда остался на украинском народном складе, несмотря на сильнейшее воздействие латинизма впоследствии. Всего важнее и опаснее было то, что русские писатели привыкли обсуждать богословские и религиозные вопросы в их западной постановке. Опровергать латинизм ведь совсем еще не значит укреплять православие. Между тем в полемический оборот в это время вливаются доводы реформаторов, далеко не всегда совместимые с православными предпосылками...
Нужно прибавить: и на греческую помощь не всегда можно было положиться. Ведь греческие учителя обычно приходили с Запада, где учились сами, в Венеции или в Падуе, или даже в Риме, или в Женеве или в Виттенберге, и приносили оттуда не столько византийские воспоминания, но чаще западные новшества. В ХVI-м веке это бывали обычно протестантские симпатии, позже напротив прикрытый латинизм. Само греческое богословие переживало в то время глубокий кризис. Достаточно напомнить о Кирилле Лукарисе и его “Исповедании,” кальвинистическом не только по духу, но даже и по букве...
Исторически эта прививка протестантизма, может быть, и была неизбежна. Но под этим западным влиянием идеал православной культуры мутится и тускнеет...
И был еще выход: воздержание от спора. Такой образ поведение предлагал известный Иоанн Вишенский, афонский инок (“во святей афонстей горе скитствующий”), тоже отвечавший Скарге, по предложению Константинопольского патриарха Мелетия. Он называет себя простаком (“голяк-странник”) и западному мудрованию противопоставляет “простоту голубиную” и “глупство пред Богом.” Впрочем, не следует Вишенскому верить на слово. Сравнительный анализ его писаний показывает в нем человека, стоящего на уровне и в курсе идейных и литературных движений польского и западно-русского общества, — “писатель с темпераментом и с литературной опытностью” (срв. у него влияние Ареопагитик)...
И тем более характерно у него это резкое отрицание “поганской мудрости” и “машкарного разума.” Вишенский прям и резок. “Чи ти лепше тобе изучити часословец, псалтир, охтоих, апостол и евангелие с иншими, Церкви свойственными, и быти простым богоугодником, и жизнь вечную получити, нежели постигнути Аристотеля и Платона и философом мудрым ся в жизни сей звати — и в геену отъити...”
Вишенский отвергает именно схоластику, схоластический стиль и метод, .художество риторского ремесла,” “плотское и внешнее мудрование.” Иначе сказать, увлечение внешней культурой и культурностью, культурным блеском и лоском. “Ты же, простой, неученный и смиренный Русине, простого и нехитрого Евангелия ся крепко держи, в нем же живот вечный тебе сокровенно есть...”
Поганским хитростям схоластики Вишенский противополагает простоту веры, “смиренно-мудривый охтаик.” И, конечно, он был прав, что униатскую опасность можно преодолеть только в духовном подъеме; — не в художестве внешнего наказания, но смиренномудрии...
В аскетической верности и в молитвенном напряжении, а не в спорах... Но подлинная трудность была в том, что из спора нельзя было выйти. И нужно было отвечать и ответить на заданные вопросы, — иначе могло создаться впечатление, что ответить нечего. Молчать и отмалчиваться нельзя было постоянно... И приходилось равняться с противником хотя бы в роде оружия... Победа была не в воздержании, но в преодолении...
Уния в действительности была и оказалась расколом. Она расколола западно- русскую Церковь, разъединила иерархию и народ. Это было прежде всего клерикальное движение. Уния была делом епископов, действовавших в отрыве от церковного народа, без его свободного и соборного согласия и совета, “скрыто и потаенно, без поразуменья народу хрестьянскаго.” И создавалось странное положение: во главе православного народа оказывалась униатская иерархия. Вместе с тем эти униатские епископы свое подчинение Римской власти и юрисдикции считали “соединением церквей.” А потому противление народа рассматривали, как каноническое своеволие и мятеж, как восстание непокорной паствы против законной иерархической власти. Конечно, напротив, православные видели в этом непослушании и в этой неизбежной антииерархической борьбе только исполнение своего христианского долга, долга верности и веры. “Не попы бо нас спасут, или владыки, или митрополиты, но веры нашея таинство с хранением заповедей Божиих, тое нас спасти маетъ,” писал с Афона Иоанн Вишенский. Он резко обосновывает право церковного народа низлагать и изгонять епископов-отступников, — “да не с тым блазненным оком или пастырем в геену внидутъ...”
Борьба против Унии и была прежде всего проявлением соборного самосознание церковного народа... Это сказывается в образовании и деятельности знаменитых братств... Как церковные и “религиозно-оборонительные” учреждения, братства организуются уже в 80-х годах, — в Вильне в 1586, во Львове в 1586. И сравнительно скоро сеть братств раскидывается по всему западному краю. Братские уставы получали свое утверждение от Константинопольского патриарха, а на местах закреплялись королевскими привилеями. В своей деятельности братства были самостоятельны. Ставропигальные братства даже вовсе не зависели от местного епископа, подчиняясь непосредственно патриарху. Мало того, Львовскому братству одно время было даже предоставлено право наблюдение и суда над епископами, и при том суда “без всякого прекословия” (т. е. без права апелляции), наперед скрепленного анафемой четырех восточных патриархов. Это было вызвано обстоятельствами времени, когда именно иерархия была в Западной Руси всего менее устойчива и надежна. Однако, была здесь и некоторая двусмысленность и опасность. Разъединение и разрыв иерархии и мирян не могли не отражаться болезненно и на мирянском самосознании и самочувствии. Отсюда частые недоразумение и столкновение братств с местными церковными властями. “Восстановление” православной иерархии (иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 г.) не сразу разрешило болезненное напряжение в Западно-русской Церкви... Ставропигией пользовались старейшие братства, Виленское и Львовское, одно время еще и братства Луцкое, Слуцкое и Киевское, позже Могилевское. После Брестского собора именно братства становятся опорными точками в религиозно-общественной борьбе, становятся очагами литературной полемики и богословской работы. Братства организуют школы, открывают типографии, издают книги…
Первые братские школы были устроены по греческому образцу. Греческое население в южно-русских и молдавских городах было тогда значительным (здесь проходил один из путей греческого рассеяния), и связи с Константинополем были постоянными. Греческое влияние во всем чувствовалось, слабеет оно только во вторую половину XVII-го века...
Во Львове школа была организована известным Арсением, архиепископом Елассонским, впоследствии Суздальским. Греческий язык занимал здесь видное место в преподавании. Учителя назывались “дидаскалами,” ученики “спудеями.” Во Львове, и в Вильне, и в Луцке, ученики нередко научались говорить по-гречески...
Проповедники того времени позволяли себе приводить библейские тексты иногда по-гречески, и вообще тогдашний западно-русский литературный язык перегружен греческими словами. В братских библиотеках было довольно много греческих книг, и в описях мы встречаем и Аристотеля, и Фукидида... Весь дух преподавания был греческим. Правда, с самого начала к греческому языку присоединяется и латинский. Но большинство относилось к латинской науке сдержанно и опасливо, как к опасным “выкруткам” и “софистиям.” Очень характерен отзыв З. Копыстенского: “латинникове силлогисмов и аргументов ся учат любопретися и един другого препирати, а грекове и россове держат правую веру и доводят правды ей з писма святого.” Копыстенского никак не следует сравнивать со старцем Филофеем, и даже и с Вишенским. По его книгам мы можем судить, как велика была его начитанность и как свободно и сознательно распоряжался он своим материалом. Копыстенский хорошо знал отеческие творения, читал византийских историков и канонистов, читал и новые книги о Востоке, напр., известную “Турко-Грецию” Мартина Крузия, читал и латинские книги. Это был ученый, не начетчик, — но ученый византийского типа. Он сознательно отвергал западную схоластику. Собственно, он говорил об этом почти дословно то же, что в свое время Максим Грек...
Уния была скорее актом культурно-политического, нежели религиозного самоопределения. Не религиозные и не догматические мотивы были решающими в отступничестве иерархов. И есть известная психологическая правда в утверждениях первых униатов, что они “не меняли веры.” Им казалось, что они меняют только юрисдикцию, а веру латинскую и греческую они считали собственно эквивалентными. (В этом основная мысль и ранних униатских памфлетов: “Уния, албо выклад преднейших арътикулов,” Вильна, 1595; Harmonia, albo concordantia wiary, sakramentow у ceremoniy Cerkvi S Orientalniey z Kosciolem S. Rzymskim, Wilna 1608). Тогда многим казалось, что можно оставаться “православным” и “под Римским послушанием.” Во всяком случае, в самом соглашении была оговорена неслиянность Унии с латинской Церковью, — иначе сказать, обрядовая и иерархическая обособленность Унии; и большего тогда не требовал и кн. Острожский. Против Унии он боролся тогда не потому, что видел в ней измену веры, но потому, что она была проведена потаенно и без ведома и согласия Константинопольского патриарха и вне сношений с Москвой, почему и не могла иметь ни общецерковного значения, ни авторитета...
Первых устроителей Унии соблазняла надежда под римской властью найти “безмятежный покой,” т. е. защиту польского закона. Хотелось также освободиться от зарубежной власти Константинопольского патриарха. Очень привлекало культурное сближение и соединение с Западом. В этом отношении характерен ответ Ипатия Поцея, второго униатского митрополита и одного из главных устроителей Унии, в письме к александрийскому патриарху Мелетию Пигасу...
“Греческий берег не может быть надежным путем жизни вечной...”
Евангелие у греков искажено, отеческие предания поруганы и перерваны, святость оскудела, — все расстроилось и распалось в турецкой неволе...
В Александрии вместо Афанасия теперь Кальвин, в Константинополе Лютер, и в Иерусалиме Цвинглий (намек на Кирилла Лукариса и на самого Мелетия, учившегося в Аугсбурге). И Поцей предпочитает Рим. На Западе теперь “студенец правды,” чистота веры и твердый порядок... Еще П. Скарга в своей книге О jednosci kosciola Bozego pod jednym pasterzem i о greckiem od tej jednosci odstapieniu (Вильна, 1577) говорил не столько о догматических разногласиях, сколько о “греческом отступлении” и о славянской отсталости. “Со славянским языком нельзя сделаться ученым. На этом языке нет ни грамматики, ни риторики, да и не может быть. Именно из-за славянского языка у православных нет иных школ, кроме начальных, для обучения грамоте. Отсюда общее невежество и заблуждение.” И Скарга видел и указывал единственный выход в латинской культуре...
Защитники славянского языка всегда подчеркивают прежде всего его близость к греческому: “отколь беспечнейшая есть речь и увереннейшая философию и феологию славянским языком писати и з грецкого преводити, нежли латинским, который оскудный есть, же так реку до трудных, высоких и богословных речий недоволный и недостаточный” (“предмова” Захарии Копыстенского к его переводу бесед Златоуста на послание aпостола Павла, Киевское издание 1623 года)...
Так с самого начала вопрос об Унии был поставлен, как вопрос культурного самоопределения. Уния означала самовключение в западную традицию. Это было именно религиозно-культурное западничество. И преодолеть Унию можно было только через верность и крепость византийским и патристическим преданиям. Так именно и понимали свою задачу первые борцы за православие в конце XVI и в начале XVII века. (Срв. защиту греческой культуры уже в брошюре “Ключ царства небесного,” 1584 г., которую обычно приписывают Герасиму Смотрицкому, и в “Палинодии”)...
Нет нужды входить в подробную характеристику писанных или изданных тогда книг. Время было смутное, время междоусобных смут и восстаний, время войн и набегов, — “великий сполох.” После Брестского собора польская власть рассматривала неприятие унии, как отрицание существующего порядка, и полемику против нее, как противление государственному закону. “Греческая вера” не была признана законом. Авторам полемическик книг не только возражали, их преследовали и наказывали, — а сами книги отбирались и уничтожались. В таких условиях трудно было много сделать, трудно было создавать правильную школьную сеть и систему, налаживать систематическую работу, сохранять ясность и спокойствие мысли. И, однако, сделано было совсем не мало. Трудно в достаточной мере оценить все историческое значение тогдашних изданий...
Сперва главными очагами православной самозащиты были Вильна и Острог, затем вскоре выдвигается Львов, в начале XVII-го века Киев. Изменяется и та социальная среда, на сочувствие и поддержку которой могли опираться православные апологеты. В эпоху Курбского и Острожского это было высокородное шляхетство. Но уже в следующем поколении начинается массовое отпадение шляхетских фамилий в Унию или прямо в латинство. Большое значение все время имеет городская Среда. В XVII веке выступает казачество, “рыцарские люди” Войска Запорожского...
Около 1615 года мы находим в Печерской Лавре как бы колонию ученых иноков, собранных здесь новым архимандритом Елисеем Плетенецким (главным образом из Львова). В том же году возникает знаменитое Киевское братство. В Лавре устраивается типография {была куплена и перевезена Стрятинская типография Балабанов), и, начиная с 1617 года выходит ряд изданий — отеческих творений и богослужебных книг. Особо нужно назвать Памву Берынду (автора книги: “Лексикон славено-российский и имен толкование,” 1627 года, был родом из Молдавии); Тарасия Земку, ученого издателя литургических книг и составителя похвальных “вершей;” Лаврентия Зизания, автора неудачного Катихизиса, издавать который автор ездил в Москву, где не без труда ему удалось очиститься от подозрений в не правомыслии, но отпечатанный уже Катихизис был все-таки сожжен (1627 г.)...
Все они старались работать по греческим и славянским материалам, в их работе чувствуется большое культурное воодушевление...
Одновременно учреждается Братская школа, при содействии казаков, гетманом которых был тогда Сагайдачный, человек школьного образования и культурных вкусов (“шол потом до Острога, до на к уцтивых которыи там квитли”)...
Об этой школе Киевские братчики так писали в Москву: “и училище отрочатом православным милостию Божиею языка славено-росского, еллино-греческого и прочиих дидаскалов великим иждивением устроихом, да не от чуждого источника пиюще, смертоносного яда западные схизмы упившеся, ко мрачно темным римляном уклонятся.” В этой связи уместно отметить, что в своих изданиях тогдашние деятели очень охотно пользуются разговорным языком (“русским диалектом”), т. к. книжный славянский не всем был легко понятен. Можно догадываться даже, что и в храмовом богослужении иногда употребляли современное наречие (срв. Постную Триодь 1627 года). Того же приема держался и П. Могила...
Из оригинальных трудов киевских писателей этого времени всего значительнее “Палинодия” Захарии Копыстенского (с 1624 года Печерский архимандрит, преемник Плетенецкого). Это был ответ на книгу Л. Кревзы: Obrona jednosci cerkiewney (Вильна, 1617). Копыстенский развивает в своей книге “восточное” понимание церковного единства и с большим искусством обосновывает его от Писания и от отцов. Чувствуется большое и свободное знание материала, эта была работа многих лет. Отчасти Копыстенский пользовался и книгой Марка Антония, но весь материал проработал заново. Книга написана спокойно и отчетливо. В свое время она издана не была, вряд ли случайно. Копыстенский рано умер. Его преемник на Печерской архимандрии был человек уже совсем другого духа. Это был Петр Могила. Книга Копыстенского не могла ему не показаться слишком резкой и прямолинейной...
Впрочем, не следует преувеличивать резкость переворота. Настроения менялись скорее постепенно. По необходимости обращались к западным книгам. Новое поколение проходило уже вполне западную школу. Привлекал и западный, латинский пример...
Кажется, и сам Елисей Плетенецкий следовал западному примеру и задумывал создать православный орден (по чину Василия Великого) для борьбы с Унией, — не случайно, восстанавливая общежитие в Лавре, он вводит здесь устав Василия Великого, а не более обычный Студийский...
Латинские мотивы встречаем и у других членов Печерского кружка, иногда из греческих источников. Так, Тарасий Земка в своих литургических работах пользовался книгой известного Гавриила Севира о таинствах (вышла в Венеции, 1600), здесь влияние западных воззрений сказываемся очень ясно. В частности здесь встречаем уже μετουσίωσις, — Земка перевел: “преложение существ...”
У других писателей того времени латинское влияние сказывалось еще резче. В этом отношении особенно характерен образ Кирилла Транквиллиона Старовецкого. В его “Зерцале богословия” (издано в Почаеве уже в 1618 г.) чувствуется веяние томизма, отчасти платонические мотивы. Эта книга, как и его “Учительное Евангелие” (1619), была встречена недоброжелательно и осуждена, в Киеве и в Москве, “за еретические составы,” что не помешало ее распространению и популярности. Сам Кирилл впоследствии перешел в Унию...
Вполне томистический характер имеет книга “О душе” другого писателя той же эпохи, Кассиана Саковича, тоже отпавшего в Унию. Одно время он учил в Киево-братском училище.
Есть что-то загадочное и двусмысленное в образе Петра Могилы. Трудно понять, был ли он искренним ревнителем православия или скорее искусным соглашателем... Между тем, его историческое влияние было решающим. И обоснованно его именем обозначают целую эпоху в истории Западно-русской церкви и культуры...
Могила был вряд ли не самым сильным и властным из западно-русских церковных деятелей XVII-го века. У него был подлинный державный пафос, умение и охота властвовать и побеждать. Сын молдавского господаря, “воеводич земель молдавских,” он и в звании Киевского митрополита оказался всего скорее господарем, правителем скорее, чем пастырем...
Точно не знаем, где учился Могила. Всего вероятнее, что в Замойской академии. Во всяком случае, воспитан он был вполне в западном, т. е. в польском духе. М.б., на короткое время побывал он и в Голландии. Это был убежденный западник, западник по вкусам и привычкам. После смерти отца опекунами Петра Могилы были известный канцлер Ст. Жолкевский, а потом гетман Ходкевич. У Могил вообще были крепкие и родовые связи в польском аристократическом обществе. Сочувствие и содействие польских магнатов впоследствии не мало помогло Могиле в его начинаниях...
В очень и очень молодые годы Могила оказывается Печерским архимандритом, — по-видимому, именно для этого он вообще и поступил в Лавру; кандидатура его в архимандриты была подсказана Польским правительством. И сразу же Могила стал действовать по своему. Всего яснее и резче это сказалось в устроении Лаврского училища. По замыслу Могилы это должна была быть латино-польская школа. И Могила создавал ее не только рядом, но и в противовес уже существовавшему Братскому и славяно-греческому училищу. Потому так и встревожились в Киеве. “От неученых попов и казаков велие было негодование: на што латинское и польское училище заводите, чего дотуду не было, и спасались. Было хотели самого Петра Могилу и учителей до смерти побити, едва их уговорили.” Так рассказывает современник (Сильвестр Коссов). Из этого столкновения и спора победитетем вышел Могила. Братчикам пришлось признать его “старшим братом, опекуном и фундатором того святого братства, обители и школ,” и передать братское училище в его ведение. Братская школа растворилась во вновь заведенной, в новой латино-польской “коллегии,” которая и была вскоре перемещена из Лавры в Братский монастырь...
Программа этой новой школы была взята из иезуитских школ. И для преподавания были привлечены и вызваны в Киев латинские выученики, — Исаия Трофимович Козловский, первый ректор Киевских школ, и Сильвестр Коссов, первый префект, оба учились, по-видимому, в Люблинской иезуитской коллегии, а потом в Замойской академии (м. б., и в Вене, в Цесарской академии). Одновременно была учреждена “коллегия” и в Виннице (несколько позже была перенесена в Гощанский или Гойский монастырь на Волыни). Можно догадываться, что у Могилы был план раскинуть по всему краю сеть латино-польских школ для православных, создать нечто вроде церковно-учебного ордена, с Киевской коллегией или “академией” во главе (срв. “Пиарский” орден, Ordo piarum scholarum)...
Могила и его сподвижники были откровенными и решительными западниками. Они стремились объединить русских и не русских за единой культурной работой, в единой психологии и культуре...
И та глухая, но очень напряженная борьба, которую мы все время наблюдаем вокруг всех начинаний и предприятий Могилы, означает именно эту встречу и столкновение двух религиозно-психологических и религиозно-культурных установок или ориентаций, — западнической и эллино-славянской…
Могила не был одинок в своих замыслах и затеях. У него было много друзей, — это было новое поколение, прошедшее западную школу, для которого именно Запад, а не восток был своим. И были поводы подозревать, что это западничество есть своеобразное униатство, скрытый романизм. Во всяком случае, представители этой западнической ориентации все снова и снова сговаривались и совещались с униатами, в расчете создать такой компромисс, на котором могли бы согласиться обе спорющие стороны. Не раз выдвигался план соединить униатов и “дизунитов” под властью особого и единого западно-русского патриарха, который был бы сразу в общении и с Константинополем, и с Римом. И в патриархи латино-униатская партия всегда выдвигала именно Могилу, вряд ли без его ведома. Рутский считал, что он вполне “расположен” к Унии. Действительно, догматических возражений против Рима у Могилы не было. Он лично был уже как бы в догматическом единомыслии с Римом. Потому так легко и свободно он и обращался с латинскими книгами. Именно то, что он находил в них, он и принимал за православие, как древнее преданиe. Для него стоял только вопрос юрисдикции. И в решении этого вопроса решающими были мотивы тактики и политики церковной, мотивы “успокоения,” т. е. Церковно-политического мира и благостояния, даже благосостояния и благоустройства. Здесь все казалось условным, все могло быть условлено и обусловлено...
Не случайно был Могила близок с Мелетием Смотрицким, в годы его восточной “перегринации.” И у Смотрицкого были основания ожидать сочувствия и содействия от Могилы и от самого митрополита Иова Борецкого в его униональных планах. Смотрицкий был одним из архиереев Феофановского посвящения. В историю общей культуры он входит как автор “грамматики славянския,” очень замечательной для того времени (1619). Свою церковную деятельность он начал, как ярый боец против Унии. Достаточно отметить его “Плач” θρήνος to jest Lament (1610), — книга написана с большим возбуждением и остротой. Позже у Смотрицкого возникают какие-то сомнения, в связи с доктринальными разногласиями в среде православных полемистов. Он отправляется на Восток. На пути в Константинополь он совещается в Киеве с Митрополитом и получает его согласие и благословенье просить у патриарха отмены братских ставропигий. Встреча с Кириллом Лукарисом не успокоила, но еще более смутила Смотрицкого, — он прочел в Константинополе его известный катихизис. “Из краев восточных” он возвращается с намерением добиваться соглашения с униатами. В начавших переговорах принимают живое участие и Могила, и митрополит Иов. С полным доверием, как единомышленникам, Смотрицкий посылает им свою “Апологию” (Apologia peregrynacyi do krajew wschodnick, Derm. 1628) и не встречает как будто возражений. На соборном совещании в Гродке весной 1628-го года соображения Смотрицкого о разностях между Римом и Востоком были приняты со вниманием, и снова без возражений. Обострение на осеннем соборе 1628 г. в Киеве, когда Смотрицкому пришлось принести формальное покаяние и отречься, было вызвано во всяком случае не Могилой и не митрополитом, — они сами подпали под подозрение. “Апология” же была тогда сожжена публично. Разошлись Могила и Смотрицкий в образе действий, не в образе мысли, — при том не без стороннего давления; униатские авторы говорили о “страхе казаков...”
В очень двусмысленной обстановке совершилось и вступление Могилы на Киевскую митрополию. В апреле 1632 г. умер Сигизмунд III. Православным удалось воспользоваться королевской элекцией для того, чтобы провести на сейме “Пункты успокоения религии греческой,” и получить на них согласие нового короля Владислава. Это было очень чувствительное приобретение, как бы ни были впоследствии практически урезаны эти “пункты” 1632 года. В частности, было разрешено заместить епископские кафедры, в том числе Киевскую. Здесь была явная двусмысленность. Ибо в действительности все кафедры были заняты, епископами Феофановского посвящения. Польский закон их не знал и не признавал. Ведь в свое время эти поставления были совершены тайно, без всякой публичности и огласки, как бы крадучись, в ночное время, в неосвященном храме, чтобы не помешали. Впрочем, на деле польская власть как будто примирилась с совершившимся фактом. Но теперь и с православной стороны не было сделано никакой попытки легализовать уже существующую иерархию. Напротив, все прежние епископы должны были оставить свои кафедры и сдать их новым “упривилегованным” избранникам. Не потому только, что они были нелегальными, не имели королевского утверждения. Гораздо важнее другое. “Привилегий” добились теперь представители противоположной церковно-политической ориентации, и они вовсе не имели интереса закреплять легализацией положение своих противников. В сущности, “восстановление” православного епископата на основании “пунктов” 1632 года было упразднением и отменой Феофановой иерархии... В спешном порядке (и при том самими сеймовыми депутатами, а не на местных епархиальных собраниях) были выбраны новые епископы, и утверждены королем. Могила был избран митрополитом, и князь А. Пузина в Луцк, — оба принадлежали к полонофильской аристократии, и оба участвуют в ближайшие годы в униональных переговорах и сговорах, вместе с Адамом Киселем... Могила не расчитывал на мирный прием в Киеве. Ведь в Киеве был митрополит. Это был Исаия Копинский, в свое время рукоположенный патр. Феофаном в Перемышль и переизбранный в Киеве после смерти Борецкого. По-видимому, Могила уже сталкивался с Исаией, по вопросу о заведении латинской коллегии, еще раньше во время переговоров со Смотрицким... Поэтому хиротония Могилы была назначена во Львове; совершал ее, кажется, волошский митрополит. В то же время Могила просил патриаршего утверждения, Кирилл Лукарис дал ему и звание “экзарха святаго апостольскаго Константинопольскаго трону.” С таким двойным авторитетом “упривилегованнаго” митрополита и патриаршего экзарха, Могила явился в Киев. У него было здесь не мало единомышленников. Но ему пришлось выдержать и очень неприятную борьбу со своим “деградованным” предместником, которого нужно было удалять не только силой, но именно прямым насилием. Спор и борьба продолжались и дальше. Это не был только спор о власти, это был именно спор об общей церковно-культурной и церковно-политической ориентации. Исаия, человек простой и сильной веры, отчасти напоминает Вишенского. Он весь в преданиях восточного богословия и аскетики, и ко “внешней мудрости” относился весьма недоброжелательно и недоверчиво. “Ин бо есть разум мира сего, ин же духовен. Духовного бо разума от Пресвятого Духа учишася вси святии и просветишася яко солнце в мире. Днесь же не от Духа Свята, но от Аристотеля, Цицерона, Платона и прочих языческих любомудрцев разума учатся. Сего ради до конца ослепоша лжею и прельстишася от пути правого в разуме. Святии заповедей Христових и умного делание учишася, сии же точию словес и глаголаний учатся; внутрь души мрак и тма, на языце ж вся их премудрость...”
Это сразу и о латинянах, и еще больше о новой ориентации православных...
“Алфавит духовный” Исаии Копинского (или “Лестница духовного по Бозе жительства”') и “Православное Исповедание” Петра Могилы, — это очень показательная антитеза. И в этом источник споров о власти... В звании митрополита Могила с новой настойчивостью продолжал осуществлять свою церковно-культурную программу. Это была деятельность организатора прежде всего. И она привела к осязательным результатам. Всего важнее, конечно, организация школы. Очень важно было и составление “Православного Исповедания” по латинским источникам и в противовес исповеданию Кирилла Лукариса. Возобновилась и работа по пересмотру и изданию богослужебных книг. Здесь прежде всего нужно назвать Λίθο, изданный под псевдонимом Евсевия Пимена в 1664-м году. Это был ответ перешедшему в латинство Кассиану Саковичу в защиту восточного обряда и православного богослужения вообще. Здесь собран большой литературный материал, преимущественно из латинской литературы. В 1646-м году вышел знаменитый требник или “Евхологион,” в котором отдельные чины и последования сопровождаются пояснительными статьями. Эти статьи взяты обычно z lacinskiey agendy, т. е. из римского “Ритуала” папы Павла V-го. Отсюда довольно острая латинизация обряда, — на это обращали внимание даже униаты. Впрочем, не Могила первый начал эту латинизацию, — латинские литургические мотивы и идеи усваивались уже и раньше, и усваивались постепенно. Могила выделяется только своей настойчивостью и последовательностью. По-видимому, у Могилы в руках был хорватский перевод, “Ритуала,” сделанный далматинским иезуитом Кассичем (изд. в Риме, 1637). Это позволяет и все его предприятие связывать с иллирийским униатством (откуда приходит позже Крижанич)...
Трудно дать четкую характеристику Петра Могилы. Есть что-то нечеткое в самом его образе и во всех его делах. Он сделал много. При нем Западно-русская Церковь выходит из той растерянности и дезорганизации, в когорых она страдала со времени Брестского собора. И вместе с тем все пронизано чуждым, латинским духом...
Это была острая романизация Православия, латинская псевдоморфоза Православия. На опустевшем месте строится латинская и латинствующая школа, и латинизиции подвергается не только обряд и язык, но и богословие, и мировоззрение, и сама религиозная психология. Латинизируется сама душа народа. Эта внутренняя интоксикация религиозным латинизмом, этот “крипто-романизм” был вряд ли не опаснее самой Унии. Обычно делается оговорка, что “чистота веры” при этой “романизации” не пострадала. Вернее сказать так: при всем этом внутреннем латинизме была удержана каноническая независимость. Странным образом, латинизировались часто именно ради внешней национально-политической борьбы с Римом. Но внутренняя свобода и независимость были потеряны, и было утрачено и само мерило для самопроверки... Восточные связи были перерваны. Утверждается чуждая и искусственная, неорганическая традиция, и она как бы перегораживает творческие пути... Неверно винить в этом одного Могилу, процесс начался до него, и сам Могила скорее выражал дух времени, чем прорубал новые пути. Однако, именно он сделал больше других для того, чтобы этот “крипто-романизм” укрепился и удержался в жизни Западно-русской Церкви.
6. Эпоха западно-русского богословия.
“Православное Исповедание,” это основной и самый выразительный памятник Могилянской эпохи. Трудно точно сказать, кто был автором или составителем этого “катихизиса,” — обычно называют самого Могилу, или Исаию Козловского, — это была скорее коллективная работа. “Катихизис” предназначался, прежде всего, для ясного разграничения с протестантизмом, в связи с изданным в 1633 году “исповеданием” Кирилла Лукариса, о котором в эти годы идет смута и волнение по всему Востоку. В 1638 г. и сам Лукарис, и его “исповедание” были осуждены на соборе в Константинополе (не без Римского содействия и влияния). На Украине смущение началось много раньше, нужно припомнить уже тревогу Мелетия Смотрицкого ... В 1640 году “Православное Исповедание” было представлено Петром Могилой на суждение и одобрение собора в Киеве. Уже здесь обозначились некоторые разногласия, в частности, по вопросу о загробной судьбе и пути душ (вопрос о “земном рае” и о чистилище), еще о возникновении души. Могила защищал креационизм и, по-видимому, прямо говорил о чистилище. Кроме того, долго спорили о времени преложения Святых Даров. Характерно, что первоначально “Православное Исповедание” было составлено по латыни. Ведь оно назначалось для богословов и богословствующих...
В 1642 году “Исповедание” снова подвергалось обсуждению и пересмотру на “соборе” (вернее назвать его совещанием) в Яссах, созванном по инициативе молдавского воеводы Василия Лупула, близкого с Могилой. Из Константинополя были присланы сюда со званием патриарших экзархов Порфирий Никейский и Мелетий Сириг, один из самых значительных греческих богословов XVII-го века. Именно Мелетий Сириг и выдвинул ряд общих и частных возражений. Он перевел “исповедание” по-гречески и в своем переводе сделал чувствительные изменения и поправки. По-видимому, Могила не был удовлетворен новой редакцией. Во всяком случае, “Исповедание” не было издано в Киеве, a вместо того в 1645 году выпущен был т. наз. “малый Катихизис” Могилы, сразу по-польски и на местном наречии, — “Zebranie krotkiey nauki о artykulach wiary prawoslawno katholickiey chrzescianskiey,” — где далеко не все поправки Сирига были приняты к исполнению. Впрочем, этот “малый Катихизис” был предназначен для другой среды, dla cwiszenia Mlodzi, — потому и язык был избран разговорный...
“Православное Исповедание” по-гречески было издано только в 1667 в Голландии, и вторично с латинским переводом в Лейпциге в 1695 г. С этого именно издания сделан и словено-российский перевод, напечатанный в Москве с благословения патр. Адриана в 1696-м году, — “малый Катихизис” был переиздан в Москве уже в 1649...
Не подлежит никакому сомнению, что “Исповедание” составлено по латинским книгам и схемам. Это видно уже в самом плане книги, в ее разделении на три части: о вере, о надежде, о любви, — т. е. по трем т. наз. “богословским” добродетелям; опять-таки, вероучение излагается в порядке объяснения Символа веры, нравоучения под видом объяснения Молитвы Господней, Заповедей Блаженства и Десятисловия Моисеева. Конечно, составитель имел под рукой не один только единственный латинский образец. Во всяком случае, он пользовался постоянно “Римским Катихизисом” (по-гречески переведен и издан уже в 1532-м) еще “Суммой” или большим Катихизисом Петра Канизия, “Компендием” или малым Катихизисом П. Сото, О. Р. Нет надобности перечислять и отмечать все отдельные случаи заимствования или подражания. Всего важнее, что именно в целом “Православное Исповедание” есть только как бы “приспособление” или “адаптация” латинского материала и изложения. В сущности, это есть одно из антипротестантских вероизложений, которых так много явилось и было издано в эпоху контрреформации или Барокко. “Православное Исповедание” во всяком случае гораздо больше связано с римско-католической литературой, чем с духовной жизнью Православия. Отдельные римские учения здесь отвергаются, напр., о папском примате. Общий стиль остается все же римским. Его не изменила и цензура Мелетия Сирига, — ведь и сам он учился в латинской школе, в Падуе (это обычное место обучения греков в XVII в.), и придерживался Беллармина...
С “Православным Исповеданием” поучительно сопоставить другие литературные опыты сподвижников Могилы. Всего интереснее в этом отношении “Экзегезис” Сильвестра Коссова, изданный в защиту православных латинских школ (1635), и его же “Дидаскалие албо наука о седми сакраментах” (1637). На подозрения римских противников в протестентизме Коссов спешит ответить на языке латинского богословия. Много говорит о загробной судьбе душ человеческих, затем о таинствах. В отделе о таинствах Коссов пользуется известной книгой П. Аркудия. Именно в этом отделе особенно чувствительны и очевидны латинизмы: различение “материи” и “формы” таинств: “транссубстанциация,” “установительные слова,” как “форма” Евхаристии, “сокрушение,” как материи таинства покаяния... Этой литургической догматике соответствовала и литургическая практика, закрепленная и отчасти вновь введенная в Евхологии П. Могилы (здесь следует отметить изменение формулы отпущения в чине исповедания на: “и аз недостойный иерей…” вместо прежнего безличного: “отпущаются” — еще Елеосвящение, как ultima unctio).
В следующем поколении латинское влияние становится еще глубже, латинские связи и навыки крепнут. Во времена Могилы Киевская Коллегия еще не была богословской школой, — привилей Владислава IV от 18 марта 1635 года обуславливал само дозволение школ требованием, чтобы преподавание не простиралось дальше философии, ut humaniora non ultra Dialecticam et Logicam doceant... И действительно, до самого почти конца XVII-го века богословие не преподавалась, как особая дисциплина, — отдельные богословские темы входили и захватывались в курсах философии ... Но и весь план общего образования был снят с иезуитского образца, и учебники были приняты те же, начиная Альваром и кончая Аристотелем и Аквинатом. Весь распорядок школьной жизни, все приемы и средства преподавания были те же, что и в Коллегиях или Академиях иностранных. Язык преподавания был латинский, и всего хуже было поставлено преподавание греческого...
Таким образом усваивались и перенимались не только отдельные схоластические мнения или взгляды, но и сама психология и душевный строй. Конечно, это была не “средневековая схоластика,” но — возрожденная схоластика контрреформациионной эпохи, сразу и “ложно классицизм” — Тридентинская схоластика, богословское Барокко…
Кругозор Киевских профессоров и школяров в XVII-м веке не был узким...
Однако, ведь Барокко в целом есть именно упадочная и нетворческая эпоха... Середина XVII-гo века на Украине была временем очень тяжелым. “И Киевский Коллегиум умалился, стал как малый Закхей” (выражение Лазаря Барановича). Запустевшая и разоренная школа была восстановлена уже в 70-х годах, в ректорство Варлаама Ясинского, бывшего затем Киевским митрополитом. Сам Варлаам учился за рубежом, в Ельбинге, Оломоуце, в Краковской академии... Другие учились в Ингольштадте, в иезуитской академии, и в самом Риме, в греческой коллегии святого Афанасия. Из-за смуты многие уходили зарубеж. Но в эту эпоху обучение в иезуитских школах было связано с обязательным принятием Унии. И о многих из Киевских деятелей конца XVII-го и начала XVIII-го в. в. мы знаем прямо и достоверно, что в годы учения они действительно переходили “в Римское послушание.” В частности, это известно о Стефане Яворском, — в унии его звали Станиславом. Любопытно, что современный иезуитский наблюдатель так прямо и называет академический Братский монастырь униатским. “Много есть монахов униатов, или близких к Унии, еще больше таких, что имеют наилучшее мнение о нас, — sunt multi monachi vel uniti, vel unioni proximi, plurimi de rebus nostris optime sentientes... В Киеве есть целый монастырь из одних униатов, — Kyoviae unum totum monasterium est unitorum” (из письма московского иезуита, о. Емилиана, 1699 г)...
С этим отзывом совпадает резкий отклик известного Досифея, патриарха Иерусалимского (писано в 1686 г.). “В той стране, глаголемая Казацкая земля, суть неции, иже в Риме и Польше от латинов научени и бяху архимандриты, игумены и прочитают неподобные мудрования в монастырях, и носят иезуитские ожерелья… Да будет повелено, дабы по смерти предреченных архимандритов и священников, уже от сих, иже ходят учиться в папежские места, архимандритов, игуменов и епископов не поставлять...”
В последующие годы Досифеей особенно смущался о Стефане Яворском, обвинял его в латинстве, и требовал от него прямого отказа от притязаний на Московское патриаршество. И вообще Досифей настаивал, “чтобы в патриархи не был выбран грек, или иные какие породы человек сиречь или от малые или белые России, которые вскормилися и учатся в странах и школах латинских и полонских...”
“Зане совокуплени с латинами и приемлют многие нравы и догматы оных,” заключает Иерусалимский патриарх...
Об этих перенятых у латинов “нравах” и “догматах” мы можем судить как по сохранившимся записям лекций или уроков, преподанных в Киевской коллегии в разные годы, так и по литературным трудам наставников и питомцев этой коллегии. Достаточно нескольких имен. Иоанникий Галятовский (ректор в 1658—1662), писатель очень производительный, проповедник и полемист, и сам не скрывает, что работает по латинским пособиям, приспособляя их для своих целей. К одному из своих проповеднических сборников, “Ключ разумения,” Галятовский приложил краткое руководство о составлении проповедей: “Наука короткая албо способ зложеня казаня” (первое изд. 1659, в последующих расширено). Для Галятовского так характерен этот упадочный классицизм, вся эта натянутая и напыщенная риторическая символика в толковании и выборе текстов, “с фемами да наррацыями.” Особенно характерен совет “читать книги о зверях, птицах, гадах, рыбах, деревах, травах, камнях, о разных водах, которые в морях, реках и колодцах находятся, узнавать их натуру, свойства и отличия, и то себе отмечать и применять к той речи, которую хочешь сказывать.” Это загружало речь мнимыми аналогиями и примерами. Еще Мелетий Смотрицкий издевался над привычкой православных проповедников повторять латино-польские образцы. “Один на кафедру с Оссорием, другой с Фабрицием, а третий со Скаргою.” Всего сильнее и привлекательнее был пример Фомы Млодзяновского, польского проповедника XVI-го века ...
Правда, Галятовский резко спорит и состязается с иезуитскими полемистами, но спор касается только отдельных вопросов (о папской власти, еще об исхождении Духа Святого), стиль же богословствования остается у Галятовского римский. Еще болезненнее это чувствуется у Лазаря Барановича (ректор в 1650-1658, позже Черниговский архиепископ). Он тоже борется с иезуитской пропагандой и отвечает на спорные темы (см. его Nowa miara starey Wiary, 1676). Но по типу мысли и слова он вполне остается в пределах польского Барокко. “Обилие острот и игра словами,” — “концепты” и “перлки,” то есть, выдумки и забавки, — это характерно не только для его литературной манеры, но и для его манеры или навыка мысли. “Тогда не считалось неприличным святые предания Церкви мешать с баснословиями мифологическими...”
Назовем еще Антония Радивилловского, составлявшего свои “предики” или “казания” по таким же латинским образцам. Книга его “Огородок Марии Богородицы” (1676) вполне укладывается в ряд тогдашних многочисленных латинских риторических и аллегорических упражнений на Марианские темы...
Особо стоят в ряду тогдашних южно-русских деятелей два прусских выходца, оба из Кролевца, или Кенигсберга, прошедшие протестантскую школу. Это были Иннокентий Гизель, Печерский Архимандрит, преподававший одно время философию в Киевской коллегии (его Opus tolius philosophiae, 1645-1647, остался в рукописи), и Адам Зерникав, автор знаменитого трактата De processione Spiritus Sancti (издан уже много позже Самуилом Миславским, в Кенигсберге, 1774-1776). Образ Зерникава очень интересен. Зерникав приходит в Православие через ученое исследование преданий веры и богословия. В Чернигове он оказывается после долгих ученых или учебных странствий по западным краям (работал в Оксфорде и в Лондоне). Его книга и до сих пор остается полезным пособием, как ценный свод умело и внимательно собранного материала...
Из ряда Киевских книжников XVII-го века нужно выделить по исторической значительности двоих. Это, во-первых, святитель Димитрий Ростовский (1651-1709). Его главный труд — Житие святых (первое издании выходило в 1689-1705 гг.). Составлены они, главным образом, по западным источникам. За основу для работы был принят латинский сборник Л. Сурия, Vitae sanctorum Orientis et Occidentis, 7 томов, 1573-1586, — это латинская обработка Метафрастовых житий. Пользовался святитель Димитрий и вышедшими томами Acta Sanctorum в издании болландистов, еще “Анналами” кард. Барония (в обработке Скарги), но особенно польским сборником житий П. Скарги, Zywoty swietych, — влияние Скарги очень чувствуется в самом языке и стиле (и до святителя Димитрия “Жития” Скарги были очень популярны среди православных, как показывает многочисленность русских переводов, рукописных). Гораздо меньше был привлечен и использован славянский и греческий материал... Западнический характер имеют и проповеди (особенно ранних лет), еще более школьные драмы святителя Димитрия (уже Ростовского периода). Очень любопытен состав его библиотеки (сохранилась “роспись книг келейных”), — это типический подбор книг латинского эрудита того времени. Кое-что из Аквината, Корнелиус а Ляпиде, Канизий, М. Бекан, Acta Sanctorum, проповеди Млодзяновского, много книг по истирии, немного из отцов (в западных изданиях, конечно), Киевские и другие южные издания...
Внутренний опыт святителя Димитрия не вмещался в этих тесных гранях богословского ложно-классицизма, но как писатель он за эти грани не переступал, — и даже с некоторым упрямством отстаивал неприкосновенность Киевских школьных навыков и традиций. В особых обстоятельствах великорусской церковной жизни он не разбирался, так что раскол воспринял только с точки зрения народного невежества (см. его “Розыск о раскольничьей брынской вере” и т. д.)...
Несколько моложе был Стефан Яворский(1658-1672). Учился он у иезуитов, во Львове и в Люблине, в Познани и в Вильне. В это время он был “в римском послушании.” Затем он возвращается в православие, принимает постриг в Киеве, становится учителем, префектом и ректором в Академии. Стефан был даровитым проповедником, проповедовал “со властию” и с большим темпераментом. Но это была все та же ложно-классическая проповедь. Особенно характерен главный полемико-богословский труд Стефана, его “Камень веры” (первоначально по-латыни), написанный, впрочем, уже не в Киеве. Всего менее это самостоятельное произведение. В действительности, это есть только “извлечение” (часто буквальное) или “сокращение” из очень немногих латинских книг, — из Беллармина, из его Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos, a затем из Бекана (его Opera изданы в 1649 г.). В другой своей книге, “Знамения пришествия Антихриста,” 1703, Стефан столь же близко использовал книгу Мальвенды, De Antichristo, пo изд. 1647. Деятельность Димитрия Ростовского и Стефана Яворского не вмещается вполне в историю Киевского богословия. Большая часть их деятельности принадлежит уже к истории “великорусского” богословия. Но оба образа так типичны для исхода Могилянского периода...
Начало XVIII-го века было временем расцвета Могилянской школы и культуры. Гетманство Мазепы есть вершина украинского Барокко и в богословии. Одно время сама Академия полуофициально называлась “Могило-Мазепианской...”
И вместе с тем это был уже и эпилог...
Очень характерен для эпохи образ Иоасафа Кроковского, ректора и второго организатора Киевской коллегии (впоследствии Киевского митрополита). Иоасаф учился в Риме. Может быть, больше, чем кто другой, выражает он в своей деятельности и мировоззрении всю двойственность и двусмысленность Киевской культурной псевдоморфозы. Иоасаф так навсегда и остался при том мировоззрении, которое приобрел когда-то, в котором воспитан был в коллегии святого Афанасия в Риме. Богословие в Киеве он читал по Аквинату. В его литургическом благочестии главное место принадлежало почитанию Непорочного зачатия Приснодевы (оно вообще характерно для всего Барокко). Именно при Иоасафе окончательно сложились студенческие конгрегации в Киевской академии, и именно как Sodalitas Mariana. Члены этого “содальства” посвящали себя “Марии Деве, без первородного греха зачатой,” Virgini Mariae sine labe originali conceptae. И в особой присяге обязывались исповедовать, защищать от еретиков, “что Мария не только без греха действительного смертного или простительного, но и без первородного есть.” Впрочем, в тексте присяги есть оговорка: “обаче не суть еретики и сии, иже в гресе первородном мнят быти рожденную...”
Здесь перед нами, конечно, не свободное или случайное богословское мнение, но именно прямое заимствование или подражание римскому богословию...
Иоасаф закрепляет уже давно сложившуюся традицию (срв. о Непорочном зачатии у названных выше писателей XVII-го века, в том числе и у святителя Димитрия). Учение о Непорочном зачатии связано с определенным уклонением в понимании и истолковании первородного греха. Но, что важнее, оно отзывалось в самом религиозном чувстве и настроении. От этого украинского Барокко идет в “малороссийском” религиозном воззрении эта характерная эмоциональная нетрезвость, мечтательная возбудимость, какая-то своеобразная религиозная романтика. Отчасти это чувствуется уже в этих полузаимствованных с инославного благочестивых и назидательных книгах, которых так много было составлено и издано в Киеве и в Чернигове, в конце XVII-го и в начале ХVIII-го веков. Очень интересно сопоставить эти книжные настроения с одновременными памятниками церковной архитектуры и живописи, — их много именно за время Мазепы...
С культурно-исторической точки зрения, Киевская ученость есть несомненное и значительное событие, не только явление. Это первая и открытая встреча с Западом. Можно было бы сказать, свободная встреча, — если бы она не окончилась не только пленом, но именно сдачей в плен. И потому эта встреча не могла быть творчески использована. Сложилась школьная традиция, возникла школа, но не создалось духовного и творческого движения. Сложилась подражательная и провинциальная схоластика, именно “школьное богословие,” theologia scholastica. Это обозначило некую новую ступень религиозно-культурного сознания. Но в то же время богословие было сорвано с его живых корней. Возникло болезненное и опасное раздвоение между опытом и мыслью. Кругозор Киевских эрудитов был достаточно широк, связь с Европой была очень оживленной, и до Киева легко доходили вести о новых движениях и исканиях на Западе. И, однако, была некая обреченность во всем этом движении. Это была псевдоморфоза религиозного сознания, псевдоморфоза православной мысли...
Православная беседа >> Библиотека >> Флоровский Георгий, прот. 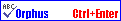
На правах рекламы: