|
|
Пути русского богословия
V.
Борьба за богословие
- Пробуждение сердца, но не пробуждение мысли. Теократический утопизм.
- Император Александр - символ своей эпохи, эпохи религиозно-утопической.
- Возрождение мистицизма.
- Преобразование системы духовного образования.
- Российское Библейское общество.
- Русский перевод Библии.
- Святитель Филарет, митрополит Московский.
- Богословские воззрения святителя Филарета.
- "Сердечное богословие" и "неологизм."
- Немецкое направление - "облегченное, уклончивое и зыбкое бословие."
- Пути реформирования духовного образования.
- Итоги Александровско-Николаевских преобразований в духовно-образовательной сфере.
1. Пробуждение сердца, но не пробуждение мысли. Теократический утопизм.Вся значительность Александровского времени в общей экономии нашего культурного развития еще не была опознана и оценена до сих пор...
Это был момент очень взволнованный и патетический, период великого творческого напряжения, когда с такой смелой наивностью была испытана и пережита первая радость творчества...
Иван Аксаков удачно говорит об этом своеобразном моменте русского развития, когда вдруг именно поэзия на время становится каким-то бесспорным историческим призванием, — “имеет вид какого-то священнодействия...”
Во всем тогдашнем поэтическом творчестве чувствуется какая-то особая сила жизни и независимость, “торжество и радость художественного обладания…”
Это было пробуждение сердца...
Но сразу же приходится продолжить: еще не пробуждение мысли...
И воображение еще не было обуздано, еще не было закалено в умном искусе, в интеллектуальной аскезе. Потому так легко и так часто люди того поколения впадают в прелесть, в мечтательность или визионерство. То была эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений, провидений и привидений...
Для всей эпохи так характерно именно эти расторжение ума и сердца, мысли и воображения, — не столько даже безвольность, сколько именно эта безответственность сердца. “Эстетическая культура сердца, заменявшая нравственные правила тонкими чувствами” (слова Ключевского)...
Именно в этом изъяне сердца вся слабость и немочь пиетизма. И русская душа проходит через этот искус или соблазн пиетизма в начале прошлого века...
Это была вряд ли не самая высшая точка русского западничества. Екатерининская эпоха кажется совсем примитивной по сравнению с этим торжествующим ликом Александровского времени, когда и сама душа точно отходит в принадлежность Европе, — это случилось не раньше “Русского Путешественника,” во всяком случае. Розанов удачно заметил однажды: “в Письмах русского путешественника впервые склонилась, плакала, любила и понимала русская душа чудный мир Западной Европы, тогда как раньше, в течение века, она смотрела на него тусклыми, ничего не фиксирующими глазами.” А в следующих поколениях уже крепнет “славянофильская” оппозиция, не столько национально-психологическая, но и культурно-творческая... Западничество Александровского времени не было денационализацией в прямом смысле. Напротив, то был скорее период националистического подъема. И, однако, душа становится в это время точно Эоловой арфой [1]...
В этом отношении так характерен образ Жуковского, с его гениальным диапазоном сочувственных и творческих перевоплощений, с его напряженной чуткостью и отзывчивостью, с его свободным и непосредственным языком. Но Жуковский был и остался навсегда (в своих лирических медитациях) именно западным человеком, западным мечтателем, немецким пиетистом, всегда смотревшим “сквозь призму сердца, как поэт.” Потому именно он умел так изумительно переводить с немецкого. Это сама немецкая душа сказывалась по-русски...
Очень характерно, что этот приступ мечтательности разыгрывается в самой батальной обстановке. Ведь в начале XIX-го века чуть ли не вся Европа становится театром военных действий, обращается в некое подобие вооруженного лагеря. То было время великих исторических переломов и переделов, исторических гроз и сотрясений, время нового некоего переселения народов...
Отечественная война и Наполеон, “нашествие Галлов и с ними двадесят явык...”
Все было вокруг точно заряжено беспокойством. Сам ритм происшествий был лихорадочным. Сбывались тогда самые несбыточние опасения и предчувствия. Душа в недоумениях двоилась между ожиданием и страхом. Сентиментальная впечатлительность скрещивается с эсхатологическим нетерпением. Очень многим казалось тогда, что живут они уже внутри сомкнувшегося Апокалиптического круга. “Не тихое утро России, но бурный вечер Европы,” сказал однажды Филарет...
Искус этих горячечных лет был слишком трудным испытанием для мечтательного поколения людей с таким неустойчивым и слишком легко возбудимым воображением. И возбуждалась какая-то апокалиптическая мнительность...
Общим становится чувство какого-то совсем осязательного водительства Божия, как бы снимающего или растворяющего в себе отдельные человеческие воли. Идея Провидения получает в сознании тех поколений некий суеверный и магический отблеск. Человек не верит больше в свою собственную дееспособность...
Отечественная война многими была пережита и осмыслена именно как Апокалиптическая борьба, — “суд Божий на ледяных полях.” И низложение Наполеона было истолковано, как победа над Зверем. “Всюду и во всем было чувствуемо присутствие чего-то высшего и всесильного. Я почти уверен, что Александр и Кутузов Его прозрели, и что даже самому Наполеону блеснул гневный лик Его” (Вигель)...
Дух мечтательного отвлечения и отрешения от “внешнего” или “наружного” в христианстве сочетается в тогдашнем самочувствии с самым несдержанным чаянием именно видимого наступления Царствия Божия на этой здешней земле...
Нужно помнить, — Романтика и Просвещение равно стоят под знаком хилиазма. Мечтательный утопизм романтической эпохи был отчасти еще и наследием от XVIII-го века, с его верой в близкое и скорое осуществление конечных идеалов. Век Разума или Царствие Божие, — но под разными именами все ожидали вновь золотого века...
Дева Астрея вернется...
Земной Рай снова откроется. “Тогда сойдет на землю истинный Новый Год…”
Верно понять и представить психологическую историю тех времен и поколений можно только в этой перспективе возбужденных, социально-апокалиптических ожиданий, в обстановке всех этих тогдашних и вселенских ошеломляющих событий и свершений... Это была полоса теократического утопизма...
2. Император Александр — символ своей эпохи, эпохи религиозно-утопической.
Император Александр с правом может быть признан эпонимом своей эпохи. Он типичен для нее, — по своему душевному складу и стилю, по своим вкусам и намерениям....
Александр был воспитан в началах сентиментального гуманизма. Отсюда переход к мистической религии сердца не был далек или труден. И от начала Александр привыкал жить в элементе грез и ожиданий, в некой умственной “мимике,” в натяжении и в мечтах об “идеале.” То было уже в 1804-м году, это патетическое братание двух монархов над гробом Великого Фридриха...
Во всяком случае, в круг “мистических” интересов Александр вошел много раньше, чем “пожар Москвы просветил его сердце.” Сперанский из Перми напоминал Государю об их беседах на мистические темы, в которых видно было, что “предмет их сообразен с сердечными чувствами” императора. Сильнее было, впрочем, влияние Родиона Кошелева [2] (1749-1827), старого масона, лично связанного с Лафатером, [3] Сен-Мартеном, [4] Эккартсгаузеном, [5] и особенно князя А. Н. Голицына...
В 1812-м году Александр составил для любимой сестры своей, Екатерины Павловны, очень характерную записку “О мистической литературе.” Он повторяет здесь или пересказывает скорее чужие советы и чужую программу. Но сразу чувствуется, что он ее уже освоил, уже втянулся в этот стиль, привык к нему, что у него уже сложились определенные личные вкусы и пристрастия. На первое место здесь выдвинуты Франсуа де Саль, Тереза, [6] книга Подражаний, Таулер [7]...
Отечественная война была для Александра только каталитическим ударом, разрешившим давнее напряжение...
В самый канун Наполеонова вторжения он впервые читает Новый Завет, и в нем всего более был взволнован именно Апокалипсисом. В Ветхом Завете тоже его привлекали пророческие книги, прежде всего. И с тех пор и навсегда стал он доверчив и любопытен ко всякого рода толкованиям и толкователям неразгаданного и символического “Откровения.” Именно этим его привлекали Юнг-Штиллинг, [8] Крюденер, [9] пастор Эмпейтаз, [10] Оберлин, [11] “моравские братья,” [12] квакеры, [13] гернгутеры. Позже именно для толкования Апокалипсиса были вызваны в столицу из Балты два священника, Феодосий Левицкий и Феодор Лисевич (они сами считали себя “двумя свидетелями верными” из Откровения). Кажется, и самого Фотия имп. Александр готов был слушать именно потому, что и он толковал Откровение, прорекал и грозился от Апокалипсиса и всех пророк. В тогдашней исторической обстановке не так странно было поверить, что приближается конец...
Александр не любил и не искал власти. Но он сознавал себя носителем священной идеи, и с волнением радовался об этом. Здесь именно источник его мечтательно-политического упрямства (скорее, чем упорства). В тех поколениях многие чувствовали на себе знак особого предназначения...
В таком настроении был задуман и заключен Священный Союз. Этот замысел предполагал такую же веру во всемогущество благородного Законодателя, изобретающего или учреждающего вселенский мир и всеобщее блаженство, что и политические теории Просветительного века. Этой идеи не нужно было подсказывать Александру. Он сам ее подслушал в хитросплетении событий. “Искупитель Сам внушил нам мысль и правила, нами объявленные...”
Священный Союз был задуман, как некое предварение Тысячелетнего царства. “Но всякому тому ощутительно, кто хочет видеть: что сей акт нельзя не признать иначе, как предуготовлением к тому обещанному Царствию Господа на земли, которое будет яко на небеси” (слова Голицына)...
Акт “Братского Христианского Союза” подписан был “в лето Благодати 1815-ое,” 14/26 сентября. И, конечно, вряд ли случайно был для того избран день Воздвижения, по восточному календарю. Акт Священного Союза от Синода было предложено выставить всюду на стенах, в храмах городских и сельских. И ежегодно в день Воздвиженья надлежало его перечитывать вновь с амвона, вместе с данным тогда же манифестом, — “дабы всем и каждому исполнить обет служения Единому Господу Спасителю, изреченный в лице Государеве за весь народ...”
Именно во исполнение этого обета и было устроено особое соединенное министерство, “Министерство духовных дел и народного просвещения” (указ от 14 октября 1817 года), — “величайший государственный акт, какой только от самого введения христианской веры был постановлен” (Сперанский). Строго говоря, это было министерство религиозно-утопической пропаганды. Соединенное министерство учреждалось с тем, “дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения.” Иначе сказать, это был замысел религиозного возглавления или сосредоточения всей культуры, — “спасительное согласие между верою, ведением и властию.” Этот последний элемент синтеза всего более характерен. Замысел был — согласить “веру” с “ведением” силой “власти...”
Новое министерство было в значительной степени личным ведомством князя Голицына. Это был личный режим больше, чем ведомство. И с “падением” Голицына и самое “сугубое министерство” было упразднено, отдельные ведомства были опять разъединены и восстановлены в своей раздельности...
Кн. А. Н. Голицын (1773-1844), быть может, самый характерный человек эпохи, самый отзывчивый и выразительный, во всяком случае. Его впечатлительность была почти что болезненной. Он страдал прямым мистическим любопытством. Это был человек Просветительного века, уже не в ранней молодости вдруг обратившийся сердцем. Но чувствительность вновь обратившегося сердца сочеталась с нечувствительностью и некой сухостью ума. Мечтательность и властность в религиозном темпераменте кн. Голицына как-то неожиданно сплавлялись в живое целое, — вельможность остро проступает в самой его сентиментальности. Человек доверчивого и впечатлительного сердца, Голицын умел и хотел быть диктатором. Он и был действительным диктатором немало лет. И эта своего рода “диктатура сердца” была очень навязчивой и нетерпимой, — фанатизм сердца бывает в особенности пристрастен, и легко сочетается с презрительной жалостливостью. Голицын обратился в “универсальное христианство”, в религию сердечного воображения и опытов сердца, — этим только он и дорожил в христианстве. Отсюда его интерес к сектантским “обращениям” и “пробуждениям,” — сущность религии именно здесь, казалось ему, явлена без напрасных оболочек. Во “внешнем” богопочтении и в церковности он ценил и понимал только символику, только эту чувствительно-таинственную внушительность обряда. В этих пределах Голицын был вполне искренним и чутким. Это был человек ищущий до конца дней своих. И для этого типа благочестия дух пропаганды или прозелитизма очень характерен. Голицын нашел самого себя именно в должности министра...
“Сугубое министерство” явилось вместе с тем новым звеном в развитии церковной реформы Петра Великого, в осуществлении того нового церковно-политического режима, который был заведен тогда. Еще раньше Голицын, силой личной близости и личного благоволения к нему Государя, как друг и “наперсник Царев,” успел, в должности Синодального обер-прокурора, поставить себя в положение главноначальствующего в “синодальном ведомстве.” Правда, в отдельных случаях он становился на защиту Церкви от государственных притязаний (отклонение мысли Сперанского о предоставлении права развода светской власти). Теперь, с учреждением министерства, его явочный успех закрепляется всей силой регулярного закона. Синод формально вводится в систему государственной администрации “духовных дел,” как особое “отделение греко-российского исповедания.” В учредительном манифесте это так было выражено. “Само собою разумеется, что к оному (т. е. министерству) присовокупятся и дела Святейшего Правительствующего Синода с тем, чтобы министр духовных дел и народного просвещения находился по делам сим в таком же точно к Синоду отношении, в каком состоит министр юстиции к Правительствующему Сенату, кроме однако же дел судных...”
Основное в замысле “сугубого министерства,” как и во всей концепции Священного Союза, это — религиозное главенство или верховенство “князя,” властвующего и управляющего не только “Божией милостью,” но и Божией властью. Как сказано в “трактате” Священного Союза, “исповедуя таким образом, что Самодержец народа Христианскаго, коего Они и их подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как Тот, Кому принадлежит Держава.” Интересно с этим сопоставить характерный проект определения из “Уставной грамоты” Новосильцева: “как Верховная глава православной греко-Российской церкви, Государь возводит во все достоинства духовной иерархии” (ст. 20)...
И это был шаг вперед, дальше Петра и Феофана. Петровское государство подчинило себе Церковь скорее извне, и во имя мирского задания, ради “общего блага,” вымогало терпимость к обмирщению жизни. При Александре государство вновь сознает себя священным и сакральным, притязает именно на религиозное главенство, навязывает собственную религиозную идею. Сам обер-прокурор как бы “вступает в клир Церкви,” в качестве “местоблюстителя внешнего епископа” (так приветсвовал Голицына, при его назначении, Филарет, будущий митрополит Московский). И это была “великая химера универсального христианства,” по язвительному замечанию Де-Местра. [14] Имп. Александр исповедовал некое смешанное христианство, и во имя этой “всеобщей” религии и притязал властвовать и управлять. Тем самым и всем исповеданиям в Российской империи внушалось применяться к этой всеобщей идее, приспособляться к своему частичному месту в системе. “Сугубое министерство” должно было если и не соединить, то объединить все исповедания или “церкви” не только за общим делом, но и в каком-то едином вдохновении...
В этом отношении очень показателен замысел храма Христа Спасителя, развернутый Витбергом в очень сложный и многозначный символический проект. “Не здание хотелось мне воздвигнуть, но молитву Богу.” Этот храм должен был быть не только православным, он должен был воплотить и выразить “мысль всеобъемлющую.” Как говорил сам Витберг, “самое посвящение его Христу показывало его принадлежность всему христианству...”
Режим “сугубого министерства” был жесток и насильствен. “Мистицизм” облекался при этом всей силой закона, со всей решительностью санкций против несогласных или только уклончивых. В преступление вменялось и простое несочувствие идеям “внутреннего христианства,” и при том — как противление видам правительства...
Вот одна из статей тогдашнего цензурного устава. “Всякое творение, в котором, под предлогом защиты или оправдания одной из церквей христианских, порицается другая, яко нарушающее союз любви, всех христиан единым духом во Христе связующей, подвергается запрещению.” По силе такой статьи оказывалось непозволительным разбирать протестантские взгляды с православной точки зрения, — это уже бывало запрещаемо и раньше, при Петре и при Бироне...
Режим Священного Союза означал закрепощение совести и духа. Эта была самая притязательная форма этатизма, [15] — этатизм теократический. И “сугубое министерство” слишком часто оказывалось “министерством затмения,” как о нем отзывался Карамзин... Но вот именно в этой очень спутанной и двусмысленной исторической обстановке начинается пробуждение...
Государство стремится усилить и обострить религиозные потребности в массах. “Стремления князя Голицына,” говорил о нем еще Чистович, “наклонялись к тому, чтобы вывести русский народ из того усыпления и равнодушия в деле веры, какое казалось ему почти повсюдным, пробудить в нем высшие духовные инстинкты, и чрез распространение священных книг ввести в него живую струю внутреннего понимания христианства...”
“Время свободного существования Библейского Общества,” говорит тот же историк, “было с самого начала XVIII столетия единственным, когда светское общество с живым и напряженным интересом устремилось к религиозным предметам, выдвинуло на первый план интересы духовно-нравственного развития народа...”
Проповедь “внутреннего” христианства не проходила бесследно. Это был призыв к самодеятельности, религиозной и нравственной. И во всяком случае, это было диалектическое выравнивание просветительского обмирщения предыдущего века. Тогда сознательно старались оттеснить духовенство в социальные низы, растворить его в “среднем роде людей” (срв. обсуждение этого вопроса в Екатерининской комиссии). Теперь выдвигается идеал ученого и просвещенного духовенства, которому место именно на верхах. И в программу нового режима входит дать носителям религиозной идеи и вдохновения побольше места или участия во всей системе народно-государственной жизни. Дисциплина при Петре, воспитание при Екатерине, теперь знаком эпохи становится творчество...
В тогдашнем мистическом синкретизме [16] были и римско-католические элементы. Ж. Де-Местр в известном смысле сам принадлежал к истории тогдашнего русского мистицизма...
В молодости он прошел через масонский опыт, в своем мировоззрении многим был обязан Сен-Мартену, и в русские годы продолжал думать, что масонство не опасно для веры и государства, в странах некатолических. Очень опасным считал он, напротив, библейское движение, которое он мог наблюдать в живом действии именно в России. И эти впечатления сказались на его теократическом синтезе. Как удачно заметил Гойо, когда Де-Местр писал свою книгу “О папе,” он думал о двух странах, о Франции и о России... В кругах русской знати его влияние очень чувствовалось (срв. его письма к гр. А. К. Разумовскому, тогда министру, о народном образовании)...
И вообще в первые годы нового века сильно чувствовалось влияние иезуитов. Достаточно припомнить имена аббатов Николя и Розавена. На короткое время иезуитам удалось даже достигнуть учреждения особого учебного округа для своих школ в империи, с Полоцкой академией в качестве административного центра (1811-1820). На юге Одесса становится очагом прозелитизма, и в ней “благородный институт,” вскоре преобразованный в Ришельевский лицей, — директором быль здесь Николь...
Однако, уже в 1815-м году иезуиты были удалены из обеих столиц, а в 1820-м и вообще из пределов империи, и их школы закрыты или преобразованы...
Латинское влияние этим, впрочем, не было остановлено вполне...
Александровская эпоха вся в противоречиях, вся в двусмысленности и двуличии. Все двоится в жизни и в мыслях...
И впервые завязывается открытый (хотя и не свободный) религиозно-общественный спор...
То было начало новой эпохи, бурной и значительной...
Мистическое напряжение чувствуется в обществе с самого начала века. Оживают и вновь открываются масонские ложи. Возобновляется мистическое книгоиздательство. Это было возрождение Новиковских традиций. Вновь выступают и продолжают действовать люди, сложившиеся еще тогда: Лопухин, З. Карнеев, Кошелев, И. Тургенев, Лабзин...
Для начала века всего характернее деятельность Лабзина (1766-1825). Уже в 1800-м году он, тогда конференц-секретарь Академии Художеств, открывает в Санкт-Петербурге ложу “Умирающего Сфинкса.” Это был замкнутый и обособленный кружок розенкрейцеров. Сам Лабзин был в свое время восторженным слушателем Шварца. При Павле он переводил с немецкого историю Мальтийского ордена (совместно с А. Вахрушевым, изд. 1799-1801 г.г.). Теперь он повторяет московский опыт 80-х годов...
Лабзин действительно сумел повторить типографический опыт того времени. Уже в 1803-м году он возобновляет издание мистических переводов, Юнга-Штиллинга и Эккартсгаузена больше всего. Это были его главные авторитеты или “образцы,” — и еще Беме [17] и Сен-Мартен, отчасти же и Фенелон. [18] В 1806-м году Лабзин предпринимает издание “Сионского Вестника.” В эти годы общая политическая обстановка еще не была благоприятна для такого издательства. Лабзин принужден был приостановить свой журнал. Лабзин сам указывает образец, которому следовал, — это были “Христианский магазин” Пфеннигера и Эвальда “Christliche Monatsschrift...”
Действительный размах мистическое книгоиздательство вообще получает у нас уже только после Отечественной войны, в связи с деятельностью Библейского общества. “Сионский Вестник” возобновляется уже только в 1817-м году, “по Высочайшему повелению,” но снова не надолго...
На эти “мистические книги” был тогда достаточный спрос. Эти книги были тогда в руках у многих (мы можем о том судить по признаниям и воспоминаниям современников). Для той эпохи характерно, что мистицизм становится общественным течением и одно время даже пользуется правительственной поддержкой. Создается мистическое силовое поле. И в биографиях людей того времени мы обычно встречаем “мистический” период или хоть эпизод...
Проповедь Лабзина была проста и типична. Это смесь квиетизма и пиетизма, — проповедь “пробуждения” или “обращения” прежде всего...
Это был призыв к самонаблюдению и раздумью. И все внимание было сосредоточено именно на этом моменте “обращения.” Это был единственный “догмат,” который в новом учении признавался существенным. Отречение от горделивого Разума в богословии приводило к агностицизму [19] (иногда почти что к афазии [20]). Весь религиозный опыт расплывался в какую-то зыбь пленительных и томительных переживаний. “В Священном Писании мы вовсе не видим никаких условий со стороны понятий о вещах Божественных.” Разуму с его понятиями противопоставляется Откровение. Но не столько Откровение историческое или писанное, сколько “внутреннее,” т. е. некое “озарение” или “иллюмннация.” “Священное Писание есть немой наставник, указующий знаками на живого учителя, обитающего в сердце...”
Не так важны догматы и даже видимые таинства, сколько именно эта жизнь сердца. Ведь “мнениями” нельзя угодить Богу. “Мы не найдем у Спасителя никаких толков о догматах, а одни только практические аксиомы, поучающие, что делать и чего удаляться.” И потому все разделения между исповеданиями от гордости разума. Истинная Церковь шире этих наружных делений и состоит из всех истинных поклонников в духе, вмещает в себя и весь род человеческий. Это истинно-вселенское или “универсальное” христианство расплывается в истолковании Лабзина в некую сверхвременную и сверхисторическую религию. Она одна и та же у всех народов и во все времена, и в книге Натуры и в Писании, и у пророков, и в мистериях и мифах, и в Евангелии. Единая религия сердца...
У каждого есть свое тайное летосчисление, своя эра, — от дня рождения или обращения, от дня рождения или вселения Христа в сердце...
Для всей этой мистики очень характерно резкое различение ступеней или степеней, и эта несдержанная стремительность и торопливость в искании или приобретении каких-то “высших” степеней или посвящений. Только “низший класс людей едва оглашенных” довольствуется обрядовым благочестием в исторических церквах...
В этой мистике мечтательность и рассудочность странно сплетаются, есть в ней прекраснодушное упрощение всех вопросов, чрезмерная прозрачность и ясность. “Его разум представлял все ясно и просто, основывал все на законах необходимости, и на законе, соединяющем видимое с невидимым, земное с небесным. Итак, думал я, есть наука религии, — это было для меня большое и важное открытие” (М.А. Дмитриев в своих воспоминаниях о Лабзине)...
О Лабзине мнения расходились. Многих привлекало и примиряло с ним его резкое и решительное выступление против вольтерианства и всякого вольнодумства. Это отмечает о нем даже Евгений Болховитинов: “многих отвратил если не от развращения жизни, то от развращения мыслей, бунтующих против религии.” Филарет признавал за Лабзиным чистоту намерений. “Он был добрый человек, только с некоторыми особенностями в мнениях религиозных...”
Другие судили о нем гораздо резче и совсем непримиримо. Иннокентий Смирнов считал переводческую деятельность Лабзина вполне вредной и опасной, и у него были единомысленники. Фотий видел в Лабзине одного из самых главных начальников ересей. Действительно, Лабзин был очень нескромен, настойчив и навязчив в своей пропаганде. Он не был терпим, у него был пафос обращения. И он имел успех. В его ложу входили, кажется, и духовные лица (называют двух архимандритов, Феофила и Иова). В ложу Лабзина входил и Витберг. Любопытно, что именно для Лабзинской ложи “Умирающего Сфинкса” был написан Херасковым известный гимн “Коль славен,” этот типичный образец мистико-пиетического стихосложения того времени.
Другим очень стильным представителем тогдашних “мистических” настроений был Сперанский (1772-1834). Как и Лабзин, это был в сущности человек еще предыдущего века. Оптимист и резонер Просветительной эпохи в нем чувствуется очень остро. Современников Сперанский удивлял и даже пугал своей крайней от всего отвлеченностью. Он был силен и смел только в элементе отвлеченных построений, схем и форм, — а в жизни сразу уставал и терялся, не всегда умел соблюсти даже нравственный декорум. От своей природной рассудочности Сперанский не только не освободился через многолетнее чтение мистических и аскетических книг, но в этом искусе медитаций его мысль стала еще суше, хотя бы и тверже. Он достиг не столько бесстрастия, сколько бесчувствия. В этой рассудочности вся сила Сперанского, и в ней же его немочь. Он стал неподражаемым кодификатором и систематиком, он мог быть бесстрашным реформатором. Но его мысли не живут. Они часто бывают яркими, но остаются и тогда ледяными. И всегда есть что-то нестерпимо риторическое во всех его делах и речах. В его ясности и прозрачности было что-то оскорбительное, потому его никто не любил, да и сам он вряд ли кого любил. Это был очень умышленный и надуманный человек. Он слишком любил симметрию, верил во всемогущество уставов и во всесилие форм (в этой оценке сходятся Филарет и Ник. И. Тургенев). При всей смелости своего логического проектирования Сперанский самостоятельных идей не имел. Его ясный ум не был глубоким. Его мировоззрение было каким-то беззвучным, вялым, в нем не хватает именно мужества или живости. Само страдание он воспринимает как-то мечтательно...
Сперанский не был мыслителем...
И тем характернее, что человек такого типа и стиля был увлечен и вовлечен в мистический водоворот...
Сперанский был из духовного звания, прошел обычный курс духовной школы, потом был учителем и даже префектом в той же Александро-Невской главной семинарии, где учился. Но богословием заинтересовался он только позже. Около 1804-го года он сближается с И. В. Лопухиным и под его руководством вдается в мистическое чтение. В эти годы он читает всего больше “теософические” книги, — Беме, Сен-Мартена, Сведенборга. [21] Только позже, уже в ссылке, в Перми и в Великопольи, переходит он к “мистическому богословию,” т. е. к квиетической мистике, отчасти, и к отцам, переводит книгу “О Подражании.” В то же время он учится по-еврейски, чтобы читать Библию по-еврейски, — еще позже начинает учиться по-немецки, уже в Пензе...
Для Сперанского очень характерно типическое тогда различение “внешнего” и “внутреннего,” скорее даже разрыв между ними. К истории Сперанский был более, чем равнодушен, об “историческом” и “внешнем” христианстве отзывался неприязненно и резко: “сие обезображенное христианство, покрытое всеми цветами чувственного мира.” Своему школьному другу, П. А. Словцову, он писал однажды: “искать в Священном Писании наших бесплодных и пустых исторических истин и суесловного порядка нашей бедной пятичувственной логики, это значит ребячиться, забавлять себя безделками учености или литературы.” Библия для Сперанского была книгой притч и таинственных символов, книга скорее мифическая или “теоретическая,” чем историческая. Такое восприятие Библии очень характерно для всего тогдашнего мистицизма и пиетизма вообще. У Сперанского удивляет его рассудочное визионерство, игра схем, даже не образов. Любопытно, что к Юнг Штиллингу и к апокалиптике вообще Сперанский относился сдержанно, — в апокалиптике для него было слишком много, жизни и истории...
Сперанский был масоном. Но он примкнул не к розенкрейцерам, а к “сциентической” системе Фесслера. Де-Местр считал Сперанского “почитателем Канта,” без достаточных к тому оснований... Вызов Фесслера очень характерен. Видный масонский деятель, реформатор немецкого масонства на более рационалистических и критических основаниях, он был вызван Сперанским для занятия кафедры во вновь тогда открытой Санкт-Петербургской духовной академии. Сперанский подчеркивал впоследствии, что Фесслер был вызван “по особому Высочайшему повелению.” Вызван он был на кафедру еврейского языка, который и преподавал раньше во Львове (там его слушал Лодий, который и указал на него Сперанскому). Но с прибытием его Сперанский открыл в нем отличные сведения философские, и кроме еврейского языка ему была вверена и кафедра философская, “протектором” которой считался Сперанский...
Даже старый и официальный биограф Сперанского, барон Корф, догадывался, что были и скрытые виды в вызове Фесслера. С тех пор стали доступны очень интересние заметки Гауеншильда, служившего одно время при Сперанском в Комиссии законов. Гауеншильд рассказывает о масонской ложе, учрежденной Фесслером в Петербурге, куда входил и Сперанский, — собиралась она в доме известного барона Розенкампфа. “Предполагалось основать масонскую ложу с филиальными ложами по всей Российской империи, в которую были бы обязаны поступать наиболее способные из духовных лиц всех состояний. Духовные братья были бы обязаны писать статьи по известным гуманитарным вопросам, говорить проповеди и т. д., и эти бумаги должны были затем препровождаться в главную ложу...”
Гауеншильд припоминает, что при первом же с ним свидании Сперанский заговорил о “преобразовании русского духовенства...”
Можно думать, что именно с этим умыслом и был призван Фесслер и введен в Академию...
Фесслер был вольнодумцем, не мистиком. Он примыкал к идеям Лессинга [22] и Фихте, [23] задачу истинного масона он полагал в созидании новой гражданственности, в перевоспитании граждан для наступающего века Астреи. Московские розенкрейцеры встретили весть о Фесслере с негодованием и страхом: “ибо это подкрадывающийся враг, отвергающий божество Иисуса Христа, а признающий его только великим мужем” (отзыв Поздеева в письме к гр. А. К. Разумовскому). Враждебно его встретили и в Петербурге. Однако, и в его ложу вошли видные люди, — С. С. Уваров, А. И. Тургенев, ряд карпато-россов из Комиссии законов — Лодий, Балудьянский, Орлай, лейб-медик Стоффреген, известный врач Е. Е. Эллизен, филантроп Пoмиaн Пезаровиус, основатель “Русского Инвалида” и Александровского Комитета о раненых...
В Академии Фесслер преподавал недолго, — скоро был обнаружен его социнианский образ мысли. Конспекты его предположенного курса были найдены “темными.” И вскоре Фесслер был перемещен на службу “корреспондентом” в Комиссию законов, а вслед затем Сперанский, защищавший и его, и его конспекты, и бывший до тех пор самым деятельным членом “Комиссии духовных училищ,” вовсе перестал приходить на собрания, и даже просил его уволить. Это было в 1810-м году. В 1811-м году Фесслер должен был уехать в Поволжье, к тамошним гернгутерам. В1818-м он снова вернулся в Петербург в должности лютеранского генерал-суперинтендента, и пользовался здесь благосклонностью князя Голицына...
Этот эпизод очень характерен для тогдашних смутных лет, — так ясно сказывается здесь вся сбивчивость и двусмысленность религиозных представлений.
4. Преобразование системы духовного образования.
В первые же годы Александровского царствования было начато преобразование духовных школ. Это было связано и с общим переустройством всей школьной системы, с открытием нового ведомства или министерства “народного просвещения” (в 1802 г.); и в 1804-м году, 5 ноября, было опубликовано и введено в действие новое “учреждение” Университетов и прочих гражданских училищ. Первое “предначертание” нового устройства духовных училищ было составлено в 1805-м году Евгением Болховитиновым (1767-1837), тогда викарным епископом Старорусским (в 1822 г. митрополит Киевский). Ему были переданы и отзывы, полученные с мест на вопрос желательных усовершениях. Вполне отрицательно к самой мысли о преобразовании отнесся, кажется, только Платон Московский. Впрочем, и никто из спрошенных преосвященных не предложил большего, чем только отдельные поправки и изменения в пределах привычного порядка. Единственным исключением было мнение московскаго викария Августина (Виноградского), епископа Дмитровского, который предлагал разделить ступени преподавания и построить Академию, как школу одних только “вышних наук,” хотя и не только богословских. Он же предлагал перенести Московскую академию в Троицкую лавру...
И сам Евгений был очень нетребователен в своих предложениях. Он предлагал освежить программу, ослабить засилие латыни в преподавании, оставив ее только для богословия и философии (“да и оные лучше преподавать с переводом, как у нас всегда и поступали”). В том же смысле высказывалось тогда и правление Невской академии...
Евгений внес в свое начертание только одну интересную подробность, — впрочем, тоже скорее в старом вкусе. Он предложил образовать в окружных Академиях особое ученое (точнее, учено-административное) отделение, или “ученое общество,” с довольно смешанными обязанностями и компетенцией, — “поощрять богословскую ученость,” издавать и цензуровать книги, следить за прочими духовными школами, заботиться об учебных пособиях. Эта мысль перешла и в позднейший проект (срв. устав Московского общества истории и древностей Российских, открытого именно в 1804-м году)...
Евгений был и остался вполне человеком предыдущего века. По личным вкусам это был человек мирской. Он и не скрывал, что монашество принял ради служебного движения, и постриг свой описывал (правда, в дружеских письмах) с какой-то неопрятной развязностью (“монахи, как пауки, опутали меня в черную рясу, мантию и клобук”)...
Евгений учился в свое время в Москве, был отчасти связан тогда и с “Дружеским обществом,” — во всяком случае, лекции Штадена он предпочитал урокам Академии. Богословием и тогда он мало интересовался, — его предмет была история. В истории он оставался тоже только собирателем, — “ум регистратурный,” по отзыву Иннокентия Борисова; “статистик истории,” назвал его Погодин; “в Евгении сколько изумляет собою обширность сведений, столько же поражает бездействие размышляющей силы,” замечает Филарет Черниговский...
Евгений не был силен даже в критике. Он не пошел дальше любознательности, — он был антиквар и библиограф. И в этих областях у него много бесспорных заслуг, но не в истории богословия. Не случайно впоследствии Евгений оказался в рядах ревнителей “обратного хода.” Богословия он не любил и богословских интересов у студентов Киевской академии, в бытность там митрополитом, не поощрял. Он считал более надежным отвлечь лучшие силы в архивную работу и в библиографию. В свое время он увлекался новой литературой, читал Шефтсбери, [24] Дидро и Даламбера, Руссо, любил Расина и Вольтеровы трагедии, любил трогательные романы и чувствительные повести, сам переводил Попа. Но к философии всегда относился с враждебной сдержанностью...
Понятно, что он не мог быть достаточно подвижен и изобретателен в своих преобразовательных “предначертаниях.” В дальнейшей работе по переустройству школьного дела Евгений уже не участвовал...
В 1807-м году, ноября 29, был образован, по Высочайшему повелению, особый “Комитета о усовершении духовных училищ.” В него вошли митр. Амвросий (Подобедов), епископ Феофилакт (тогда Калужский), князь А. Н. Голицын, Сперанский, и два протоиерея, государев духовник и военный обер-священник. Решающую и руководящую роль в этом Комитете сыграл именно Сперанский...
Комитет закончил свои работы очень скоро, — уже через полгода общий план реформ получил Высочайшее утверждение, под именем “Начертания правил о образовании духовных училищ.” 26 июня 1808-го года Комитет был распущен и учреждена была, в прежнем составе, уже постоянная “Комиссия духовных училищ,” высший и почти независимый главный орган духовно-школьного управления...
В этой стремительности уже чувствуется настойчивость Сперанского. Его влияние так явно в систематическом размахе и строгой геометричности всего плана духовно-школьной сети...
Вводится система ступеней и они обособляются в раздельные учебные заведения. Это было прямой противоположностью старому порядку. Ступеней установлено было четыре, — считая снизу: приходские училища, уездные училища, (епархиальные) семинарии, академии, — за одно из оснований деления взят здесь территориальный признак. Последовательные ступени сомкнуты в единство отношением подчинения. Вся школьная сеть разделена была на округа с Академией во главе или в центре. Таким образом, местные учебные заведения высвобождались от местной власти...
Весь этот план очень напоминает общую систему “народного просвещения” по уставу 1803-1804 года. И всего вернее, что в образец была принята Наполеоновская реформа (организация Universite de France, — закон 10 марта 1806 г.). Это очень подходит ко вкусам Сперанского (срв. впрочем об академических округах уже и в “предначертании” Евгения)...
Прежде всего, нужно было обосновать независимое существование второй и параллельной сети школ. Главный довод был взят от особой цели духовных училищ. Сам “род просвещения” в соответствии с иной целью здесь особый. Эта школа должна готовить на служение Церкви, а не государству. Практически не меньшую убедительность имел уже сам факт долголетнего существования очень развитой духовно-школьной сети, тогда как гражданские училища еще только предстояло заводить вновь...
Одна неожиданная оговорка была сделана уже в первоначальном “Начертании” — семинарии должны подготовлять не только к священству, но и для медико-хирургической академии (если бы то понадобилось)...
“Цель просвещения духовенства есть без сомнения твердое и основательное изучение Религиии. К познанию Религии, основанной в догматах ее на Священном Писании и преданиях древних, нужно знать самые сии древние источники и части наук, непосредственно к ним принадлежащие. Части сии суть: изучение древних языков, и наипаче греческого и латинского, основательное познание языка славянского и славяно-российского, познание древней истории и особливо священной и церковной, познание лучших образцов духовной словесности, и, наконец, учение богословское во всех его отделениях. Из сего открывается, что главной целью духовного просвещения должна быть ученость (eruditio), собственно так называемая. Cиe есть первое начало, на коем должны быть основаны Духовные училища...”
Высшие ступени старой школы превращались в отдельную среднюю школу, под именем семинарий. Курс семинарский распадался на три двухгодичных класса или “отделения,” — низшее словесное, среднее философское, высшее богословское Программа восполнялась введением наук исторических и математических...
Академия надстраивалась над всей старой системой совсем заново. По новому плану Академия есть очень сложное учреждение. Во-первых, — высшая школа. Во-вторых, — ученая корпорация или коллегия, — для этой задачи организовывалась особая “Конференция” с участием внешних членов, из числа любителей и покровителей просвещения. В-третьих, — административный центр, и для целого учебного округа (Правление, внутреннее и внешнее)...
Высшая школа теперь впервые выделяется в самостоятельную учебную единицу. “По разделению сему Духовные академии, не препинаясь в поприще, им предназначенном, первоначальным и так сказать стихийным обучением наук грамматических и исторических, займут в науках философских и богословских пространство, им приличное, и станут на чреде просвещения, высшему духовному образованию свойственной.”
В составленном затем уставе в связи с этим было увеличено число преподавателей: по штату положено было 6 профессоров и к ним 12 бакалавров...
Комитет разработал только план преобразования, установил для него принципы и задания. Вновь учрежденная Комиссия, прежде всего, и должна была разработать Устав. В работах комиссии духовных училищ действительное участие Сперанский принимал недолго; за это время он успел обработать только часть Академического устава, раздел о ее учебной организации и управлении. Очень скоро он отстранился от работы в Комиссии. Академический Устав был докончен и разработан Феофилактом, человеком умным и влиятельным (и “не по сану отважным,” как отозвался о нем Платон), — он внес в работу Комиссии свою жизненную опытность, но вместе и не очень строгий, скорее светский дух. Отчасти он напоминает Евгения, только его увлекала не история, а красноречие и эстетика, в духе того же предыдущего века...
Устав Академий был принят, как пробный, и с 1809-го года введен для испытания в Санкт-Петербургской Академии. Одна только Академия и была открыта в первую очередь. Еще Сперанский заметил: “сколь тщательно собираемы и соображаемы были все предметы к делу сему принадлежащие, но один опыт может положить на них печать достоверности.” На основании опыта первого курса Санкт-Петербургской Академии (1809-1814) и замечаний ее тогдашнего ректора Филарета пробный Устав был еще раз исправлен, в 1814-м году утвержден и распубликован, и тогда же введен для второй, в этом году открытой Академии, Московской, помещенной теперь в Лавре. Киевская Академия была открыта еще позже, только в 1819-м году. Открытие Казанской Академии задержалось еще больше, она была открыта уже только в 1842-м году. Главная причина такого постепенного устроения Академических центров была в недостатке учителей и профессоров. Предупреждение Платона сбывалось, — людей не хватало. Учившие в дореформенной школе в редких случаях могли быть употреблены для новых: учить приходилось тому, чему сами не учились, — в Киеве и в Казани подходящих лиц вообще не нашли...
При всех своих невязках и пробелах новый Академический Устав был несомненным успехом Вместо служилой идеологии XVIII-го века вся система построена теперь на подлинной педагогической основе. И задача преподавания определяется теперь не в том, чтобы сообщить учащимся и заставить их запомнить или усвоить определенный объем сведений или познаний. “Добрая метода учении заключается в том, чтобы способствовать к раскрытию собственных сил и деятельности разума воспитанников: а посему пространные изъяснения, где профессоры тщатся более показать свой ум, нежели возбуждать ум слушателей, доброй методе противны. По сей же самой причине противно доброй методе диктование уроков в классе.” Поэтому новый устав особое значение придавал частым сочинениям и вообще письменным упражнениям учащихся, на всех ступенях учебного плана. Вместе с тем поощрялось возможно обильное чтение внеучебных источников. От этого постулата приходилось отступать довольно часто — в виду недостаточности книг и учебных пособий. Это был общий и самый худший изъян нового устава, — законодатель не посчитался в достаточной мере с состоянием средств, наличных для воплощения его идеала...
Очень важно было и то, что принципиально было осуждено засилие латыни. “Введение в училищах латинской словесности, хотя в некотором отношении принесло им великую пользу, но исключительное в ней упражнение было причиною того, что во многих из них учение письмен словенских и еллинских, толико для Церкви нашей необходимых, мало по малу ослабевало.” Впрочем, латинский все еще оставался языком преподавания, переходить на русский дерзали немногие и позже. Греческий оставался только предметом преподавания в ряду многих...
“Классические книги” еще долгое время пo необходимости оставались прежние, а из вновь составленных не все бывали лучше бывших. Между тем, новый Устав бесстрашно требовал, чтобы преподаватели и учебники “всегда держались на одной линии с последними открытиями и успехами каждой науки...”
Кроме этих трудностей встретились сразу и друие. В 1809-м году была открыта по новому уставу Санкт-Петербургская Академия и история первого в ней академического курса (1809-1814) была жизненным комментарием в отвлеченной программе преобразователей...
“То была особая милость Провидения, что первый курс академии окончился благополучно,” говорил впоследствии Филарет, ректор с 1812 г. Он имел в виду дело Фесслера, больше всего. Фесслер (1756-1839) преподавал в Академии достаточно, чтобы произвести впечатление и завязать связи, тем более, что был он оратор вдохновенный и умелый, говорил “языком пламенного, восторженного одушевления,” вводил студентов в таинства современной немецкой философии, проповедовал “о блаженном ясновидении истины чрез внутреннее око ума.” В своих позднейших воспоминаниях Фесслер причисляет сам к своему кругу из своих академических слушателей Павского (связь уже и по-еврейскому языку) и Иродиона Ветринского [25]...
“Фесслер прельщал студентов ученостью,” вспоминал Филарет; “но должно почитать благодеянием Провидения, что вскоре, по случаю некоторых распрей и запутанностей, удален от академии, потому что, как дознано после, был человек опасного образа мыслей...”
Не менее опасным было и мистическое веяние или поветрие...
Латинский плен мог смениться немецким или даже английским, вместо схоластики угрожало теперь засилие немецкой философии и пиетизма. Тень немецкой учености с этих пор надолго ложится на русское богословие, к соблазну многих. Тем не менее, духовно-школьная реформа этих смутных лет внесла подлинное оживление в богословскую работу. Начинается творческое беспокойство и возбуждение. Болезнь была к жизни и росту, не к смерти или вырождению, — хотя и было то действительная болезнь, и из опасных...
Но среди крайностей мистических и философских увлечен и, с одной стороны, и опасений или подозрений, с другой, постепенно обозначается узкий и горный путь церковного богословия...
То было время споров, столкновений, борьбы. И борьбы за богословие, — против тех, кто его боялся и не любил, кто боялся мысли и творчества...
Первое действие этой борьбы был спор о русской Библии...
5. Российское Библейское общество.
Второе десятилетие нового века в России все проходит под знаком Библейского общества...
Это был как бы автономный отдел незадолго до того составившегося British and Foreign Bible Society (открыто в 1804-м году). И открыто Российское Библейское общество было под внушением и с деятельным соучастием агентов Британского. Замысел и идеология были восприняты вполне...
Устав был утвержден 6-го декабря 1812-го года, первое общее собрание произошло 11-го января 1813-го, и на нем председателем был избран кн. Голицын, тогда уже Синодальный обер-прокурор, а позже и Министр “сугубого министерства.” Практически, Библейское общество и превратилось во второй и не столь официальный лик ведомства духовных дел, стало неким двойником “сугубого министерства ...”
Общество было открыто под именем Санкт-Петербургского, в сентябре 1814 г. переименовано Российским...
Сперва задача Общества была ограничена распространением Библии среди иностранцев и инославных, “оставляя неприкосновенным издание книг Священного Писания на славянском языке для исповедующих греко-российскую веру, принадлежащее в особенности и исключительно ведомству Святейшего Синода.” Но уже в 1814-м году Общество приняло на себя издание и распространение и славянской Библии, особо и Нового Завета. Одновременно в состав совета Общества, где до того участвовали только светские лица, были введены в звании вице-президентов и директоров иерархи и другие духовные персоны, православные и инославные (даже Римско-католический митрополит Сестренцевич). В начале 1816-го года было решено издание русской Библии...
Первая задача Библейских обществ, Российского и Британского равным образом полагалась в том, чтобы “приводить в большее употребление” Слово Божие, хотя бы и в прежних или чужих изданиях, с тем, чтобы каждый сам смог испытать спасительное его воздействие, и в этом непосредственном восприятии познать Бога, “как открывает Его Священное Писание.” С этим и было связано твердое правило издавать священные книги “без всяких на оные примечаний и пояснений,” чтобы не заслонить человеческим толкованием, всегда по необходимости частичным, универсальной многозначности самого Божественного Слова, неисчерпаемого и беспредельного. За этим стояла та же теория о “немых” знаках и о “живом Учителе, обитающем в сердце.” В “библейской” идеологии всего резче сказывалось тогда влияние “общества друзей” (Society of friends), т. е. квакеров. Общение русских библейских деятелей с английскими в эти первые годы было очень тесным и живым. Особо нужно отметить миссионерские поездки английских миссионеров в области некрещеных инородцев (срв. английскую миссию за Байкалом для обращения бурят, или шотландскую миссионерскую колонию в Каррасе, на Кавказской линии, от Эдинбургского общества миссионеров). Деятельность Общества развивалась очень быстро и с большим успехом, по всей Империи сразу же раскинулась сеть отделений. За первые десять лет работы было издано (и приобретено) книг на 43-х языках и наречиях в общем количестве 704.831 экземпляра. Этот успех, впрочем, всего больше зависел от правительственной поддержки и даже инициативы. Российское Библейское общество, в отличие от Британского, вовсе не было общественным начинанием, и держалось совсем не общественным сочувствием или вниманием. Успех создавался именно административным внушением или приказом, “благовестие” слишком часто передавалось точно по команде. “Во всех обнаружилась ревность к Слову Божию и стремление просвещать седящих в сени смертной. Губернаторы начали говорить речи, совершенно похожие на проповеди; городничие и градские головы, капитан-исправники с успехом распространяли Священное Писание и доносили о том по начальству в благочестивых письмах, переполненных текстами...”
Во всем этом было много показной казенщины, казенной шумихи (своего рода “Потемкинские деревни”). Библейское Общество практически превращалось в особое “ведомство,” и вырабатывалось особое ведомственно-библейское лицемерие, достаточно слащавое и неприятное. Однако, не следует и преувеличивать эти темные стороны. Созидательные последствия библейской работы не менее очевидны и достоверны. И с Библейским обществом был сразу же связан ряд других “человеколюбивых” начинаний, отчасти тоже английского образца, но тем не менее живых и нужных. Особого упоминания требует издательская деятельность княгини С. С. Мещерской, обычно переводившей или приспособлявшей для народного чтения брошюры или памфлеты, изданные т. наз. Religious-Tract-Society, основанного в 1799-м году (т. наз. “Мейеровские” брошюры, от имени книгопродавца Мейера, бывшего и корреспондентом Британского Библейского общества в Санкт-Петербурге). Можно спорить о степени доступности и пригодности этих брошюр, “сочиненных некоторою благочестивой дамою,” для “простого народа” (впрочем, было издано и кое-что оригинальное — выборки из Святителя Тихона и из проповедей митр. Михаила). Но принципиальную важность этого начинания вряд ли можно оспаривать. То же приходится сказать и о заведении школ по “Ланкастерской” системе. Еще важнее было заведение “Императорского человеколюбивого Общества,” работа в тюрьмах (срв. деятельность В. Веннинга, члена Лондонского общества попечения о тюрьмах, основавшего подобное общество и в Санкт-Петербурге, в 1819 г.)...
Все это было проявлением одного и того же английского влияния. И эта волна англо-саксонской Non conformity сливалась с волной немецкого пиетизма и старого масонского мистицизма. Из прежних масонских деятелей в Библейском Обществе усердно участвовали Кошелев, 3. Карнеев, Лабзин, Ленивцев. В Московском отделе к этой группе принадлежал Бантыш-Каменский, [26] этот “белый монах, светский архиерей,” как его остроумно определяет Вигель. Может быть, такое определение еще больше подходит к самому князю Голицыну, который и сам себя чувствовал именно неким “светским архиереем,” тем более значительным от того. Издательская деятельность Лабзина была, во всяком случае, согласована с работами Библейского общества, — и его издания распространялись обычно именно через налаженный аппарат Библейского общества, так что легко и естественно могли быть приняты в качестве рекомендуемого от самого Общества комментария к его собственным изданиям. Рассылка этих книг облегчалась и тем, что в Почтовом департаменте главноначальствовал также Президент Библейского общества и Министр “сугубого” ведомства, а среди чиновников почтового ведомства редкий не был включен или хоть вписан в какую-нибудь ложу или отдел. Это издание “мистических” книг видными членами Библейского общества ложилось роковой тенью и на само библейское дело. Не без поводов Библейское Общество могло представляться учреждением двусмысленным. В составе Общества, и при том в положениях или ролях руководящих и ответственных, было слишком много людей крайнего образа мыслей, которые даже и не скрывали своих надежд и намерений. По уставу и по замыслу Библейское Общество должно было быть всеконфессиональным, так, чтобы все “конфессии” были в нем представлены, как равно владеющие святыней Слова Божия. На деле само Библейское Общество становилось какой-то новой конфессией или сектой, по крайней мере — психологически, с особой кружковой, эсотерической и экзальтированной психологией. Стурдза не без основания говорил о некоей “англо-русской секте” (la secle anglo russe) и называл Библейское общество “экзотическим...”
Многиe видные члены Библейского общества участвовали в кружке или “духовном союзе” Татариновой, в частности, В. М. Попов, секретарь Библейского Общества...
Веротерпимость и всеконфессиональность слишком часто обертывались покровительством сектантам (особенно духоборам и молоканам, даже и скопцам, — в этой среде хорошо расходились “мистические” книги, особенно Юнг-Штиллинг и Эккартсгаузен; срв. библейскую секту “духоносцев,” основанную на Дону Котельниковым). И, во всяком случае, слишком часто тогда декламировали против “наружной церковности,” в надежде сорвать эти “обветшавшие пелены” с истинного и внутреннего христианства. У Юнга-Штиллинга можно было прочитать и о “тьме нелепостей и суеверий, называемых Греко-Католическим Восточным исповеданием,” которую подобает разогнать “светом Божественной книги.” Уже одна эта административная навязчивость библейских предприятий не могла не раздражать. Свободное обсуждение Библейского дела не входило в виды тогдашнего правительства. И оно само было виновато, если у многих создавалось впечатление, будто под покровом санкций административных, цензурных и полицейских, правительством подготовляется какой-то сверхконфессиональный переворот, на который согласие будет также вымогаться и вынуждаться. Редкие попытки критически высказаться встречали столь бурное противодействие властей, что подозрения могли только сгущаться...
В этом отношении особенно характерно дело Иннокентия Смирнова (1784-1819), тогда архимандрита и ректора Санкт-Петербургской семинарии. Иннокентий с 1815-го года был членом и директором Библейского общества, принимал участие в переводческом комитете; и даже в Пензе, уже после высылки, поднял вопрос о мордовском переводе. Искренняя и крепкая дружба связывала его с кн. Мещерской. И был он человек сердечного благочестия и строгой духовности, любил странников и юродивых. Его смущал только этот дух притязательного всеконфессионализма, которым воодушевлялись всего более Лабзин и сам Голицын. В конце 1818-го года Иннокентий, в качестве духовного цензора, разрешил к печати книгу некоего Евстафия Станевича, “Разговор о бессмертии души над гробом младенца.” Грек по крови, Станевич воспитан был в России, вполне обрусел, был фанатическим приверженцем Шишкова и членом “Беседы,” но вместе и почитателем Юнга и других аглицких писателей. Книга его, как о ней отзывался Стурдза, была — “сочинение слабое, но безгрешное.” Вся умышленная острота книги была в откровенном осуждении идей “Сионского Вестника” и подобных, и еще в резких намеках на двоящиеся намерения “сугубого министерства.” Филарет говорил впоследствии об этой книге: “в ней заключалось много выражений слишком оскорбительных для придержащей власти и вообще для духа правления того времени.” Потому Филарет и остерегал Иннокентия от пропуска этой книги, но тот не послушался. Это было принято именно как вызов...
Книга Станевича была остановлена и изъята по Высочайшему повелению, спешно испрошенному Голицыным, и автор был выслан из столицы в 24 часа. Любопытно, что и освобождена от ареста книга Станевича была тоже по Высочайшему повелению, уже в 1824-м году, после падения Голицына, что и помечено во втором издании...
Иннокентий, несмотря на заступничество митр. Михаила, был тоже удален из Санкт-Петербурга, при первом же благословенном случае, в почетную ссылку, назначенный без ведома Синода по единоличному представлению Голицына на освободившуюся кафедру в Оренбург. Только с большим трудом удалось изменить это назначение и Иннокентий был назначен в Пензу. Здесь через несколько месяцев он скончался, от нервного потрясения и горькой тревоги...
Очень показательны пункты суждения Голицына о книге Станевича. “К суждению о бессмертии души привязано защищение Восточной церкви, тогда как никто на нее не нападает, и ежели бы что подобное случилось, то не частному человеку брать на себя сие защищение. Автор, понимая превратно, не чувствует, что может привести умы в беспокойство, что подлинно Церковь в опасности.” Конечно, именно с тем книга Станевича и была написана, чтобы посеять такую тревогу...
“Судит, кто более прав, святой Иоанн Златоуст или святой Августин, и отдает преимущество Златоусту только потому, что он Восточной церкви, хотя в проповедях и в сочинениях духовные особы часто указуют на Августина...”
Еще характернее: “Автор опорочивает такие книги, кои гражданская цензура пропустила, как, напр., сочинения Дютуа, и именно Христианскую философию, и опасается, что и Божественная философия не вышла бы, которая однако же выходит на русском языке и напечатана иждивением Вашего Величества.” И, наконец: “Под видом защищения наружной церкви вооружается против внутренней, т. е. хочет отделить тело от души...”
Отсюда вывод, — “одним словом, книга сия совершенно противна началам, руководствующим христианское наше правительство по гражданской и духовной части...”
Утверждая доклад Голицына, Государь выразил надежду, “что впредь Комиссия духовных училищ возмет меры, чтоб сочинения, ищущия истребить дух внутреннего учения христианского, никоим образом не могли выходить из ее цензуры...”
Это было очень ясное и откровенное заявление...
Важно отметить, что беспокойство захватывало и людей, вполне сочувствовавших библейскому делу и соучаствовавших в нем. Таков был, напр., Михаил (Десницкий), тогда митрополит Новгородский, человек теплого благочестия и мистического склада, из воспитанников Новиковской семинарии. В свое время он выдвинулся, как проповедник для простого народа, будучи приходским священником в Москве. Вопросы внутренней жизни были предметом его преимущественного внимания, он призывал уйти из Египетского рассеяния в “пустыню внутреннего уединения.” Говорил он просто и сердечно, и очень любил проповедовать. В Синоде митр. Михаил возмущался всего больше самоуправством Голицына в делах церковного управления. И, конечно, никак не мог одобрить той истерической и сектантской экзальтации, которой так увлекались Голицын и другие, — в проповедях Линдля и Госснера, [27] или в писаниях пиетистов, или даже в “проказливых таинствах Михайловского замка” (как остроумно Вигель называет радения Татариновского кружка). Митр. Михаил скончался уже в 1824-м году, усталый и истощенный в борьбе со “слепотствующим министром.” Незадолго перед смертью он написал Государю откровенное письмо, предостерегая, что Церковь в опасности и в гонении, — Государь получил это письмо в Лайбахе, когда митрополита уже не было в живых. Молва называла Голицына “убийцей митрополита.” Очень характерно, что против Голицына и против его режима выступали и такие люди, как Михаил. “Пустота и сиротство им оставленное велико,” писал тогда Филарет, бывший викарием Михаила. И молился: “чтобы Господь даровал нам человека с духом и силою Илииною, ибо надобно проповедовать покаяние и суд, и с любовию и терпением Христовым, ибо надобно миловать и утешать, без надежды собственного утешения...”
Эти тревоги о засилии и самоуправстве “ложных” мистиков были прелюдией к открытому “восстанию” против Библейского общества, против русской Библии в особенности...
“Но что простираться вдаль. Библейские общества не заменяют ли уже некоторым образом видимую церковь?.. Трудно ли уразуметь, что смешение в их собраниях всех вероисповиданий христианских есть только образец той всеобщей религии, которую они затевают?..”
Это “единое сословие библейское” многим представлялось уже какой-то противо-Церковью. Библейское Общество слишком напоминало “тайные общества,” — “и есть то же у методистов, [28] иллюминатов, [29] что франк-масонов ложа...”
Архим. Фотий выражался еще более решительно: “и готовили враги какую-то библейскую религию ввести, смесь вер сделать и православную веру Христову утеснить...”
Эта “новая” вера казалась ему прямым обманом. “В наше время во многих книгах сказуется и многими обществами и частными людьми возвещается о какой-то новой религии, якобы предоставленной для последних времен. Сия новая религия, проповедуемая в разных видах, то под видом нового света, то нового учения, то пришествия Христа в Духе, то соединения церквей, то под видом какого-то обновления и якобы Христова тысячелетнего царствования, то внушаемая под видом какой-то новой истины, есть отступление от веры Божией, Апостольской, отеческой, православной. Эта новая религия есть вера в грядущего антихриста, двигающая революцией, жаждущая кровопролития, исполненная духа сатанина. Ложные пророки ее и апостолы — Юнг-Штиллинг, Эккартсгаузен, Гион, Беме, Лабзин, Госнер, Фесслер, методисты, гернгутеры...”
Во всех этих пугливых догадках и подозрениях, однако, не все было напрасным. Поводов и оснований тревожиться было более, чем достаточно. Духовная обстановка не была здоровой, во всяком случае...
Но случилось так, что это полуоправданное “восстание” обернулось нечестной придворной интригой, и тревога разрешилась болезненным припадком. Чувство меры и трезвая перспектива были потеряны...
В разыгравшемся споре и борьбе обе стороны были только полуправы, и обе были очень виноваты...
О русском библейском переводе открыто заговорили впервые в 1816-м году. Голицын, как президент Российского Библейского общества, получил Высочайшее изустное повеление, “дабы предложил Святейшему Синоду искреннее и точное желание Его Величества доставить и россиянам способ читать слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия, на коем книги священного писания у нас издаются.” Предполагалось при этом, что новый перевод будет издаваться со славянским текстом совокупно, как еще раньше уже было выпущено послание к Римлянам, с дозволения Синода (имелась в виду книга архиепископа Мефодия Смирнова, перевод и толкование; первое издание еще в 1794 г., третье в 1815)...
“Само собою разумеется, что церковное употребление славянского текста долженствует остаться неприкосновенным...”
Российский перевод назначался только для приватного употребления, для чтения дома...
Голицын в оправдание предположенного перевода на современный язык ссылался, между прочим, и на то, что в подобных изъясненным здесь обстоятельствах в церкви греческой патриаршей грамотой одобрено народу чтение священного писания Нового Завета на новейшем греческом наречии, вместо древнего (сама грамота патр. Кирилла была припечатана в отчете Р. Библейского общества еще за 1814-ый год)...
Синод не принял на себя руководства библейским переводом и не взял за него ответственности на себя, — может быть, такой образ действий был и подсказан свыше... Перевод был отдан в ведение Комиссии духовных училищ, которой надлежало избрать надежных переводчиков в местной Духовной Академии. Изданный перевод должен был быть от Р. Библейского общества...
Перевод был поставлен под охрану Высочайшего имени. Замысел принадлежал самому Государю, или был ему приписан. “Не токмо одобряет все споспешествующее сему спасительному делу, но и одушевляет деятельность Общества внушениями собственного сердца. Он сам снимает печать невразумительного наречия, заграждавшую доныне от многих из Россиян евангелие Иисусово, и открывает сию книгу для самых младенцев народа, от которых не ея назначение, но единственно мрак времен закрыл оную.” Правду сказать, “невразумительное наречие” закрывало Библию не столько от народа, сколько именно от высшего круга, от самого императора, прежде всего, — он сам привык читать Новый Завет по-французски (в известном переводе Де-Саси), и не изменил этой привычки и с изданием “российского” перевода...
Ведение перевода от Комиссии духовных училищ было поручено Филарету, тогда архимандриту и ректору Санкт-Петербургской Академии, и он имел избрать переводчиков по своему усмотрению. Считалось, что перевод производится при Академии. Филарет сам взял на себя Евангелие от Иоанна. От Матфея переводил Павский, от Марка архим. Поликарп (Гайтанников), тогда ректор Санкт-Петербургской семинарии, а вскоре и Московской Академии, и от Луки архим. Моисей (Антипов-Платонов), ректор Киевской семинарии, а потом и Академии, бывший перед тем бакалавром в Санкт-Петербурге, впоследствии Экзарх Грузии. Работа отдельных сотрудников пересматривалась и сверялась в особом комитете из членов Библейского общества, — в нем участвовали митр. Михаил (Десницкий), впосл. митрополит Санкт-Петербургский, Серафим (Глаголевский), тоже будущий митрополит, Филарет, Лабзин, В. М. Попов, директор департамента в “двойном министерстве” и секретарь Библейского общества, человек крайних мистических взглядов, переводчик Линдля и Госнера, член кружка Татариновой, окончивший жизнь свою в Зилантовом монастыре в Казани, как заточенный, “кроткий изувер,” как его остроумно называет Вигель. Этот неожиданно пестрый состав наблюдающего комитета очень характерен...
Правила для перевода были составлены Филаретом, это сразу чувствуется уже в их стиле. Переводить надлежало с греческого, как первоначального, преимущественно перед славянским, с тем, чтобы в переводе удерживать или употреблять слова славянские, “есть ли они ближе русских подходят к греческим, не производя в речи темноты или нестройности,” или если соответственные русские “не принадлежат к чистому книжному языку.” В переводе всего важнее точность, затем ясность, наконец, чистота. Очень характерны некоторые стилистические директивы. “Величие священного писания состоит в силе, а не в блеске слов; из сего следует, что не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям, ради мнимой их важности.” Еще важнее другое замечание. “Тщательно наблюдать должно дух речи, дабы разговор перелагать слогом разговорным, повествование повествовательным, и так далее...”
Эти положения литературным “архаистам” показались дурной стилистической ересью, и это был один из решающих моментов взволнованного “восстания” или интриги против русской Библии в 20-х годах...
Русское Евангелие было закончено и выпущено в 1819-м году, и весь Новый Завет уже в 1820-м... Сразу же был начат русский перевод и Ветхого Завета. Прежде всего была переведена Псалтырь и выпущена отдельно, — один российский текст, без славянского, — в январе 1822-го года. В то же время началась работа над Пятокнижием. Филарет в своих “Записках на книгу Бытия” (первое издание уже в 1816 г.) всюду дает библейский текст в русском переводе, с еврейского. К переводческим работам были привлечены и вновь открытые Академии: Московская и Киевская, также и некоторые семинарии. Сразу же встал трудный и сложный вопрос о соотношении еврейского и греческого текстов, о достоинстве и достоинствах перевода Семидесяти, о значении Масоретских чтений, — и эти вопросы обострялись тем, что всякое отступление от Семидесяти означало практически и расхождение со славянской Библией, остававшейся в богослужебном употреблении, а потому нуждалось в нарочитых оправданиях и оговорках. Для начала вопрос был решен слишком просто. В основу был положен еврейский (масоретский) текст, как “подлинный,” а в объяснение расхождений со славянской Библией было составлено особое предисловие, убедительное и для незнающих древних языков. Составил его Филарет, и подписано оно было митр. Михаилом, митр. Серафимом, тогда еще Московским, и самим Филаретом, тогда архиепископом Ярославским...
Окончательная корректура Пятокнижия была поручена о. Герасиму Павскому. Печатание и было закончено в 1825-м году, но — по изменившимся обстоятельствам — издание не только не было выпущено в свет, но было арестовано и вскоре сожжено. Само библейское дело было остановлено и Библейское общество закрыто и запрещено...
Этот злополучный финал библейского начинания требует объяснения...
Русский перевод Библии в общем привлек к себе внимание и сочувствие. Вслух и открыто было сказано и написано много похвальных, пылких, восторженных слов. Не все они были искренними, было очень много официальной риторики и прямой лести. Но немало было сказано и слов от самого сердца и с полным убеждением. Издание русской Библии отвечало несомненной потребности, утоляло действительный “глад слышания слова Божия,” как выражался Филарет. И, вспомним, еще ведь Тихон Задонский прямо говорил о необходимости русского перевода...
Перевод Российского Библейского общества не был безупречен, конечно. Но трудности и погрешности перевода были таковы, что исправить их можно было только через гласное обсуждение и широкое сотрудничество, а никак не через испуг, запрет или подозрение...
Строго говоря, подлинным предметом тревог и нападения был князь Голицын, “мирской человек в еретическом платье,” а не русская Библия...
В окончательном “восстании” против Библейского общества и дела соединились люди, вряд ли очень близкие или похожие один на другого по душевному складу и стилю. Идеология всей антибиблейской интриги принадлежит двоим, — архимандриту Фотию и адмиралу Шишкову. Здесь было собственно две разных идеологии...
Архимандрит Фотий (в миру Петр Спасский, 1792-1838) очень типичен для своей взбаломученной и смутной эпохи, для всей этой тогдашней подозрительной неразберихи. Изуверный обличитель мистических и прочих зловерных происков, Фотий был при этом человек того же психического склада, что и его противники, и страдал тем же экстатическим недугом. Фотий написал впоследствии свою автобиографию, — очень убедительный и очень жуткий автопортрет. Перед нами экстатик и визионер, почти что вовсе потерявший чувство церковно-канонических реальностей, и тем более притязательный, совсем не смиренный. Это образ самозванного харизматика, очень самомнительного и навязчивого, всегда создающего вокруг себя атмосферу какого-то изолирующего возбуждения. Это типический образ прелести, страшный закоулок или тупик ложного аскетизма. Фотий весь в душевности, весь во впечатлениях и переживаниях, у него нет ни духовной перспективы, ни подлинной глубины, ни созерцательного размаха. Он весь в испуге и в страхах, — он прячется, боится гласности, — и если наступает, то именно с перепуга. В этом ответ на трудный вопрос о его искренности. Нет, он не был нечестным лицемером, он целен в своих действиях и разоблачениях, — он восставал на Библейское общество в действительной уверенности, что борется с самим Велиаром (“архангельское подвизание”). Но для такого типа изуверов, действительно, характерно это своеобразное самомнение, самочувствие пророка, призванного или посланного, самочувствие чрезвычайной миссии или посольства, некий экстатический эгоцентризм. Скорее можно говорить об одержимости, чем о лицемерии. Во всяком случае, всего менее слышится в неистовых воззваниях и выкриках Фотия голос церковной старины или древнего предания. Он для этого слишком мало знал, с отеческими и даже аскетическими творениями был мало знаком, и на них почти не ссылается. “Святых отец не имею,” писал он сам, — “одну святую Библию имею и оную читаю.” В этом отношении Фотий не отступает от привычек тогдашнего “библейского” времени. Фотий не был и строгим ревнителем или хранителем церковных обычаев и преданий. Он любил все делать по-своему, потому и ссорился постоянно с церковными властями. Аргументирует он обычно от личных прозрений и вдохновений, видений, явлений, снов. Фотий был не столько суеверен, сколько был изувер...
Фотий учился в Петербурской академии, “под тонким взором архим. Филарета,” — и не доучился, по болезни. Это был какой-то пароксизм страхов и душевное изнеможение. Фотий смутился и разбился о тогдашний общественный мистицизм. Юнга-Штиллинга слишком много читали многие в Академии, ядовитые книги этого враля и богоотступника. “В академии было позволено читать вновь вышедшие сочинения, как то: Штиллинга, Эккартсгаузена и прочие романические и вольномысленние книги... Выходили споры о тысящелетнем царстовании на земли Христа, о вечности мучений и других вещах духовных; некоторые любили уклонение от Священного Писания, а другие таинственность везде находить. Святых отцов не давали читать из академической библиотеки, ибо никто совета не подавал и примера. Толковники на Священное Писание были рекомендованы и выдаваемы немецкие и прочие иноверные, более ко вреду, нежели на все полезные...”
Фотий растерялся в такой обстановке. Однако, не малому и научился здесь, за тот год с небольшим, что пробыл в Академии. Вряд ли не здесь именно научился и приучился он “таинственность всюду находить.” И вряд ли не здесь заразился этой тогдашней болезненной модой толковать Апокалипсис, и по апокалиптическим текстам, как по знакам, разгадывать современность, — и когда его действительные или воображаемые враги вычитывали оттуда Тысящелетнее царствие, он всюду разгадывал Антихриста. “Теперь дрова уже подкладены, и огнь подкладывается...”
Выйдя из Академии, Фотий поступил учителем в Невское училище и был здесь под смотрением ректора Иннокентия. В 1817-м году Фотий принял монашеское пострижение и сразу же был определен законоучителем в 2-ой кадетский корпус. Поле наблюдений расширилось. Фотий продолжал собирать обличительные материалы, — перечитывал и обозревал зловерные книги, вновь печатанные, “и особенно явно и сокровенно революционные и злодейские.” Подбор и перечень оказался у него довольно пестрым и беспорядочным. Сюда входили и книги материализма английского, и книги сквернословия французского, масонские и магические, немецкие философские, волшебской Беме, Штиллинг и подобные “книги бесовские,” “революционные, злые,” “худые, масонские,” “масон-еретик” Фенелон и “скверная жена французская” Понша, и прочие, “излагающие учение методистов и квиетистов, [30] т. е. же того якобинства и философии личиной христианства закрытые...”
К “новоученым” духовным лицам у Фотия навсегда осталось глубокое недоверие: “не было даже ни единого сотрудника к тому годного, всяк был готов продать истину.” На этом фоне является затем и русская Библия...
Сперва Фотий действовал против действительных масонов, — как сам он говорит, “действовал с опасностью жизни против Сионского Вестника, Лабзина, лож масонских и ересей, старался ход расколов их остановить.” Во многом Фотий был прав, но отзывался он на все соблазны в каком-то истерическом надрыве, и потому скорее раздражал, чем убеждал. И была у него какая-то экстатическая мнительность, искажавшая и верные наблюдения примесью воображаемых и незримых черт. Митр. Михаил поручил Иннокентию успокоить Фотия. Иннокентий вряд ли не разволновал его еще более своими собственными горькими речами о сетях бесовских. Фотий впоследствии написал “Житие” Иннокентия, которого считал своим учителем, — но в нем он стилизовал действительного Иннокентия под самого себя или под свой воображенный идеал. Иннокентий был в действительности много тоньше и глубже, хотя и не было у него достаточно самообладания и терпения. Фотия вскоре нашли слишком шумным для столицы, и его услали в Новгородское удаление, настоятелем сперва в Деревяницкий монастырь, затем в Сковородский, наконец, и в Юрьев архимандритом. К этому именно времени и относится знакомство и сближение Фотия с графиней А. А. Орловой, — этот решительный факт его жизни. Неожиданным образом, именно в эти же годы и через “графиню Анну” Фотий сближается и с князем Голицыным. Сохранились их письма, они имеют сердечный и задушевный характер. Фотий в своей “автобиографии” вспоминает о долгих и длинных беседах своих с Голицыным, у Орловой, иногда даже до девяти часов кряду, и подчеркивает, что Голицын горячо полюбил его и был готов исполнить любую его просьбу. По подлинным письмам Голицына мы можем судить, что Фотий не преувеличивал. И он сумел примирить на время Голицына и митр. Серафима. Голицын увлекался Фотием как Златоустом и “юным старцем” (Фотию было тогда с небольшим только 30). И Фотий не скрывал своих дружеских чувств: “А ты и я — два, как тело и душа, как ум и сердце; одно мы, ибо Христос посреде нас...”
“Восстание” вспыхнуло в 1824-м году. Филарет так вспоминал о нем. “Восстание против министерства духовных дел и против Библейского общества и перевода священных книг образовали люди, водимые личными видами, которые чтобы увлечь за собою других добронамерных, употребляли не только изысканные и преувеличенные подозрения, но и выдумки и клеветы...”
Нет нужды много говорить об участии в этой интриге Аракчеева. Для него это был сходный повод и средство удалить от власти и правительственного влияния соперника, сильного личной связью с Государем...
Предлогом и поводом к решительным действиям был взят русский перевод книги Госнера “О Евангелии от Матфея” (в немецком подлиннике книга называлась: Geist des Lebens und der Lehre Jesu Christi, in Betrachtungen und Bemerkungen ueber das ganze Neue Testament, IBd., Matthaus und Marcus). Это был только повод, так как сама книга ничем не выделялась из ряда многочисленных тогдашних назидательно-пиетических изданий. Фотий несколько раз писал Государю об опасности, вполне в лихорадочном стиле. Он писал в сознании и убеждении, что послан и посвящен во свидетельство, на защиту осажденной Церкви и отечества. В Вербное воскресенье был послан к нему Ангел Божий, — предстал ему во время сна, имел в руке книгу разгнутую, а по ней было сверху начертано в ряд: “сия книга составлена для революции и теперь намерение ея революция.” Оказалось, то было “Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова” (перевод с французского, вышел еще в 1820-м году; переводчик, И. И. Ястребцов, служил в Комиссии духовных училищ, правителем дел). “Весть к отступлению от веры Христовой и к перемене гражданского порядка по всем частям,” так Фотий определяет основную идею этой лукавой и нечестивой книжицы...
“Революция” была единственным доводом, которым еще можно было поколебать “двойное министерство” в глазах Александра I, — Фотий прямо об этом говорит: “на него таковое политическое действие и умышление больше имело влияния, нежели самое благо Церкви всея...” В религиозном отношении Александр был вряд ли не радикальнее самого Голицына...
Фотий свидетельствовал. “Пребывая в сем граде полтора месяца, я вслед за Госнером тайно назирал и узнал, что он для приуготовления революции умы вызван учить и всячески так огражден, что никто не смеет его и коснуться: он вызван потому, что из нашего духовенства правоверного никого не нашлось способного к умыслам...”
Письма Фотия заинтересовали Государя именно своим истерическим апокалиптизмом. Потому и захотел он видеть Фотия лично. Перед тем был у него митр Серафим...
После аудиенции у Государя Фотий дважды встречается с Голицыным, и на втором свидании его проклинает...
“Фотий стоит у святых икон: горит свеща, святые тайны Христовы предстоят, Библия раскрыта (Иерем. XXIII глава). Входит князь и образом яко зверь рысь является (Иерем. гл. V, ст. 6 [31]); протягивает руку для благословения. Но Фотий ему не давая благословения, говорит тако: в книге “Таинство креста” под твоим надзором напечатано: духовенство есть зверь, а я Фотий из числа духовенства есмь иерей Божий, то благословить тебя не хощу, да тебе и не нужно оно (дал ему прочитать Иерем. гл. XXIII). Но кн. Голицын не хотел и убежал, но Фотий в след растворенной двери закричал: если не покаешься, то попадешь в ад...”
Так рассказывает сам Фотий. Шишков в своих “Записках” прибавляет: “Фотий в след ему кричал: анафема! да будешь проклят...”
В этот же день был дан рескрипт о высылке Госнера заграницу и о сожжении русского перевода его книги рукою палача, с тем чтобы переводчики и цензоры были преданы суду...
Фотий очень боялся гнева царева за свою дерзкую анафему, но продолжал посылать во дворец свои воззвания, — одно с изложением как “плана разорения России,” так и “способа оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо.” Вопрос о Библейском обществе здесь был поставлен со всей остротой. “Библейское общество уничтожить под тем предлогом, что уже много напечатано Библий, и оно теперь не нужно...” Министерство духовных дел упразднить, а другие два отнять от настоящей особы... Кошелева отдалить, Госнера выгнать, Фесслера изгнать и методистов выгнать, хотя главных...
И Фотий снова ссылается на вдохновение. “Провидение Божие теперь ничего более делать не открыло. Повеление Божие я возвестил: исполнить же в Тебе состоит. От 1812 года до сего 1824-го ровно 12 лет. Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию. Да победит Он духовного Наполеона лицем твоим...”
В ближайшие дни затем Фотий и еще не раз писал и пересылал свои взбудораженные “хартии” к Государю. “Тайна беззакония великая, страшная деется, я и открываю тебе, о, сильный крепостию и духом Божиим...”
Цель была достигнута. 15-го мая 1824-го года Голицын был уволен, “сугубое министерство” упразднено и разделено по-прежнему. Впрочем, Голицын не впал при этом в немилость, и личного влияния не потерял, даже и после смерти Александра. Министром отделенного министерства народного просвещения был определен престарелый адмирал Шишков, — “вырыли из забвения полумертвого Шишкова.” И Шишков, хотя уже и не был министром духовных дел, по инерции продолжал политику “сугубого министерства,” только с обратного конца, и настойчиво вмешивался в дела Синода...
Религиозные воззрения самого Шишкова не отличались большой определенностью. Это был сдержанный вольнодумец XVIII-го века, ограничивавший свой рационализм только народно-политическими сооображениями. Даже по свидетельству лиц, к нему расположенных и близких, был он причастен “мнений, подходящих близко, если не совершенно следующих социнианству.” Фотий о нем выражается уклончиво: “Церкви православной ревнитель, поколику имел сведения...” Фотий хорошо знал, что эти “сведения” были очень скудными, и относились больше к положению Церкви в государстве, где она призвана быть опорой и оплотом против мятежа и революции...
Однако, по Библейскому делу у Шишкова было свое и очень твердое мнение. Для него сама мысль о переводе Библии представлялась злейшей ересью, — но это была, прежде всего, “литературная ересь” (по остроумному замечанию Свербеева). Ибо Шишков отрицал само существование русского языка, — “как будто бы некий особый,” говорил он в недоумении. “У нас славянский и русский язык один и тот же, он различается только на высокий и простой,” — это была основная религиозно-филологическая теза Шишкова. Литературный или разговорный русский язык, в его представлении и понимании, есть “только простонародное наречие” единого славено-русского языка. “Чтож такое русский язык отдельно от славянского? Мечта, загадка!.. Не странно ли утверждать существование языка, в котором нет ни единого слова...” Ибо словарь в обоих стилях или “наречиях” один и тот же. “Мы не иное что под славенским языком разумеем, как тот язык, который выше разговорного и которому, следственно, не иначе можно научиться, как из чтения книг; он есть высокий, ученый, книжный язык.” В последнем счете Шишков различает два языка: “язык веры” и “язык страстей” — или “язык Церкви” и “язык театра.” Библейский перевод и представлялся Шишкову “перекладкою” Слова Божия с наречия высокого и важного на этот низкий стиль, на этот язык театра и страстей. Это было умышленным умалением священного достоинства Библии, думал он. Отсюда именно все его хлопоты “о наблюдении православия в слоге.” И к тому же перевод был сделан небрежно (“был брошен нескольким студентам академии, с приказанием сделать оный как можно скорее”). Отступление русского перевода от славянского наводит тень на этот привычный и освященный церковным употреблением текст, внушает к нему недоверие. “Гордость какого-нибудь монаха или хвастуна ученого скажет: так по-еврейски. Да кто меня уверит, что он знает всю силу еврейского столь мало известного языка, на котором писано сие в столь отдаленные веки.” Он имел в виду при этом вряд ли не самого Филарета...
Довольно часто Шишков выражается так, точно именно славянский язык был оригинальным языком Священного Писания: “как же дерзнуть на перемену слов, почитаемых исшедшими из уст Божиих...”
В этих религиозно-филологических рассуждениях Шишков был не один. Любопытно, что вполне отрицательно к русскому переводу отнесся и Сперанский, и по схожим мотивам. Язык и ему показался “простонародным,” не столь выразительным и точным. Не лучше ли было бы приучить всех к славянскому языку?..
Дочери Сперанский советовал в трудных случаях обращаться к посредству английского перевода, но не русского. Подобным образом рассуждали и многие другие (срв., напр., у барона Штейнгеля, декабриста, о русской Библии: “подрывает доверие к одной из священных книг, чтомых в Церкви”)...
Особый умысел Шишков открыл еще в том, что к выпуску был приготовлен отдельный том Пятокнижия Моисеева, “отдельно от книг пророческих.” В действительности, это был первый том полной русской Библии, предназначенный к выпуску прежде томов последующих, для скорости. Шишков догадывался, — не с тем ли это задумано и сделано, чтобы подтолкнуть простой народ к совращению в ересь молоканскую или просто в иудейство. Как бы не понял кто обрядового закона Моисеева в буквальном смысле, в частности, установление субботы, — не следует ли оговорить, что все это только прообразы и прошедшие тени...
С поддержкой митр. Серафима Шишкову удалось добиться, чтобы это русское Пятокнижие было сожжено, на кирпичных заводах Невской лавры. Впоследствии и Филарет Киевский с содроганием и ужасом вспоминал об этом истреблении Священных книг...
Шишков не видел никакой нужды распространять Библию среди мирян и в народе, — “может ли мнимая надобность сия, уронив важность Священных Писаний, производить иное, как не ереси и расколы...”
Не унизительно ли будет для Библейского достоинства иметь Писание в домах...
“Что же из этого последует?.. Употребится страшный капитал на то, чтобы Евангелие, выносимое с такой торжественностью, потеряло важность свою, было измарано, изодрано, валялось под лавками, служило обверткою каких-нибудь домашних вещей, и не действовало более ни над умами, ни над сердцами человеческими.” И даже еще решительнее: “чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвести в нем междоусобия и бунты.” Шишков верил, что Библейское общество и Революция есть одно...
Вполне последовательно, Шишков возражал и против перевода на другие языки: татарский, турецкий, — кто же поручится за верность перевода...
Шишков опасается и толкования Библии. Кто же будет объяснять Писание, когда эти книги станут так распространены и доступны? “Рассеиваемые повсюду в великом множестве библии и отдельние книги священного писания, без толкователей и проповедников, какое могут произвести действие. При сем необузданном и, можно сказать, всеобщем наводнении книгами священного писания, где найдут место правила апостольские, творения святых отцов, деяния священных соборов, предания, установления и обычаи церковные, одним словом — все, что доселе служило оплотом православию... Все сие будет смято, попрано и ниспровергнуто...”
С той же точки зрения Шишков усматривал злостное покушение в издании “Катихизиса,” — к чему было так много экземпляров печатать, как не для распространения нечистой веры (отпечатано было всего 18.000 экз.)...
Всего больше Шишкова пугал здесь опять-таки русский язык. “Неприлично таковым молитвам, как Верую во единого Бога и Отче наш, быть в духовных книгах переложенным на простонародное наречие.” Катихизис, составленный Филаретом, (первоначально поручение дано было митр. Михаилу) был выпущен с одобрения Синода и по Высочайшему повелению в 1823-м году. В конце 1824-го, “по отношению министра Просвещения,” и под прикрытием Высочайшего имени, Катихизис был изъят из продажи. Кстати, и тексты Писания были приведены в Катихизисе по-русски. Против этого изъятия Катихизиса сразу же заявил протест Филарет, и открыто поставил вопрос о православии. “Если сомнительно православие катихизиса, столь торжественно утвержденного Святейшим Синодом, то не сомнительно ли будет православие самого Святейшего Синода...”
Митр. Серафим в своем ответе Филарету настаивал, что вопрос о православии не подымался, и о православии никакого сомнения и спору нет. Остановлен де катихизис только из-за языка текстов и “молитв.” И Серафим продолжает, но не без двоящихся мыслей. “Вы спросите, почему русский язык не должен иметь места в катихизисе, а наипаче кратком, который предназначен для малых детей, незнакомых вовсе с славянским языком, а потому неспособным понимать истин веры, которыя излагаются им на языке сем, тогда как он, т. е. русский язык, доселе удерживается в священных книгах Нового Завета и в Псалмах. На сей и на многие другие вопросы, которые по сему случаю сделать можно, я удовлетворительно ответствовать Вам никак не могу. Надеюсь, что время объяснит нам то, что теперь нам кажется темно. А время сие скоро, по моему мнению, настанет...”
Этот ответ мог означать и то, что к новому ходу дел Серафим лично и активно непричастен, и то, что кажущаяся непоследовательность будет вскоре устранена распространением запрета и на русский Новый Завет, и на само Библейское Общество. Во всяком случае, Серафим говорил прямую неправду, отрицая, что ставился вопрос о православии Катихизиса. Фотий прямо и открыто обзывал его еретическим, сравнивал его с “канавной водой,” и противопоставлял Катихизису давнее “Православное Исповедание.” Кстати, именно в это время “Православное Исповедание” было переведено вновь, под смотрением лично близкого к Фотию князя С. А. Ширинского Шихматова (вскоре иеромонаха Аникиты), — однако, перевод был остановлен духовно-цензурным комитетом, по заключенно о. Гер. Павского. Если и не официально, то официозно и Катихизис был подвергнут разбору, — кажется, этот разбор был поручен прот. И. С. Кочетову, тогда законоучителю Царскосельского лицея (1790-1854, из магистров I го курса Петербургской академии, был впоследствии настоятелем Петропавловского собора), и заключение было дано скорее не в пользу катихизиса. Кочетов интересовался больше вопросами языка, чем богословием, и как филолог был членом Российской академии с 1828 года, а потом ординарным академиком (срв. его рассуждение “О пагубных следствиях пристрастия к иностранным языкам,” в духе Шишкова, который и ввел его в академию)...
Очень критически отнесся к Катихизису и митр. Евгений, вызванный в то время к присутствию в Синоде. Симеон Крылов-Платонов, преемник Филарета в Твери и в Ярославле, называл Катихизис презрительно “книжонкой” и находил в ней неслыханное учение и “нестерпимую дерзость...”
Во всяком случае, обращение Катихизиса было восстановлено только в новом издании, после внимательного пересмотра, причем, все тексты и цитаты “вместо российского наречия предложены по-славянски,” и сам язык изложения был нарочито приближен или приспособлен к славянской речи. Изменение в содержании были на этот раз, впрочем, только незначительные...
Шишков добивался от имп. Александра запрещения русских переводов и закрытия самого Библейского общества. Одни доводы он сам изобретал, другие ему подсказывались ревнителями, как Магницкий или А. А. Павлов (состоявший тогда за обер-прокурорским столом в Синоде, “славный воин 1824-го года, как его называет Фотий)...
С Шишковым заодно действовал и митр. Серафим. Впрочем, митрополит действовал больше под внушением. Человек не смелый, Серафим не имел “достаточной светлости в понятиях,” чтобы ответственно разбираться в водоворотах тогдашних слухов, страхов, увлечений, подозрений. Лично он настаивал бы только на удалении “слепотствующего министра.” Все дальнейшие выводы были ему подсказаны и даже втеснены. В свое время Серафим учился в Новиковской семинарии, в Библейском обществе был деятельным членом, и в звании Минского архиепископа, и в должности Московского митрополита. В Москве на библейских собраниях он не раз произносил патетические речи. В Петербург он переехал уже в новых настроениях. С Голицыным сразу же разошелся. Ставши, по удалении Голицына от дел, президентом в Библейском обществе, митр. Серафим стал домогаться у имп. Александра упразднения и закрытия библейских обществ вообще, с передачей всех дел, имущества и самого переводческого задания в Синодальное ведомство. Добиться этого удалось очень не скоро, только уже в новое царствование, под свежим впечатлением декабрьских событий, ответственность за которые Шишков уверенно возлагал именно на “мистиков.” Однако, даже и в рескрипте о закрытии Библейского общества (от 12 апреля 1826 г.) была очень важная оговорка. “Книги священного писания, от Общества уже напечатанные на славянском и русском языке, равно и на прочих, жителями Империи употребляемых, Я дозволяю продолжать продавать желающим по установленным на них ценам.” Даже Николай I не был готов следовать за Шишковым. На деле, впрочем, издания Библейского общества были изъяты из обращения, и только попечительные о тюрьмах комитеты продолжали из своих запасов снабжать Новым Заветом в русском переводе ссыльных и заключенных... Любопытно, что Шишкова в 1828-м году заменил в должности “министра Просвещения” князь К. К. Ливен, бывший перед тем попечителем в Дерпте, видный и влиятельный деятель бывшего Библейского общества, от самого его основания. Позже, в 1832-м году, кн. Ливен стал во главе возобновленного немецкого Библейского общества. Князь Ливен принадлежал к секте моравских братьев. “Случалось, что присланный откуда-нибудь чиновник, с важным поручением, застанет его в зале, громко распевающего псалмы перед налоем. Он обернется к нему, выслушает его, но, не отвечая ему, продолжает свою литургию” (Вигель). Конечно, кн. Ливен был немец и протестант, и восстановлено было немецкое Библейское общество. Но ведь министерством он был призван управлять всероссийским...
“Виды правительства” к этому времени, во всяком случае, опять переменились...
7. Святитель Филарет, митрополит Московский.
“Восстание” в 1824-м году было поднято не против Библейского общества только, но против всего “нового порядка.” Филарет Московский верно определил смысл этого “восстания” — “обратный ход ко временам схоластическим.” И главным защитником “нового порядка” оказался в эти годы именно сам Филарет...
Филарет Московский прожил долгую жизнь (1782-1867). Буквально: от покоренья Крыма и до “великих реформ.” Но был он человеком именно Александровской эпохи...
Филарет родился в тихой и глухой Коломне. Он учился в старой дореформенной школе, в которой учили по латыням и по латинским книгам. Впрочем, в Троицкой Лаврской семинарии, где Филарет докончил свое школьное обучение и затем был учителем, дух протестантской схоластики был смягчен и умерен веянием того воцерковленного пиетизма, типическим выразителем которого был митр. Платон (Левшин). Ректор, архим. Евграф (Музалевский Платонов), как вспоминал впоследствии сам Филарет, преподавал по протестантским пособиям, — “задавал списывать отмеченные статьи из Голлазия.” Уроки в классе сводились к переводу и объяснению этих списанных статей. “Общие нам с протестантами трактаты, как то: о Святой Троице, об Искуплении и т. п., пройдены были порядочно; а другие, напр., о Церкви, совсем не были читаны. Образования Евграф не имел стройного, хотя увидел нужду изучать отцов и изучал их.” Евграф был представителем переходного поколения. Он любил и увлекался мистическим толкованием Священного Писания (“Царствие Божие не слове, а в силе заключается”), старался переходить в преподавании на русский язык. Впоследствии он был ректором преобразованной Петербургской академии, но вскоре умер. Филарет не был слишком суров, когда отзывался: “богословию учил нас незрелый учитель по крайней мере с прилежанием.” По личным воспоминаниям Филарет к этой “дореформенной” школе относился вполне отрицательно: “что там завидного...”
Сам Филарет вынес из школьного обучения блестящее знание древних языков и основательную стилистически-филологическую подготовку. Всем остальным он обязан был собственным дарованиям и самоотверженному трудолюбию. И впоследствии древние языки знал он лучше новых, а по-немецки и вовсе не научился. С основанием, в известном смысле, он любил называть самого себя самоучкой...
Из тихого Лаврского приюта, обвеянного духом благочестивой мечтательности, новоначальным иноком иеродиакон Филарет в 1809-м году был вызван в Петербург “для усмотрения” и для употребления во вновь образованных духовных училищах. Контраст был слишком резкий, переход был слишком внезапен. Странно показалось Филарету все в Петербурге, — “ход здешних дел весьма для меня непонятен,” признавался он тогда же в письмах к отцу. В Синоде его встретили советами читать “Шведенборговы чудеса,” учиться по-французски, — повезли смотреть придворный фейерверк и маскарад, чтобы там, буквально “средь шумного бала,” представить его синодальному обер-прокурору, кн. Голицыну. На всю жизнь запомнились Филарету эти первые Петербургские впечатления. “Вот торопливо идет по двору какой-то небольшого роста человек, украшенный звездой и лентой, при шпаге, с треугольной шляпой и в чем-то, плащ не плащ, в какой-то шелковой накидке сверх вышитого мундира. Вот взобрался он на хоры, где чинно расположилось духовенство. Вертляво расхаживает он посреди членов Священного Синода, кивает им головой, пожимает их руки, мимоходом запросто молвит словцо тому или другому, — и никто не дивится ни на его наряд, ни на свободное обращение его с ними.” Филарет был в первый раз в маскараде тогда, и не видал домино прежде. “Смешон был я тогда в глазах членов Синода,” вспоминал он, —“так я и остался чудаком...”
Филарета встретили в Петербурге не очень ласково, и не сразу допустили к преподаванию в Академию. Но уже в начале 1812-го года он оказался ректором Академии и архимандритом, с настоятельством в Новгородском Юрьевом монастыре. Он выдвинулся, прежде всего, своим усердием и отличием “в проповедывании Слова Божия,” своими “назидательными и красноречивыми поучениями об истинах веры,” — как проповедник и стилист, Филарет привлек внимание к себе еще в Троицкой лавре. Действительно, у него был редкий дар и мера слова. Из отечественных проповедников у него чувствуется влияние Платона и еще Анастасия Братановского (†1806), — в Петербурге он читал французских проповедников ХVII-го века, Массильона [32] и Бурдалу, [33] Фенелона больше других. Но очень слышится и влияние отеческой проповеди, Златоуста и Григория Богослова, которого Филарет всегда как-то особенно любил и ценил. Темы для своих проповедей Филарет выбирал современные, — говорил о дарах и явлениях Духа, о тайне Креста, “о гласе вопиющего в пустыне,”— излюбленные темы пиетизма и квиетизма. Нередко проповедовал и в домовой церкви князя Голицына, даже в будни. Ученик и друг Филарета, Григорий (Постников), под конец жизни бывший митрополитом Новгородским, довольно сурово отзывался об этих ранних проповедях. Самому Филарету он писал откровенно, что в этих проповедях “часто видна была заботливость об игривости в словах, о замысловатости, о выражении другой мысли обиняками, что подлинно могло быть досадным сердцу, ищущему истины прямой и назидательной.” Действительно, в первые годы Филарет говорил слишком напряженным и украшенным стилем; позже он стал спокойнее и строже, но навсегда его язык остался сложным и фразы у него построены всегда точно по контрапункту. Это не умаляет выразительности его проповедей. Даже Герцен признавал за Филаретом этот редкий дар слова: “владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковно-славянский.” В этом “мастерстве” языка и первая причина влиятельности его слова, — это было всегда живое слово, и мыслящее слово, вдохновительное размышление вслух. Проповедь у Филарета всегда была благовестием, никогда не бывала только красноречием. И именно к этим ранним Петербургским годам относятся его неподражаемые и образцовые слова в Великий Пяток (1813-го и особенно 1816-го годов)...
Более напряженной была в эти годы учено-педагогическая деятельность Филарета. Ему достался тяжкий и суровый искус, — “мне должно было преподавать, что не было мне преподано.” И за короткий срок, с 1810 по 1817 год, ему пришлось прочесть и обработать почти полный курс богословских наук, со включением сюда и истолковательного богословия, и церковного права, и древностей церковных. Не удивительно, что жаловался он на крайнее изнурение. Не удивительно и то, что эти первые опыты не всегда были удачны и самостоятельны, и отдают часто разными, слишком еще свежими впечатлениями, — сказать: “влияниями” было все же бы слишком сильно. Первые книги Филарета: “Начертание церковно-библейской истории” (1816) и “Записки на книгу Бытия” (1816) составлены были по Буддею, и из Буддея взят был и ученый аппарат. Это было совершенно неизбежно при срочной и спешной paботе, — нужно было дать студентам учебную книгу и пособие к экзаменам... Профессором Филарет был блестящим и вдохновенным. “Речь внятная; говорил остро, высоко, премудро; но все более к уму, менее же к сердцу. Свободно делал изъяснение Священного Писания: как бы все лилось из уст его. Привлекал учеников так к слушанию себя, что когда часы кончались ему преподавать, всегда оставалось великое усердие слушать его еще более без ястия и пития. Оставлял он сильные впечатления в уме от учений своих. Всем казалось истинно приятно, совершенно его учение. Казалось он во время оно оратор мудрый, красноречивый, писатель искусный. Все доказывало, что он много в науках занимался...”
Это отзыв самого архимандрита Фотия. И он прибавляет еще, что Филарет был истый ревнитель монашеского чина, “и был весьма сердоболен,” — сердечность Филарета Фотий испытал на себе, в свои трудные и смутные академические годы...
Как рассказывал Стурдза, и Филарет бывал тогда “колеблен внушениями духов многоразличных.” Филарет читал, как все в то время, и Юнга-Штиллинга, Эккартсгаузена, Фенелона и Гион, и книгу о ясновидящей Преворстской, и от этого чтения бесспорный след остался навсегда в его душевном и мыслительном складе. Он умел находить общий язык не только с Голицыным, но и с Лабзиным, и даже с проезжавшими квакерами, — его интересовали и привлекали все случаи духовной жизни. Но при всем том Филарет оставался церковно твердым и внутренне чуждым этому мистическому возбуждению. Он был всегда очень впечатлителен, потому и склонен к подозрительности, — за всем следил и во всякую подробность вдумывался и всматривался, что не было уютно для окружающих. Но он был и очень сдержан, себя он сдерживал и ограничивал больше и прежде всего. Даже Фотий, во многом укорявший и очень не любивший Филарета, в своих записках признает, что во времена своего студентского “жития под тонким взором архимандрита Филарета” он “никогда не заметил и не мог заметить даже единой тени противу учения Церкви, ни в классах в академии, ни частно.” В одном только Фотий яростно винил Филарета, — в чрезмерной терпеливости, в чрезмерной молчаливости. Иннокентий Смирнов и советовал Фотию ходить почаще к Филарету и у него учиться молчанию. Это, действительно, было очень характерно для Филарета. Он казался скрытным и уклончивым. Как говорит Стурдза в своих воспоминаниях, было “нечто загадочное” во всем его существе. Вполне открытым был он только перед Богом, не перед людьми, — во всяком случае, не перед всеми и не перед каждым. “Филарет никогда не увлекался порывами беззаботной искренности...”
Отчасти его можно обвинить в чрезмерной опасливости и предусмотрительности, он не хотел рисковать, выступая против сильной власти (“нам, двум архимандритам, Юрьевскому и Пустынскому, не спасти Церковь, если в чем есть погрешность,” говорил Филарет Иннокентию). Но в этой осторожности был и другой момент. Филарет не верил в пользу и надежность суровых запретительных мер, не торопился вязать и осуждать. От заблуждения он всегда отличал человека заблуждающегося, и с доброжелательством относился он ко всякому искренному движению человеческой души. В самих мистических мечтаниях он чувствовал подлинную духовную жажду, духовное беспокойство, которое потому только толкало на незаконные пути, что “не довольно был устроен путь законный.” И потому обличать нужно не прещениями только, но прежде всего учительным словом. Прежде всего нужно наставить, вразумить, — о такой положительной и творческой борьбе с заблуждениями прежде всего и думал Филарет, и воздерживался от нетерпеливых споров...
Под покровом мистических соблазнов он сумел распознать живую религиозную потребность, жажду духовного наставления и просвещения. Потому и принял он участие в работах Библейского общества с таким увлечением. Его привлекла сама задача, ему казалось, что за библейское дело должны взяться церковные силы, — “да и не отымется хлеб чадом...”
В обновляющую силу Слов Божия он твердо верил...
С библейским делом, с русской Библией, он неразрывно и самоотверженно связал свою жизнь и свое имя. Его библейский подвиг трудно оценить в должной мере. Для него лично он был связан с великими испытаниями и скорбями. В самый разгар антибиблейского “восстания” в Петербург Филарет в Москве свидетельствовал, напротив, что “самое желание читать священные книги есть уже залог нравственного улучшения.” И, если кто предпочитает питаться кореньями, а не чистым хлебом, не Библейское общество в том виновато. На угадываемый вопрос, “для чего сие новое заведете в деле столь древнем и не подлежащем изменению, как христианство и Библия,” Филарет отвечал: “для чего сие новое заведете? Но что здесь новое? Догматы? Правила жизни? Но Библейское общество не проповедует никаких, а дает в руки желающим книгу, из которой всегда истинною Церковию были почерпаемы, ныне почерпаются и православные догматы, и чистые правила жизни. Новое общество? Но сие не вносит никакой новости в христианство, не производит ни малейшего изменения в Церкви... Для чего сие заведете иностранного происхождения? говорят еще. В ответ на сей вопрос можно было бы указать любезным соотечественникам на многие вещи, с таким же вопросом: для чего они у нас не токмо иностранного происхождения, но и совершенно иностранные...”
По выражению современника, в то время “самые набожные люди имели несчастную мысль, что от чтения сей священной книги люди с ума сходят.” Одно время чтение Библии было формально воспрещено воспитанникам военно-учебных заведений — в предотвращение помешательства, под тем предлогом, что два кадета уже помешались. А многие другие “почитали ее книгою только для Церкви потребной и для попов одних годной.” Из страха мистических заблуждений и чрезмерностей тогда вдруг стали избегать и Макария Египетского, и Исаака Сирина, — “и умная сердечная молитва уничтожена и осмеяна, как зараза и пагуба...”
Несколько позже Филарету пришлось доказывать, что позволительно писать новые толкования на послания aпостола Павла, несмотря на то, что на них уже давно написал свои объяснения Златоуст...
“Дым ест глаза, а они говорят: так едок солнечный свет. Задыхаются от дыма, и с трудом выговаривают: как вредна вода от источника жизни...”
Вот этот дух пугливого неделания в богословии всегда смущал Филарета, в чем бы и где бы он ни проявлялся…
“Есть в природе человеческой странная двоякость и противоречие направлений,” говорил он однажды, — “с одной стороны, чувство нужды в Божественном и желание общения с Богом, с другой — какая-то тайная неохота заниматься Божественным и наклонность убегать от собеседования с Богом... Первое из сих направлений принадлежит природе первозданной, а последнее — природе, поврежденной грехом...” Недостаточно иметь веру и хранить ее, — “может быть сомнение в том, точно ли ты ее имеешь и как имеешь…”
И Филарет продолжает. “Поколику ты имеешь ее в Слове Божием и в Символе веры, потолику она принадлежит Богу, Его пророкам, апостолам, отцам Церкви, а еще не тебе. Когда имеешь ее в твоих мыслях и памяти, тогда начинаешь усвоять ее себе; но я еще боюсь за твою собственность, потому что твоя живая вера в мыслях, может быть, есть только еще задаток, по которому надлежит получить сокровище, т. е. живую силу веры...”
Иначе сказать, вера во всей полноте своего догматического содержания должна стать живым началом и средоточием жизни. И это содержание веры каждый должен не столько запомнить, сколько именно усвоить, — взыскующей мыслью и всецелой душой. Филарет не боялся пробудить мысль, хотя знал о соблазнах мысли. Ибо верил, что эти соблазны преодолеваются и побеждаются только в творческом делании, а не в пугливом укрывательстве...
“Довольно необходимости сражаться с врагами, с учениями противными догматам,” писал он однажды впоследствии; “какая нужда воевать против мнений, не враждебных никакому истинному догмату...”
Филарет всегда подчеркивал необходимость богословствовать, как единственное и незаменимое основание целостной духовной жизни. “Христианство не есть юродство или невежество, но премудрость Божия...”
Стало быть, никто из христиан не смеет останавливаться в начале или оставаться при одних начатках только. Христианство есть путь...
И Филарет постоянно напоминает, “чтобы никакую, даже в тайне сокровенную премудрость не почитали (мы) для нас чуждою и до нас не принадлежащею, но со смирением устрояли ум свой к Божественному созерцанию.” Только в таком постижении и разумении складывается христианская личность, складывается и образуется “совершенный Божий человек.” Любимый оборот Филарета — “богословие рассуждает,” — и эта заповедь “рассуждения” дана не немногим, но всем ...
Слишком подробные учебники Филарет считал вредными. И очень характерны его мотивы. “Студент, имея при себе широкую классическую книгу, видит, что ему и готового не вместить, а следственно не до того, чтобы вырабатывать что-нибудь от себя. Таким образом ум не возбуждается к деятельности, память хватает скорее слова, чем мысли, со страниц книги...” Между тем, нужно именно пробуждать и упражнять “действие ума,” а не просто развивать память...
Здесь разгадка и объяснение того рвения, с которым Филарет всю жизнь боролся за русский язык, — и в Библии, и в богословском преподавании. Он стремился и хотел бы сделать богословие общедоступным. Именно это в нем представлялось таким страшным и опасным его противникам. Именно общедоступности они и не хотели. “Дело же перевода Нового Завета на простое наречие вечное и неизгладимое пятно на него наложило,” писал Фотий...
За русский язык преподавания в духовной школе нужно было бороться на две стороны. С представителями светской власти, во-первых, — в Николаевское время всякое “размышление” казалось уже началом мятежа. И так наз. “Комитет 6 декабря” (1826-1830) отнесся к предложению о преподавании по-русски вполне отрицательно, полагая, что необходимое при таком нововведении издание учебников догматического и истолковательного богословия на русском же языке может привлечь внимание (непросвещенных) людей к вопросам веры, — “подать случай к неосновательным толкам и догадкам.” И, во-вторых, о латинском языке богословского преподавания приходилось спорить с представителями старой учености, — их все еще оставалось слишком много. После увольнения Голицына к присутствию в Синоде был вызван из Киева митр. Евгений, и ему предполагалось поручить новое устроение духовных училищ, — “для постановления духовных училищ на твердом и незыблемом основании Православия,” как писал митр. Серафим. Евгения рекомендовал Фотий и прямо противопоставлял Филарету: “и умнее Филарета, и при том правоверен, великий человек и столп Церкви.” (Самого Евгения Фотий восторженно приветствовал). Однако, Евгений и в Петербурге был слишком занят своими личными и археографическими делами, чтобы увлекаться большими вопросами церковной политики. Впрочем, воля к попятному движению в Комиссии духовных училищ в новом составе чувствовалась довольно сильно. В эти смутные годы Филарет Московский не присутствовал в Синоде, занятый делами епархии, — если не считать краткой сессии Синода в Москве на коронацию Николая I. Вернулся он в Петербург только в 1827-м году. И в первые же недели ему пришлось обсуждать вопрос о церковной реформе. Императору кем-то был подан проект решительных преобразований, — “учредить над церковию какую-то протестанскую консисторию из духовных и светских лиц,” так Филарет передает смысл этого предложения. Сделано оно была, по-видимому, через генерала Мердера, воспитателя Наследника престола. Автором проекта Филарет считал А. А. Павлова, этого сподвижника Фотия и Шишкова в восстании 1824-го года...
Синод затруднился представить отзыв по существу этого проекта. Вместо того Филарет представил свою личную записку, которая и была подана от Синода, как мнение одного из членов. Государь написал на этом мнении: “справедливо.” В нем Филарет поднимал снова вопрос о Библейском переводе. Но эта мысль не смогла получить дальнейшего движения в виду безоговорочного сопротивления митр. Серафима. Филарет не настаивал, — “не хочу производить раскола в Церкви...”
В ближайшие годы Филарет имел еще раз повод изложить обстоятельно свои взгляды по церковно-школьному вопросу, в связи все с тем же вопросом о преобразованиях...
Филарет очень резко отзывается о старинном типе школы, еще резче о запоздалых попытках вернуться к этим обветшавшим примерам. “До преобразования духовных училищ некоторые из сих училищ полагали свою славу в преимущественном перед другими знании латинского языка. Отсюда священники, которые лучше знали языческих писателей, нежели священных и церковных, лучше говорили и писали на латинском языке, нежели на русском, более способны были блистать в кругу ученых отборными выражениями мертвого языка, нежели светить народу живым познанием истины. Богословия преподаваема была только догматическая, по методе слишком школьной. Отсюда знание сухое и холодное, недостаток деятельной назидательности, принужденный тон и бесплодность поучений, неумение говорить с народом о истинах, которые казались очень знакомыми в училищах... Со времени преобразования духовных училищ, в 1814 г., введено преподавание деятельной богословии; таким образом богословское учение сделалось ближе к употреблению в жизни... Дозволено преподавать богословские уроки на русском языке; от сего, правда, знание латинского языка сделалось слабее, но зато школьная терминология начала уступать место более чистому и ясному изложению истины, распространение существенных познаний усилилось и сообщение оных народу в поучениях облегчилось.” Филарет подчеркивает: “богословские понятия, преподаваемые на латинском языке, основанныяе тяжелой школьной терминологией, не свободно действовали в умах во время учения, и после учения с трудом переносимы были на русский язык для сообщения народу...”
И обращается против новейших распоряжений Комиссии духовных училищ. То верно, соглашается он, что не все учителя удачно составляли свои уроки, — следует ли поэтому вовсе запретить преподание “собственных уроков,” и снова сделать обязательной латынь, а классической книгой назначить богословие Феофилакта, “выписанную из лютеранской богословии Буддея...”
И снова Филарет приводит довод от пастырского воздействия. “Сей обратный ход от внятного учения на природном языке к латинскому схоластицизму не может способствовать улучшению образования готовящихся к священству, и удивительно, что во время, особенно хвалящееся ревностью о православии, возвращается пристрастие к латинскому языку...”
На эту настойчивую записку в Синоде ответил другой Филарет, тогда архиепископ Рязанский, впоследствии известный Киевский митрополит. Не споря прямо с Филаретом Московским, он настаивал на сохранении латинского языка, по разным мотивам, для поддержания учености, но особенно из предосторожности, как бы через русские книги не получили огласки заблужения и ереси, опровергаемые в догматиках...
Впрочем, он кое с чем соглашался и предлагал издавать катихизические книги для общего употребления, по-русски и по-славянски, в частности, “Православное Исповедание.” Богословие деятельное, он признавал, лучше преподавать по-русски. Наконец, желательно организовать перевод отеческих творений с греческого и латинского на русский...
Филарету Московскому пришлось уступить. В окончательный доклад положение о русском языке богословского преподавания включено не было. “Я предлагал учить в семинарии богословие на русском, чтобы удобнее было и принимать учение и передавать народу, и чтобы недоверчивые не говорили, зачем мы закрываем святое Евангелие языком неправославных. Я говорил, что странно и уродливо в греческой Церкви дать владычество латинскому языку, что Феофан Прокопович сим образом изуродовал учение вопреки общему мнению тогдашней Российской иерархии, вопреки примеру всей древности восточной; но я должен был замолчать, чтобы кончить разногласие, которое затруднило бы нас и дело.” Одного, впрочем, он добился, и в Синодальное решение был внесен особый пункт: “дабы преподаваемое в духовных училищах учение вернее направлять к цели народного наставления в вере и нравственности через образованное духовенство, для сего поощрить способных людей к составлению учебных книг богословских с изложением истин точным и не запутанным схоластическими тонкостями, с приспособлением учения к состоянию восточной греко-российской Церкви...”
Спор о языке преподавания был разрешен в явочном порядке. В короткое время всюду перешли в преподавании на русский язык, несмотря на запреты. В Петербургской академии по-русски читал уже сам Филарет и после него Григорий (Постников), в Московской – Кирилл (Богословский Платонов), — оба из воспитанников первого выпуска Петербургской академии. В Киеве по-русски преподавал уже ректор Моисей, за ним — Мелетий (Леантович), а позже — Иннокентий...
Постепенно и в семинариях латынь выходила из употребления, в сороковых годах вряд ли где еще учили богословию по-латыни...
Впрочем, переход на русский язык не означал еще действительного освобождения от схоластического плена или рабства. И как раз в сороковых годах русскому богословию пришлось пережить еще один рецидив латинского схоластицизма...
Инициатива и на этот раз принадлежала обер-прокурорскому надзору...
8. Богословские воззрения святителя Филарета.
Филарет писал немного. Обстоятельства его жизни складывались неблагоприятно для писательства. Только в ранние, в молодые годы мог он почти без помех отдаваться ученой работе. Но и тогда он должен был работать наспех. То были для него скорее годы учения, нежели самостоятельного творчества. Вскоре призванный к высшему иерархическому служению, Филарет уже не имел больше ни свободы, ни досуга для систематических богословских исследований и занятий. В свои лучшие годы Филарет богословствует только как проповедник…
Именно его богослужебные “слова и речи” и остаются его главным богословским наследством. Богословской системы Филарет не построил. Проповеди — только отрывки. Но и в этих богословских отрывках есть внутренняя цельность и единство. И больше, чем единство системы, — единство созерцания. В них открывается живой богословский опыт, выстраданный и закаленный в молитвенном искусе и бдении. В истории русского богословия в новое время Филарет Московский был первым, для кого богословие стало вновь задачей жизни, непреложной ступенью духовного подвига и делания. Филарет не только богословствовал, — он жил, богословствуя...
В храме, с церковного амвона, с епископской кафедры уместно было преподавать только твердое учение веры. И Филарет был очень сдержан в слове. Никогда не говорил, всегда читал или произносил по написанному. Этого требовала и та словесная школа, к которой он принадлежал по годам...
Как богослов и учитель, Филарет был, прежде всего, библеистом. В проповедях своих он, прежде всего, толкователь Слова Божия. На Священное Писание он не только ссылается в доказательство, в подтверждение или опровержение, — он исходит из священных текстов. Как удачно выразился о Филарете Бухарев, для него библейские тексты “имеют значение нисшедших из своей неисследимости к нашему разумению мыслей самого Бога, живого и самопремудрого.” Он мысленно живет в библейском элементе. Он размышляет вслух, всматриваясь в черты библейского образа или рассказа. Никогда у Филарета богословствование не вырождается, замечает Бухарев, в какое-то “разбирательство по вероучительному своду законов,” как то бывало до него так обычно, как слишком часто то повторялось вновь и вновь, в эпохи “обратного хода...”
В первые же годы своего преподавания Филарет разработал общий план богословского курса, “обозрение богословских наук” (1814). План этот очень характерен для него. Это был план библейского богословия, прежде всего. В понимании Филарета, задача богословской системы именно в том и состоит, чтобы “совокупить в правильный состав” отдельные факты и истины Откровения. “Система” в богословии есть нечто вполне зависимое и производное. История первее системы. Откровение дано в живой истории и в событиях...
Внешнее влияние той “старо-протестантской” богословской школы, в которой Филарет вырос и был воспитан, чувствуется у него достаточно сильно, в ранние годы особенно сильно. Внешним образом Филарет не порывает сразу и с русской традицией Прокоповича. Очень многое в определениях и в самом способе выражаться внушено или даже заимствовано Филаретом из протестантских книг, и к таким книгам и пособиям отсылает он и в своем “обозрении.” Отсюда и характерная неполнота и схоластическая неточность ранних формулировок Филарета. Он имел обыкновение называть Священное Писание “единым чистым и достаточным источником учения веры,” и к этому прибавлял: “допускать ненаписанное Слово Божие, равносильное писанному, не только в управлении Церкви, но и в догматах, значит подвергать себя опасности разорить заповедь Божию за предание человеческое.” Конечно, это было сказано с полемическим заострением. Но со стороны невольно казалось, что Филарет, если и не отрицает, то умаляет значение Предания в Церкви, что он проводит или воспроизводит протестантскую мысль о т. наз. “самодостаточности” Священного Писания. В своем раннем “Изложении разностей между Восточной и Западной церквами в учении веры” (составленном в 1811-м году для имп. Елизаветы Алексеевны), и даже в первых изданиях “Катихизиса,” о преданиях и о Предании Филарет не говорил; и в окончательной редакции “Катихизиса,” уже в тридцатые годы, вопросоответ о Предании был внесен под сторонним внушением...
Однако, это был скорее только условный язык эпохи, нежели действительная неточность или неверность созерцания...
Во всяком случае, Филарет никогда не рассматривал Писания отвлеченно или обособленно. Библия дана и содержится в Церкви, и от Церкви дается верующим к чтению и руководству. Писание есть записанное Предание, и свидетельствуется в своем достоинстве живым ведением и разумением Церкви. Писание есть запись Предания, но не простых преданий или воспоминаний человеческих, но именно Предания Священного. Иначе сказать: священная память Божественных Слов, “для непрерывного и единообразного сохранения”, скрепленная на письме. Писание, как говорил Филарет, есть “только продолжение и неизменно упроченный вид предания...”
Когда Филарет говорит о Писании, как о “едином и достаточном” источнике вероучения, он имеет в виду не книгу в кожаном переплете, но Слово Божие, живущее в Церкви, оживающее в каждой душе живой, познаваемое и изъясняемое Церковью, — Писание в Предании. И далее, как говорил Филарет, истинное и святое Предание не есть “просто видимое и словесное предание учения, правил, чиноположений, обрядов, но с сим вместе и невидимое, действительное преподаяние благодати и освящения,” — единство Духа, общение таинств. И в этом для Филарета главное: не в исторической памяти только, но именно в непреложном веянии благодати. Только в Церкви поэтому и возможно подлинное Предание, — только там, где непресекаемым током струится благодать Святого Духа, открывающего истину и наставляющего в ней...
Напряженный библеизм Филарета тесно и глубоко был связан с его церковностью. И это был возврат к патристическому стилю и навыкам в богословии. Вместе с тем Филарет всегда подчеркивал необходимость в новейших филологических пособиях для точнейшего определения “внешнего смысла” Писания...
Писание есть Слово Божие, Слово самого Бога, не только слово о Боге. И не только слово, изреченное или записанное однажды, — но слово действенное и действущее присно и во век. Это есть некое таинство Божие, непреложное явление благодати и силы. “В каждой черте Слова Божия скрывается свет, в каждом звуке премудрость.” И Филарет прибавлял: “достоверность Священного Писания простирается далее пределов нашего разумения.” Это есть некое Божественное сокровище, — немолчное, творческое, животворящее слово. И Церковь есть та священная сокровищница, в которой оно хранится, особым устроением Духа Божия...
Подлинное, несомнительное, Священное Предание есть бесспорный “источник” веры. Но остается вопрос, как распознать, как распознавать это “несомнительное” предание, как отличать предание веры от преданий школы. Именно этим вопросом и был всегда занят Филарет. Сдержанно говорит он не о самом начале Предания, но о ссылках на “предания.” Он возражает против схоластического обычая и привычки обосновывать или доказывать доктринальные положения простым подбором текстов или авторитетных свидетельств. Он подчеркивает, что с библейскими свидетельствами не может быть уравниваемо никакое внебиблейское, — область прямой Богодухновенности точно определена гранью канона. “Так ли верно можно определить минуту, когда церковный писатель сделался святым, и следственно не просто писателем, подверженным обыкновенным недостаткам человеческим?...”
Филарет не ограничивает учительных полномочий Церкви. Он ограничивает правомочия школы...
Исторические предания, во всяком случае, подлежать проверке...
У Филарета было живое историческое чувство. В этом грань, отделяющая его и от запоздалых схоластов, с их логическим педантизмом, и от мистиков, для которых Библия слишком часто разрешалась в притчу или символ, как то было и со Сперанским и с Лабзиным, а раньше со Сковородою...
Для Филарета Библия всегда есть книга историческая, прежде всего. Открывается она описанием творения неба и земли, и заключается явлением нового неба и новой земли, — “вся история нынешнего мира,” замечает Филарет. И эта священная история мира есть история Завета Бога с человеком, — тем самым есть история Церкви...
В представлении Филарета, история Церкви начинается в раю. И даже раньше. “История Церкви начинается вместе с историей мира. Самое творение мира можно рассматривать, как некоторое приготовление к созданию Церкви, потому что конец, для которого устроено царство натуры, находится в царстве благодати...”
Мир создан ради человека, и с творением человека происходит первобытная Церковь, начало которой положено уже в самом образе и подобии Божием. Человек был введен в мир натуры, как священник и пророк, чтобы свет благодати через него распространился по всей твари. В свободе он был призван ответить на творческую любовь, — “тогда бы Сын Божий обитал в человеках и царствовал во всем мире открыто и торжественно, и непрестанно проливал свет и силы небесные на землю дотоле, доколе на конец не соделал бы ее самым небом...”
Этот райский Завет с Богом был расторгнут грехопадением, Церковь Первозданная разорилась. Человек остановил в себе присноживотное обращение славы Божией, и тем во всем мире преградил ток благодати. И, однако, в падшем мире творческое предопределение Божие действует тем не менее. Действует как обетование и призыв. И Словом Божиим тварь сохраняется, — под бездной Божией бесконечности, над бездной собственного ничтожества...
Вся история есть путь Бога к человеку и путь человека к Богу. Этот священный пульс времени и истории в особенности слышится в Ветхом Завете. Это время мессианских ожиданий и приготовления. Человечество ждет и чает обетованного Спасителя, и сам Бог точно ожидает движения человеческой свободы и любви. Оттого так чувствуется здесь это натяжение времени, — “тварь по необходимости движется в определенных кругах времени, которых не может ускорить...”
Веткий Завет, это — время прообразов и предварений, время Богоявлений, множественных и многообразных, и вместе — возвратное движение пробуждающегося человечества, движение избранных в человечестве навстречу грядущему Богу. “Общее основание Богоявлений, наипаче в образе человеческом, есть вочеловечение Сына Божия, ибо корень и начало Его святого человечества находились в человеках от самых первых прародителей.” В этом смысле Ветхий Завет есть некое родословие Спасителя...
Образ Богоматери резко и ярко вычерчен в богословском сознании Филарета. И ярче всего светится для него день Благовещения. В день Назаретского Благовещения кончается Ветхий Завет, и начинается Новый. Разрешается напряжение ожиданий. В лице Богоматери человеческая свобода откликается. “Она неограниченно вручила себя желанию Царя Царей, и обручение Божества с человечеством навеки совершилось...”
И в Рождестве Христовом воссозидается Церковь, разоренная некогда преслушанием перстного Адама, и воссозидается уже нерушимо и навек. Открывается царство благодати, и уже приоткрывается и царство славы...
В восприятии Филарета Церковь и есть, прежде всего, Тело Христово, “союз единой жизни” в Нем, — не только союз единой власти, хотя бы и царственной власти Христа. И Церковь есть продолжающаяся Пятидесятница, — единство Духа Христова. До самого порога грядущего царствия славы непресекаемой струей продолжится освящающий ток благодати. “Когда таинственное тело последнего Адама, которое ныне, Им Самим будучи слагаемо и составляемо, чрез взаимное сцепление членов, соответственным действием каждого из них, возрастает в своем составе, созиждется совершенно и окончательно; тогда воздвигнутое своею Главою, проникнутое Духом Святым, торжественно явит оно во всех своих членах единый образ Божий, и наступит великая Суббота Бога и человеков.” Тогда замкнется круг времен. Воцарится Господь Вседержитель, и откроется брак Агнчий...
В своих богословских размышлениях Филарет исходит всегда из фактов Откровения, и движется среди фактов. Никогда не отрывается он от истории, чтобы в отвлеченном умозрении торопливо вознестись “до пренебесной высоты созерцания.” Не любил Филарет “холодной философии,” и в богословии руководствовался не столько умозаключениями, сколько именно историческим видением. Таинства Божии он созерцает всегда в их историческом откровении и совершении. И вся история раскрывается перед ним, как единое и великое явление Божественной славы, обращающейся в твари, и Божественной любви. Тема его богословия есть всегда Завет Бога и человеков, во всей сложности и многообразии его исторических судеб...
Под какими бы влияниями и впечатлениями ни сложилась “система” Филарета, по внутреннему своему строю она принадлежит к святоотеческому типу (срв. в особенности святого Григория Нисского)...
С особенным вниманием Филарет останавливался всегда на двух темах. Это, во-первых, таинство Креста, тайна Искупления. И, во-вторых, описание открывающейся для верующих во Христе благодатной жизни, жизни в Духе...
Христос для Филарета есть, прежде всего, таинственный Первосвященник, приносящий и приносимый, — Агнец Божий и Великий Архиерей (срв. послание к Евреям). В Евангелии он видит, прежде всего, Крест на Голгофе, в Богочеловеке — страждущего Спасителя. “Судьба мира висит на кресте Его, жизнь мира лежит во гробе Его. Сей крест озаряет светом плачевную страну жизни, из гроба Его взыдет солнце блаженного бессмертия...”
И тайна Креста есть таинство Божественной любви, — “тако в духовной области тайн, по всем измерениям Креста Христова, созерцание теряется в беспредельности любви Божией.” В Великий Пяток Филарет проповедует на слова: “Тако возлюби Бог мир.” Призывает вникнуть в последний смысл Креста. “Что там!.. Ничего, кроме святой и блаженной любви Отца и Сына и Святого Духа к грешному и окаянному роду человеческому. Любовь Отца — распинающая. Любовь Сына — распинаемая. Любовь Духа — торжествующая силою крестною...”
Филарет вполне свободен от сентиментального или моралистического перетолкования Крестной любви. Он подчеркивает, напротив, что Крест Христов укоренен в неисследимости Божественного благоволения. Таинство Крестное начинается в вечности, “в недоступном для твари святилище триипостасного Божества.” Потому и говорится в Писании о Христе, как об Агнце Божием, предуведенном или даже заколенном от сложения мира. “Смерть Иисуса есть средоточие сотворенного бытия...”
“Крест Иисусов, сложенный из вражды иудеев и буйства язычников, есть уже земной образ и тень сего небесного Креста любви...”
В своих проповедях, особенно во дни страстных воспоминаний, Филарет подымается до подлинных высот молитвенного лиризма, в его словах слышится трепет сердца. Этих слов нельзя пересказывать, их можно только перечитывать и повторять...
У Филарета мы не найдем связной системы, он говорит всегда скорее “по поводу.” Но у него мы найдем нечто большее — единство живого опыта, глубину умного созерцания, “тайные посещения Духа.” И в этом разгадка или объяснение его богословского влияния. Прямых учеников у Филарета почти не было. Он не создал школы но он создал нечто большее, — духовное движение...
Филарет был всегда внутренне очень сдержан в своих богословских рассуждениях, и к такой же ответственной сдержанности призывал других. В нем поражает, прежде всего, это неусыпающее чувство ответственности, — именно эта черта делала его облик таким строгим. В этом чувстве ответственности скрещивались мотивы пастырские и богословские. О Филарете верно было замечено, что “был он епископом с утра до вечера и от вечера до утра,” — и в этом источник его осторожности. Но у него была и другая черта, некая инстинктивная потребность оправдывать свое каждое заключение. Именно отсюда объясняются все его оговорки о преданиях. “Каждая богословская мысль должна быть принимаема только в свойственной ей мере силы.” И Филарет всегда противился тому, чтобы частные мнения превращать в обязательства, которые более стесняют постигающую или испытующую мысль, нежели ее ведут. Именно поэтому бывал он так нетерпим и так неприятен в качестве цензора или редактора. Характерен отзыв Филарета о “Страстной Седьмице” Иннокентия, — “я желал бы, чтобы спокойный рассудок прошел по работе живого и сильного воображения, и очистил дело.” Филарет не отвергал “воображения,” но подвергал его строгой поверке, — и не столько разумом, сколько свидетельством Откровения. “В предметах, которые не в круге опытов настоящей земной жизни, не надежно полагаться на собственный философствующий разум, а надобно следовать Божественному откровению и объяснениям оного, данным людьми, которые более нас молились, подвизались, очищали свою внутреннюю и внешнюю жизнь, в которых потому более прояснялся образ Божий, и открылось чистое созерцание, которых дух и на земли ближе нашего граничил с раем.” Как видно, Филарета не так занимает вопрос об авторитете, сколько о внутренней достоверности...
Именно в силу своей требовательности и осторожности Филарет одним казался слишком уступчивым, другим чрезмерно придирчивым. Одни обвиняли Филарета за “якобинство в богословии,” потому что он всегда требовал “доказательств,” и слишком осторожно различал “мнения” и “определения.” “Народ не любил его и называл масоном” (Герцен). Другие считали его мрачным охранителем и, странным образом, предпочитали ему даже графа Пратасова (срв. не только у Никанора Бровковича, [34] но и у Ростиславова)...
Одних смущало, что Филарет не соглашался объявить латинство ересью, а не только расколом, оговаривая, что это есть только “мнение, а не определение церковное,” — и в особенности предостерегал от преувеличений: “поставление Папства на одну доску с Арианством жестоко и не полезно.” И казалось, не слишком ли он осторожен, разъясняя, что Восточная Церковь “не имеет самовластного истолкователя своего учения, который давал бы своим истолкованиям важность догматов веры,” — казалось, он слишком многое предоставляет “собственному рассуждению и совести” верующих, хотя и “при помощи церковных учителей и под руководством Слова Божия...”
Другие не находили слов, чтобы очернить его насильнический и тиранический образ. В этом отношении особенно характерны недобрые автобиографические “записки” историка С. М. Соловьева. В изображении Соловьева, Филарет был каким-то злым гением, убивавшим во всех своих подчиненных начатки творчества и самодеятельность И, в частности, Соловьев настаивает, Филарет убил творческий дух в Московской Академии. Об этом придется говорить позже. Здесь достаточно отметить, что наветам Соловьева можно противопоставить не мало противо-свидетельств. Ограничусь одним, и его трудно заподозрить в пристрастии к Филарету. Имею в виду отзыв Г. З. Елисеева, известного радикала и редактора “Отечественных Записок,” бывшего в Московской академии студентом в самом начале сороковых годов, а потом бакалавром и профессором в Казани (кстати, кажется, его имел в виду Достоевский, когда творчески создавал образ Ракитина). По отзыву Елисеева, в Московской академии было скорее слишком много свободы, и исключительная обстановка сердечности, мягкости, товарищества...
Соловьев был близорук и очень страстен в своих суждениях. Он не умел и не любил находить светлые черты в тех, с кем не был согласен. Его особенно раздражали люди “бессонной мысли,” оскорблявшие собой уют его право-гегелианского мировоззрения. Не одного только Филарета Соловьев так строго осудил. Только черные и гнилые слова у него нашлись и для Хомякова. К Филарету Соловьев был несправедлив даже как историк. Он не сумел и не захотел понять, что видимая суровость Филарета происходит от скорби и тревоги. “У этого человека горячая голова и холодное сердце,” — в этом отзыве обманная полуправда. То правда, что ум Филарета был пылким и горячим, и эта бессонная дума положила резкую печать на его сухом лице. Но то напраслина и прямая неправда, что холодно было у Филарета сердце. Чуткое и впечатлительное, горело и оно. И горело оно в жуткой тревоге. Эту скорбь и тревогу, эту потаенную боль только от близорукого наблюдателя смогут заслонить видимые удачи и оказательства чести. Напряженным и мужественным молчанием Филарет едва покрывал и смирял свое беспокойство о происходившем в России. “Кажется, уже и мы живем в предместиях Вавилона, если не в нем самом,” сказал он однажды...
Филарету приходилось, как выразился однажды Хомяков, управлять “окольными путями,” чтобы не подавать лишнего повода к нападению. “Снисходительность приходилось отодвинуть подальше, а требовательность развивать возможно больше,” свидельствует и другой современник, — “чтобы не подстерегли и не нанесли нечаянного удара.” Сам Филарет писал однажды Григорию: “жаль, если те, на которых ищут случая напасть, подают случай к нападению…”
Филарет не любил легких и благополучных путей, ибо не верил, что легкие пути могут вести к правде, — узкий путь вряд ли может оказаться легким...
“Боюсь на земле радости, которая думает, что ей нечего бояться...”
9. “Сердечное богословие” и “неологизм.”
Филарет был самым властным и ярким представителем того нового “сердечного богословия,” которое прежде всего и преподавалось в преобразованных духовных школах. И задача преподавания полагалась именно “в образовании внутреннего человека,” в том, чтобы внушить живое и твердое личное убеждение в спасительных истинах веры. “Внутреннее образование юношей к деятельному христианству да будет единственной целью сих училищ” (указ 30 августа 1814-го года). Здесь уместно припомнить популярный в те годы афоризм Неандера: pectus est quod facit theologum, “сердце образует богослова...”
Впрочем, в русских школах “сердечное” направление не было единственным. С самого начала мы можем распознать и различить два расходящихся направления. Одним было это “сердечное богословие.” Другое тогда было принято называть “неологизмом,” — это была школа морально рационализирующего истолкования христианства. В Санкт-Петербургскую академию это именно направление было занесено Фесслером...
Филарета в должности ректора академии в 1819-м году сменил Григорий Постников, из воспитанников первого курса новой академии, впоследствии митрополит Новгородский (скончался в 1860 г.). Григорий был продолжателем, последователем, почитателем, даже другом Филарета Московского. Но лично на него он мало походил. Это был человек очень зоркой и ясной мысли. Но не было у него такого внутреннего увлечения. У него не было этой бессонной пытливости мысли, перед ним никогда не развертывались головокружительные кругозоры, в которых Филарету было так привычно жить. У Григория даже в проповедях совсем не чувствуется напряжения, все слишком прозрачно у него, голос всегда ровен, и покоен. Догматических тем он не любил, предпочитал деятельные. И морализма, очень размеренного и даже докучливого, у него больше, хотя и нельзя не чувствовать у него большой нравственной силы. “Простота, важность и правда,” отзывался о нем Фотий, который его не любил...
Характер Григория отражается и в языке его, — никакой риторики, никаких прикрас, скорее некоторая тяжесть и грубоватость, опрощенство, Григорий любил писать “для народа,” особенно в последние годы жизни. Но всегда у него чувствуется влияние когда-то читанных и прочитанных английских назидательных книг и брошюр начала века. Его мысль окрепла и воспиталась именно на чтении иностранных авторов, особенно английских, — одно время Григорий, кажется, даже сам занимался со студентами по-английски. Вообще был он большой книголюб и очень поощрял чтение в студенческой среде. Имел обыкновение предлагать студентам переводы за плату, чтобы заставить читать...
Как учитель и лектор, Григорий был очень популярен и любим. Преподавал он по-русски, Священное Писание разбирал на лекциях по русскому переводу, не по славянскому. И вообще был он ревностным зашитником русской Библии, до конца дней своих. В Ветхом Завете он отдавал предпочтение “еврейской истине,” — подчеркивал, что восстановить из разночтений действительный перевод “семидесяти” вряд ли возможно с точностью, но и к масоретской пунктуации относился сдержанно и критично...
В 1822-м году Григорий напечатал несколько глав своего богословского курса, — их просматривал, одобрил и, конечно, исправлял Филарет. Самостоятельного в них мало, но важен был уже сам живой голос и манера автора...
Много позже Григорий написал свою известную книгу против раскольников или староверов, — “Истинно-древняя и истинно-православная Церковь” (1855), — и опять-таки нового в ней мало, но привлекает благородный, спокойный и благожелательный тон, — автор, действительно, старается убедить и доказать, терпеливо и сдержанно, старается преуспеть “словом истины.” Григорий был искренним защитником религиозной самодеятельности, ревнителем просвещения, у него была подлинная пастырская заинтересованность и настойчивость...
Особенной заслугой преосвященного Григория было основание при Петербургской академии журнала, — под характерным названием “Христианского чтения” он начал выходить в 1821-м году. Первой задачей журнала и было давать материал для назидательного чтения, для русского чтения, всем ревнителям и церковным книголюбцам. Библейская тенденция была явно показана выбором эпиграфа: “быв утверждены на основании Апостолов и пророков (Еф. 2:20), — во всяком случае, впоследствии, во времена “обратного хода,” этот эпиграф показался притязательными и опасным и был заменен другим (с 1842-го года взят был 1 Тим. 3:15, — “чтобы … ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины,” — впоследствии оба эпиграфа были соединены)...
В первые годы “Христианское чтение” очень напоминало “Сионский Вестник,” по выбору и характеру статей. Был заведен особый отдел своего рода “мистической хроники.” “В нашем отечестве весьма редко приходят в известность благодатные действия Святого Духа на сердца человеческие. Посему пригласить при объявлении о сем издании всех любителей христианства и наипаче людей духовного звания о таковых действиях извещать издателей, для соделания оных явными к славе Божией.” Известия о знамениях духовных и чудесах заимствовались и из изданий иностранных. С 1825-го года, впрочем, стиль издания стал строже, — начали больше переводить из отцов...
С самого начала издания “Христианское Чтение” имело неожиданный успех, число подписчиков в первые же годы достигло до 2400...
В Московской академии Григорию следовал Кирилл Богословский-Платонов, одного с ним выпуска, впоследствии архиепископ Подольский (†1841). Преподавал он по-русски, философии новейшей не любил, читал в духе аскетическом. “Свойство евангельского учения состоит в утешении сердец, поражаемых скорбью и ужасом правосудия небесного, при воззрении в глубину духовного своего состояния. Но как может тот постигнуть и другим изъяснить силу и утешение евангельского учения, кто не испытал в себе крестной любви, чье сердце не проникнуто печалью по Боге, ведущей ко спасению! В бытность Кирилла ректором Московской академии студенты обязаны были вести каждый свой личный журнал, и в нем отмечать и действия свои, и мысли. Сам Кирилл был близок с учениками Молдавских старцев, в бытность свою Подольским архиереем он интересовался о. Феодосием Левицким в Балте, и отзывался о нем с полным сочувствием и одобрением, как о человеке подлинно духовном. В академии свой курс он заканчивал трактатом о преданиях Церкви...
В Киевской академии представителями нового богословия были один за другим Моисей Антипов-Платонов, умерший в должности экзарха Грузин уже в 1834-м году, и Мелетий Леонтович, впоследствии apxиепископ Харьковский (†1840), — оба преподавали по-русски. Оба принадлежали к первому выпуску Петербургской академии... Из этого первого выпуска, вообще очень яркого, следует назвать еще несколько имен. В. И. Кутневич сразу же был послан бакалавром философии в Московскую академию, — здесь сразу нашел он себе такого ученика и преемника, как Голубинский. Сам Кутневич вскоре оставил академическую службу, был впоследствии военным обер-священником и членом Синода (†1865). В Московскую же академию был послан Поликарп Гайтанников, бывший затем там ректором в сане архимандрита (†l837), — он много занимался переводами из греческих отцов...
Алексей Малов (†1855) был протоиереем Исаакиевского собора и священником в Инвалидном доме, славился как отличный и трогательный проповедник. Был он типичным искателем “духовного” и “всеобщего христианства,” — при встрече с У. Пальмером [35] очень его смутил какой-то беcплотностью своих представлений о составе и пределах Церкви. В свое время о. Алексей Малов был участником “духовных” собраний у Татариновой, кажется, был и духовником многих членов этого кружка...
Среди окончивших Санкт-Петербургскую академию в эти ранние годы самым вдохновенным выразителем и проповедником новых настроений был Макарий Глухарев, один из самых замечательных людей той эпохи (1792-1847). В академии Глухарев был под всецелым влиянием Филарета, — “отдал свою волю ректору Филарету, ничего не делал и не начинал без его совета и благословения, и почти ежедневно исповедовал ему свои помыслы.” Эта духовная связь между наставником и учеником осталась навсегда. Глухарев был человек исключительной впечатлительности, но всецело обращенный вовнутрь, действовать в обыденной обстановке ему было трудно. В академии он много читал мистических книг, Арндта больше всего, — из них усвоил учение о возрождении и обновлении внутреннего человека, озаряемого от Святого Духа. Был однажды и у Татариновой, но, испуганный, бежал…
По окончании академии был он послан наставником в Екатеринославль. Здесь он встретился с местным епископом, Иовом Потемкиным, постриженником Молдавских старцев, и через него сблизился с двумя монахами из Молдавии, о. Ливерием и о. Калинником. Под этими влияниями Глухарев решил принять постриг. В этот период жизни он весь был в искании и беспокойстве. Вскоре его перевели ректором в Костромскую семинарию, но он мучительно тяготился не только управлением, но и самим преподаванием. При первой же возможности Макарий оставил службу и ушел жить в Печерскую лавру, потом в Глинский монастырь, бывший в то время одним из очагов созерцательного возрождения, — здесь он много читал, под руководством старца Филарета, и переводил — блаженного Августина Исповедь, Лествицу, беседы Григория Великого, огласительные слова Феодора Студита. “Это школа Христова, эта одна из светлых точек на земном шаре, в которую дабы войти надлежит умалиться до Христова младенчества...”
Переводил Макарий и с французского, — творения Терезы Испанской, [36] собирался переводить Паскаля...
К иным исповеданиям он всегда относился с пытливым благожелательством. В Екатеринославе молился с “духовными христианами” (молоканами), и нашел, что свет Божия озарения сияет и в их теплой вере. Квакеры, путешествовавшие по России в 1819-м году, Грелье и Аллен, посетили его в Екатеринославле, с вводным письмом от Филарета, и нашли с ним много общего, душевную близость. Впоследствии Макарий мечтал построить в Москве храм с тремя отделами — для православных, католиков и лютеран...
В монастырском уединении Макарий пробыл не очень долго, он стал томиться о деле...
Это дело он нашел для себя в проповеди среди сибирских инородцев. И в этом деле он нашел самого себя...
Филарет Московский называл Макария “романтический миссионер.” И, действительно, к миссионерскому делу Макарий отнесся восторженно и с увлечением. В помощь себе он взял сперва двух тобольских семинаристов и составил примерный наказ для первого миссионерского стана. “Желаем, да будет у нас все обшее: деньги, пища, одеяние, книги и прочие вещи, и сия мера дя будет для нас удобностью в стремлении к единодушию.” Существовала миссия в условиях крайней скудости и бедности...
Миссия была для Макария подлинным апостольским подвигом. Он вложил в него весь свой пыл, все напряжение души своей. Малодушному миссионеру может показаться, “что сии племена не созрели для христианства.” На это сомнение Макарий отвечает решительно: “Кто таков я, что берусь судить о незрелости народов для всемирной веры в Иисуса Христа, который за всех человеков и во спасение всех пролил Пречистую Кровь Свою на кресте и вкусил смерть...”
“Нет народа, в котором бы Господь не знал своих, нет той глубины невежества и омрачения, до которой бы Сын Божий не снисходил, преклонив небеса, не преклонился...”
Свои общие мысли о миссионерском деле Макарий изложил в особой записке: “Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе” (1839). Макарий предлагал образовать в Казани миссионерский центр, создать здесь особый миссионерский институт-монастырь, со строгим общежительным уставом, но и с довольно пестрой учебной программой, общеобразовательной и богословской. Своих сотрудников Макарий хотел познакомить с системой Ланкастерских школ, с основами медицинского ухода, с правилами сельского хозяйства. Созерцательная мечтательность не убивала в Макарии жизненной трезвости...
История Алтайской миссии при Макарии, это один из самых героических и святых эпизодов в нашей истории... Но среди апостольских трудов у Макария родилась новая мысль, охватившая его со всей исключительностью страсти. Это был план библейского перевода...
Уже в 1834-м году Макарий через митр. Филарета представил в Синод записку “О потребности для российской церкви преложения всей Библии с оригинальных текстов на современный русский язык.” Филарет скрыл это письмо, чтобы укрыть “романтического миссионера” от гнева и кары высших властей, считавших благовременным переводить Писание на языки полудиких и вовсе диких инородцев, но никак не на русский...
Доводов Макарий не слушал и не понимал. В 1837-м году он представил в Комиссию духовных училищ начало своего перевода, книгу Иова, и вместе с тем письмо на Высочайшее имя. Дело движения опять не получило. В 1839 г. Макарий представил перевод книги Исаии и новое письмо на Высочайшее имя. В следующем году он представил те же две книги в пересмотренном тексте, сличенном с переводом Павского, которого он раньше не знал. На этот раз Макарий от доводов и убеждений переходит к угрозам и гневным пророчествам. Раньше он изъяснял надобность и полезность иметь Слово Божие на живом языке, не только на мертвом, — “российский народ достоин иметь полную российскую Библию.” Макарий огорчался, “что русские равнодушно остаются без полной российской Библии, между тем как имеют полный Алкоран на российском наречии.” Макарий был убежден, что приспело время: “из чистейших, драгоценнейших веществ российского слова создать словесный храм Премудрости Божией в такой прочности, правильности и точности, в таком вкусе, в таком великолепии и изяществе, что он будет выше всего прекрасного в мире, будет истиною славою православия нашей Церкви пред лицем всех церквей и веселием неба...”
Теперь Макарий скорбит и грозит. “О горе! затворились царския двери, которыми из святилища исходили к нам евангелисты один за другим, и Церковь российскую благословляли от лица Иисуса Христа, каждый своим евангелием на российском языке... И все сокрылось, и стало темно... Сколько лет, как мы слышим, будто все пятокнижие Моисеево, действительно переведенное на чистый русский язык с еврейского, в премногих особях лежит в простом складочном месте, — та святая и страшная книга Закона Божия, которая лежала при ковчеге завета Всевышнего, во святом святых, и которую читали пред всем Израилем, в слух всего народа, не исключая жен, детей и пришельцев. Неужели слово Божие в облачениях славянской буквы перестает быть словом Божием в одеянии российского наречия?...”
Макарий с наивной простотой касается самых болезненных и болевых точек. Он даже исчисляет знамения гнева Божия: наводнение 1824 г., восстание 1825-го, холера 1830-го, пожар Зимнего дворца...
На этот раз ответ был дан. Синод указом изъяснил Макарию, как горделиво и притязательно ставит он себя “непризванным истолкователем судеб Божиих,” и дерзко “преступает пределы своего звания и своих обязаностей.” Потому его определено было подвергнуть “молитвенной епитимии” при доме епископа Томского. Филарет Черниговский так говорит об этой епитимии. “Его заставили служить каждый день литургию, в продолжении шести недель, но это принял он за милость Божию и был очень доволен епитимиею.” Вероятно, он недоумевал, почему каждодневное служение литургии в Петербурге считают наказанием для священника...
В послужном списке Макария отмечено так: “проходил сорокодневную очистительную епитимию, по случаю представления правительству мыслей и желаний своих врассуждении полной Библии на российском языке в переводе с оригиналов...”
Вскоре после этого Макарий выпросил увольнение от миссии и был назначен настоятелем в Болховский монастырь, Орловской губернии. Здесь он пробыл недолго, но сумел стяжать сердца. Своих переводов он не прекращал. Теперь он мечтал уехать в Святую Землю, и поселиться там в Вифлеемской пещере Иеронимовой, если можно, чтобы довершить и усовершить свой перевод Ветхого Завета. Говорили, что он расчитывал по пути побывать в Лейпциге и там устроить печатание своего перевода. Не без труда получил он дозволение на поездку. И в самый канун отъезда занемог и вскоре скончался...
Макарий был человек святой правдивости и чистоты. “Осуществленное, живое Евангелие,” говорил о нем архиепископ Смарагд. Лучшие предания созерцательного монашества он сочетал в своем личном опыте с евангельскими уроками ученой школы. Макарий был человек больших знаний, гебраист [37] он был отличный, в своей работе над Библией всего ближе держался он обычно Розенмюллера, не рабствуя, однако, неверности его. И вместе с тем это был человек духовной простоты, прозрачной души. “Макарий был истинный слуга Христа Бога,” писал о нем после его смерти, в 1847-м году, Филарет Московский. “И, конечно, примечательно, что он во время нескорбное предрекал скорби за небрежение о распространении Слова Божия; и скорби потом пришли...”
Обособленное положение Московской академии, в Троицкой лавре, в деревенской тиши и даже глуши Сергиева посада, очень способствовало тому, что в этой академии с особенной определенностью воплощались руководящие настроения новой эпохи. Этому благоприятствовали, конечно, и подготовка, и привычки еще Платоновских времен. Ростиславов винит в своих воспоминаниях Филарета за то, что он старался Санкт-Петербургскую академию превратить в какую-то “полукиновию.” Московская академия и действительно стала в себе самой некой “полукиновией,” каким-то “сердечно”-ученым монастырем. Здесь сложился именно общий стиль. Этот стиль во всем легко распознать. Взять, например, списки книг, выданных студентам в поощрение или в награду: даже в 1833-м году это были — французская Библия, в переводе Де-Саси, сочинения Фенелона, или Франсуа де-Саль, или Арндта, или еще Иоанна Масона. Или вот темы для семестровых сочинений: О воздыхании твари; О безразличии вероисповеданий, или о том, можно ли во всякой вере спастись; О внутренней и внешней Церкви (темы 1826 г.); О состоянии т. наз. духовной сухости, или о повременном оскудении духовного человека в благодатных утешениях; Почему во времена Христовы и Апостольские более, нежели прежде и после, было бесноватых (темы 1832 г.). По нравственному богословию в 1817-1818 году молодой бакалавр рекомендовал студентам, кроме Макария Египетского и блаженного Августина, читать еще Арндта, Фому Кемпийского, Горнбекия, еще и анонимную “Историю возрожденных,” — преподавал он по Буддею. В 1820 и 1821 г.г. студенты переводили Иоахима Лангия Mysterium Christi et christianismi...
Самым характерным преподавателем был в эти годы, конечно, прот. Феодор Голубинский, из первого курса после преобразования. Это был типический представитель эпохи...
Из представителей старшего поколения, учившихся еще в дореформенных школах, к тому же “сердечно”-духовному направлению в богословии принадлежали митр. Михаил, архим. Евграф, учитель Филарета, Иннокентий Смирнов. Иннокентий входит в историю русского богословия и как составитель “Начертания церковно-библейской истории” (1816-1818). Книга эта писана была наспех, и не автор был виновен, если и после его смерти ее насильственно оставляли учебником в школах, кое-где даже в 60-х годах, когда она была уже явно отсталой, устарелой, непригодной (для посмертных изданий она была обработана прот. Кочетовым). Составлена она была, преимущественно, по Вейссману и Шпангейму, по Баронию [38] и Магдебургским центуриям, — план слишком сух и дробен, изложение слишком формально...
Преодолеть схоластические навыки нелегко было и такому живому человеку, как Иннокентий. В семинарии Петербургской, где он был ректором, Иннокентий преподавал по-латыни, — его записки по “деятельному богословию” были изданы после его смерти в русском переводе, с его латинских конспектов, под смотрением Филарета. У многих из этого старшего поколения мы находим такое сочетание “сердечного” благочестия и схоластической “учености...”
Самый яркий пример, это — Филарет Амфитеатров, впоследствии всем известный митрополит Киевский (1779-1857). Это был человек теплого благочестия, большой сердечности, и подлинной духовной жизни, человек праведный и святой. Но в преподавании он оставался неуступчивым сторонником схоластического прошлого. Сам преподавал он в преобразованных академиях не очень долго, сперва в Петербурге, потом в Москве, как инспектор и ректор, — и преподавал всегда по-латыни. Решительно был он против преподавания богословия на русском. Догматику он читал по Иринею Фальковскому, при объяснении Писания руководился всего более толкованиями Витринги. Слушатели его отмечают исключительную сжатость его изложения, “математическую точность” и отчетливость его аргументов. Но, вместе с тем, это бывали всегда скорее проповеди, чем лекции в строгом смысле, — “что-то в роде благовествования...”
К “мистическому” направлению Филарет относился недружелюбно, — “во время профессорства моего в Московской академии было сильно общее направление к мистике, и я всеми силами противоборствовал ему.” Еще непримиримее относился он к философии, — “ему противны были не только философские формулы, но даже самые имена какого-либо Спинозы и Гегеля.” Даже Филарет Московский, которого он сердечно любил, казался ему слишком ученым и мудрым — соответствует ли это монашеским обетам и смирению?..
В ранние годы и Филарет Амфитеатров участвовал в Библейском обществе, даже и в 1842-м году поддерживал Филарета Московского и вместе с ним должен был удалиться из Синода, но еще позже очень насторожился и стал резко возражать против возобновления русских библейских переводов...
В рядах старшего поколения много было людей цельных. Таким был, например, очень влиятельный и всем известный в Москве о. Семен Соколов. “В Москве он известен был как духовник строгий и назидательный, как осторожный путеводитель смущаемых сомнением и ропотом в дни скорби и искушений, как глубокомысленный и проникнутый духовностью мистик,” — так говорит о нем один из его духовных детей (Н.В. Сушков, в своих записках о Филарете). Учился он еще в Троицкой семинарии, был связан с членами “Дружеского общества,” — прожил он очень долгую жизнь (1772-1860). В назидание своим духовным детям он перевел и издал Фомы Кемпийского известную книжку, с прибавочным наставлением, как подобные книги подобает читать (1834). Сам он и в более поздние годы любил читать и перечитывать “Сионский Вестник,” не возбранял читать и Эккартсгаузена...
Такова была сила “европеизации” в послепетровской России, что и к преданиям духовной жизни удалось вернуться только по западному пути, по западному примеру. Арндта узнали раньше, чем Добротолюбие, — и надолго так и оставался Арндт для многих и многих в осиянии первой любви. Правда, очень рано присоединяется и чтение греческих отцов, отцов-аскетов, в частности. Но только с восстановлением созерцательных монастырей в России, с этим живым возвращением к православным преданиям духовной жизни, волна западно-мистических увлечений начинает спадать...
В духовных школах влияние Александровской эпохи было длительным и устойчивым. В той же обстановке богословской “чувствительности” слагаются и такие характеры, как Филарет Гумилевский, или о. А. В. Горский. Только из духа Александровской эпохи можно понять и трагическую судьбу архим. Феодора Бухарева...
10. Немецкое направление — “облегченное, уклончивое и зыбкое бословие.”
И с самого начала преобразованных школ мы можем распознать в них другое, прямо противоположное и достаточно определившееся, течение в богословской работе. Самым ярким его представителем был, скорее всего, о. Герасим Павский, (1787-1863), из воспитанников первого курса Санкт-Петербургской академии, замечательный гебраист, долголетний профессор академии по классу еврейского языка, бывший и профессором богословия в Петербургском университете, потом придворный протоиерей, духовник и наставник Цесаревича, будущего Александра II-го. Павский был филолог, прежде всего, — у него был филологический дар и чутье. Он полюбил еврейскую Библию, со всем жаром ученой страсти. Учился семитической филологии Павский до напечатания грамматики Гезениуса, — его ученое мировоззрение сложилось под определяющим влиянием авторитетов XVIII-го века. В первые же годы своего преподавания в академии Павский составил и напечатал свою грамматику еврейского языка (1818). Составленный им в те же годы еврейский и халдейский словарь к Ветхому Завету издан не был. Павский сразу примкнул к Библейскому обществу и очень увлекся переводческой работой. “Не язык был мне дорог,” говорил он впоследствии, — “а Священное Писание, чистое, неискаженное толкованиями; посредством знания языка я хотел дойти до верного толкования Священного Писания. А известно, что верное понимание еврейского языка ведет к пониманию богословия...”
Для Библейского общества Павский перевел Псалтырь (о Псалмах он писал свое курсовое сочинение), он же наблюдал за печатанием Пятокнижия. Переводить он продолжал и после закрытия Библейского общества, — в этом и состояли его классные уроки со студентами в академии. Уже после выхода Павского из академической службы, по студенческой инициативе, его перевод был налитографирован, и сразу же получил довольно широкое распространение в духовно-школьной среде. Появление этого “тайного” перевода вызвало тревогу, особенно на Синодальных верхах. Перевод был запрещен, экземпляры его разыскивались и отбирались (это было в 1842-м году). Павский подвергнут был следствию и неформальному суду. Для этой тревоги и обвинений основания были. Перевод библейский не может оставаться только литературным упражнением, и он не был таковым для Павского. Перевод есть всегда и толкование. Налитографированный перевод был разделен на отделы, с заголовками и объяснениями, со вводными и пояснительными примечаниями, — в них Павский всего ближе следовал Розенмюллеру. Получалось впечатление, что Павский очень ограничительно принимает мессианские пророчества, сомневается в подлинности отдельных книг и текста. Не приходится спорить теперь, — таковы и были действительные взгляды Павского, хотя бы он от них вполне и отрекался, спрошенный под следствием...
И это либерально-критическое восприятие Ветхого Завета соответствовало его общему религиозному мировоззрению. Философом, или мыслителем, Павский не был. Но у него были очень определенные религиозно-философские убеждения. В Университете он читал сперва именно “историю развития религиозных идей в человеческом обществе,” — при Руниче [39] это было заменено преподаванием церковной истории, по Иннокентию. В пособие студентам Павский предлагал книгу Дрезеке: Glaube, Liebe und Hoffnung...
Впоследствии он сам написал: “Христианское учение в краткой системе...”
Павский исповедовал своеобразный религиозно-моралистический идеализм, довольно неопределенный. “Религия есть чувство,” определяет он, “коим дух человеческий внутренно объемлет Невидимого, Вечного и Святого, и в нем блаженствует. Учение религии состоит только в том, чтобы чаще пробуждать, оживлять и питать это святое чувство, дабы оно укреплялось, просветлялось и воспламенялось внутри человека, дало из себя силу, свет и жизнь всему человеку, всем его понятиям, всем его мыслям, желаниям и действиям...”
Так и положительная религия есть уже только некое переложение этого первоначального чувства в очень неадекватном разумно-рассудочном элементе. Обряды и сами догматы составляют только внешнюю форму, суть только “намек,” и догматы разума могут даже и подавлять или заглушать это непосредственное “святое чувство.” Религия, в понимании Павского, сводится почти только к морали. И Христос для него вряд ли многим больше, чем Учитель...
Павский ограничивал “существенное” в христианстве прямым свидетельством Писания... “Благодарю Бога, что церковь, в которой я рожден и воспитан, не принуждает меня верить чему-либо без доказательств. Она позволяет мне углубляться в чистое и святое слово Божие и, если что предписывает, всегда указывает основание своему предписанию в слове Божием и в общем голосе просвещенных учителей Церкви...”
Церковь, в понимании Павского, объемлет все исповедания, — поскольку они содержат “истинную сущность” догматов. Пальмер был очень удивлен, услышав об этом. В беседе с Пальмером Павский был очень откровенен. Священник ничем не отличается от пастора, а потому “преемство” не прервано, напр., и у лютеран. “Невидимое и недостижимое царство Христово имеет, однако же, отпечаток в Церкви христианской. И та из церквей христианских ближе к совершенству, которая чище выражает в себе идею царствия Христова. Всякая же церковь видимая должна знать, что она только на пути совершенства, а полнота совершенства вдали от нее, в церкви невидимой, в царстве небесном...”
Следует и то еще отметить, что Павский с большой горячностью высказывался против монашества: “монашество я понимаю делом нечистым и противным закону натуры и, следовательно, закону Божию, в чем уверила меня и церковная история...”
Павский был видным деятелем и одним из “директоров” Библейского общества, но к “мистике” относился всегда враждебно, — говорил, что не любит “кривых путей...”
П. Бартенев удачно заметил о Павском, что был он “представителем облегченного, уклончивого и зыбкого благочестия,” — и в этом он был довольно типичен...
Павский вполне сходился с Жуковским и ген. Мердером, по предложению которого он был приглашен в законоучителя к Наследнику (эту должность он должен был оставить в 1835-м году, всего больше под давлением Филарета, находившего его богословские взгляды весьма погрешительными)...
То было самое острое западничество не только в богословии, но и в самом душевном самочувствии. То было и психологическое самовключение в немецкую традицию. В особенности сильно это было именно в Петербургской академии, где не было в должной степени умеряющего корректива подлинной монашеской жизни...
Павский был отличным филологом, и с филологической точки зрения перевод его очень ценен. Он умел передавать и сам стиль, литературную манеру священных писателей, и просодический [40] строй библейской речи. И запас русских слов у переводчика был достаточно богат и свеж. У Павского был и педагогический дар, слушателей своих он мог многому научить. Прямых учеников, впрочем, у него было мало. Самостоятельной работой занимался только один, С. К. Сабинин, бывший все время заграничным свяшенником при дипломатической миссии в Копенгагене, потом в Веймаре (1789-1863). Курсовое сочинение Сабинин писал о “Песни Песней,” в каком должно разуметь ее смысле. Потом работал над книгой Исаии. В “Христианском Чтении” поместил он ряд экзегетических очерков, всего больше о пророчествах. Со времени запрещения перевода Павского Сабинин обращается к скандинавским темам, издает грамматику исландского языка, — и у него филологический интерес был преобладающим, как у Павского...
В другом смысле к тому же “немецкому” направлению в русской богословской науке принадлежит Иннокентий Борисов (1800-1855), из первого курса воспитанников Киевской академии, потом инспектор академии Петербургской и ректор Киевской, наконец, архиепископ Херсонский и Таврический. В свое время его настойчиво подозревали и обвиняли в “неологизме,” было однажды наряжено даже “негласное дознание” о его образе мысли. Для этого были поводы...
Иннокентия самого всего больше интересовала философия. Но мыслителем он не был. Это был ум острый и восприимчивый, но не творческий. Исследователем Иннокентий никогда не был. Он умел завлекательно поставить вопрос, вскрыть вопросительность в неожиданной точке, захватить внимание своего читателя или слушателя, с большим увлечением и блеском пересказать ему чужие ответы. Только блестящая манера изложения маскирует этот всегдашний недостаток творческой самодеятельности. Но всегда это именно изложение только, никогда не исследование. Как говорил об Иннокентии Филарет Московский, у него не достает рассуждения, а воображения слишком много. Иннокентий именно оратор, прежде всего. И в этом “краснословии” разгадка его влияния и успеха, — и на профессорской кафедре, и на проповедническом амвоне...
В своих богословских лекциях Иннокентий не был самостоятелен. Догматику он читал применительно к “системе” М. Добмайера, как и архим. Моисей, у которого он сам слушал богословие, — эта “система” в те годы была принята в католических школах в Австрии. Она очень характерна для этой “переходной” эпохи, — от Просвещения к Романтике, от Лессинга, Гердера и Канта к Шеллингу или даже Баадеру. [41] Основная и руководящая идея этой “системы” есть идея Царствия Божия, истолкованная скорее гуманистически, как “нравственное общение.” Влияние Просвещения во всем чувствуется, и христианство изображается, точно некая школа естественной морали и блаженства. Христология остается очень бледной и двусмысленной...
Все эти черты находим и у Иннокентия. Характерно, что курсовое сочинение писал он на тему: “О нравственном характере Иисуса Христа.” Знаменитая книга Иннокентия “Последние дни земной жизни Иисуса Христа” (первое издание в 1847 г.) увлекает своими литературными достоинствами. Но это именно только литература, не богословие. Иннокентий не выходит здесь за пределы риторического и сентиментального гуманизма. Вместо богословия у Иннокентия всегда только психология, вместо истории риторика. В действительные глубины духовной жизни Иннокентий никогда не спускается... Иннокентий был эклектик. [42] В его мировоззрении много элементов еще от эпохи Просвещения, но он очень увлекается и Александровским мистицизмом, — в своих лекциях он много говорит о пиетической традиции, с большим сочувствием отзывается о Фенелоне и Гионе, о Штиллинге и Эккартсгаузене, — “сделали много пользы.” Много говорил Иннокентий и на темы Шуберта, о сновидениях и о смерти, — конечно и об ясновидящей Преворстской. Оттеняет Иннокентий и космические мотивы в богословии, — “вся природа есть портрет Всевышнего, совершеннейший и полный,” — в этом слышится отзвук мистической натурфилософии...
Читать Иннокентия и теперь еще интересно, — слушать было еще интереснее, конечно. “Некоторые места в лекциях преосв. Иннокентия очевидно рассчитаны были только на впечатление, какое могло получаться от них при слушании, а не при чтении на бумаге; это были быстрые фейерверки таланта, на которое можно было смотреть только издали и не очень пристально, чтобы, подойдя к ним вплотную, вместо приятного впачатления световой игре, не получить впечатления одного неприятного курева” (П. В. Знаменский). Всякая попытка подражать Иннокентию, или следовать за ним, оказывалась предательской. Последователей у него не было, и не могло быть, хотя и были неудачные подражатели...
У Иннокентия был этот дар увлекать, — Филарет Киевский говорил даже о “религиозной демагогии.” Иннокентий умел сразу увлечь и людей такого “твердого духа,” как известный Ростиславов, и религиозных мечтателей, и искателей спекулятивных откровений. “Слушатели Иннокентия видели у него богословскую истину, строгую и важную, в таком блестящем одеянии, какого они никогда себе не представляли, привыкши к прежней схоластической манере изложения.” Поражала именно эта “живость воображения,” не столько сила мысли, — “сила ума разрешалась богатством образов.” Смелость Иннокентия всего больше от его спекулятивной безответственности, от того, что идет он по поверхности. “Но по самому складу и настроению своих способностей он не произвел и не мог произвесть эпохи в науке, которую преподавал, он не подвинул ее вперед, он даже вовсе ее не обрабатывал... Нет, не наука, как ни близка она была знаменитому иерарху, а искусство, высокое искусство человеческого слова, вот в чем состояло его истинное призвание.” Так писал об Иннокентии Макарий Булгаков, в торжественном некрологе для отчета Академии Наук. И Макарий прибавляет: “но не видно того, что называется христианским глубокомыслием и богословской ученостью...”
Странным образом, напротив, Иннокентий с преувеличенными похвалами отзывался о догматике Макария, об этой запоздалой попытке вернуться именно к схоластической манере, причем поражает в ней назад это странное бездействие рассуждающей мысли, отсутствие вопросительности. Когда в сороковых годах возникла мысль заменить Филаретовский катихизис другим, более церковным, т. е. романизирующим, первым пришло на ум имя Иннокентия. Его старый учитель, прот. Скворцов, спрашивал его при этом случае: “Ужели и Вы судите так же, как некоторые у нас: не нужно де нам обширных сведений философских, нужно нам одно богословие откровенное.” В ранние годы Иннокентия упрекали именно в том, что под именем догматики вместо положительного богословия он предлагает философские домыслы. И привлекал он слушателей именно этим. Но сам он увлекался философией только эмоционально. Его очень увлекали многозначные ответы философов, меньше тревожили его сами вопросы...
Иннокентий был эрудит и оратор. Не был и историком, его исторические опыты всегда слабы. Долгие годы готовил он к изданию “догматический сборник,” как сам он его называл, или “Памятник веры православной.” Это должен был быть именно сборник, — собрание вероучительных изложений и исповеданий в хронологическом порядке. До живой идеи Предания, при всей своей пытливости, Иннокентий так и не поднялся. Сборник остался недопечатанным...
Несомненной заслугой Иннокентия было основание при Киевской академии журнала, под именем “Воскресного Чтения” (с 1837 г.), — это был скорее назидательный, чем ученый журнал. Как проповедник, Иннокентий примыкал всего ближе к Масийону [43]...
Во всем связан он именно с западной традицией. Всего меньше у него заметны патристические мотивы. Нужно еще отметить переработку им целого ряда униатских “акафистов,” в которых его привлекал снова этот дух чувствительности, эта игра благочестивого воображения...
В этом отношении Иннокентия можно сопоставить с его Киевским сверстником и сотрудником, Я. К. Амфитеатровым (1802-1848), очень в свое время известным профессором гомилетики в академии (его “Чтения о церковной словесности” вышли в 1847-м году). От французских проповеднических образцов Амфитеатров возвращается к патристической проповеди. Но как все же сильна в нем эта чувствительная струя, почти что “святая меланхолия,” склонность к грусти и мечтательность, — “солнце светит, но свет его грустен...”
В известном смысле “западничество” было неизбежно в преобразованных духовных школах, именно в школьном порядке. Учиться приходилось по иностранным книгам и руководствам. Первой задачей преподавателей и было именно это введение в русский школьный оборот современного ученого и учебного материала западных богословских училищ. И с постепенным переходом преподавания на русский язык вопрос о составлении или переводе “классических” книг, т. е. учебников, стал особенно острым, каким он не был перед тем, пока латынь оставалась единым и общим языком богословского преподавания и учености на Западе и в России. Устав 1814-го поощрял преподавателей к составлению собственных записок или руководств, в эпоху “обратного хода,” это было взято, напротив, под подозрение, ибо затруднялся контроль и проверка. В первые десятилетия прошлого века учились по иностранным руководствам, в переводе или в подлиннике, иногда в пересказе, — первые русские книги и бывали не более, чем пересказом. По Священному Писанию это были книги митр. Амвросия Подобедова (Руководство к чтению Священного Писания, М. 1799, книга Гофмана) и Рамбахия Institutiones hermeneuticae sacrae, — пo Рамбахию была составлена диссертация Иоанна Доброзракова, одно время ректора Петербургской академии, Delineatio hermeneuticae sacrae generalis (1828), которая также применялась в качестве “классической книги.” По богословию “созерцательному” (т. е. теоретическому, или догматическому) все еще оставались книги предыдущего столетия, — Прокопович, чаще всего Ириней Фальковский, редко русские книги Платона или Макария Петровича, изредка и святителя Тихона “Об истинном христианстве.” В академиях появляются и новые авторитеты. В Киевской это был Добмайер, в Московской ректор Поликарп читал по Либерману, пользуясь и другими новыми курсами, вышедшими в Германии. Несколько позже Филарет Гумилевский читал по Клею и Бреннеру, [44] “не без внимания к мнениям германского рационализма.” Рекомендовалось при этом обращаться к отеческим творениям, но практически в то время внимание почти всецело поглощалось новейшей литературой. Ректор Поликарп имел обыкновение по каждому вопросу приводить свидетельства отцов Восточной церкви и выписками из них занимал студентов старших курсов...
По Нравственному или “деятельному” богословию учебником был обычно все еще Буддей, чаше в обработке Феофилакта, иногда богословие Шуберта, [45] с латинского переведенное костромским протоиереем И. Арсеньевым (1805), или учебник прот. И. С. Кочетова “Черты деятельного учения веры,” — это была русская обработка латинских лекций Иннокентия Смирнова, составленных по Буддею [46] и Мосгейму; “латинские записки ректора переведены на русский язык, вот и все дело,” замечает Филарет Гумилевский (книга Кочетова вышла в 1814 году; срв. его же — Начертание христианских обязанностей, 1828). По пастырскому богословию основным руководством была удачная, хотя и давняя уже книга Парфения Сопковского, епископа Смоленского, “Книга о должностях пресвитеров приходских” (первое издание в 1776), кое-кто предпочитал переводную книгу Гивтшица (католический учебник). По литургике пользовались обычно “Новой Скрижалью” или книгой И. И. Дмитревского “Историческое и таинственное объяснение Божественной литургии” (первое издание в 1804-м году, не раз переиздано) Для сочинений приходилось опять обращаться к иностранным книгам. “Важным пособием для составления диссертации, кроме латинских книг, служили преимущественно немецкие; потому студенты тотчас по поступлении в Академию напрягали все силы, чтобы изучить немецкий язык так, чтобы понимать книги, писанные на этом языке.” Так рассказывает историк Московской академии, и так продолжало быть повсюду почти что весь девятнадцатый век. При таких условиях становилось совершенно неизбежным самое острое влияние той конфессиональной среды, в которой богословское исследование и работа протекали на Западе. Это было замечено сразу. И отсюда у многих робость и колебания, иногда и прямой испуг, — не надежнее ли вовсе отказаться от встреч и смыкания с этими традициями западной учености и науки, и вовсе не вкушать от этого сомнительного и чуждого источника?..
И в действительности, постоянное чтение инославных книг не проходило безвредно. Не в том была главная опасность, что богословствующая мысль вовлекалась в трудные споры, или уклонялась в сторону. Гораздо важнее было то, что сама душа раздваивалась и отрывалась от твердых устоев. В этом отношении особенно поучительны и показательны именно интимные признания, которые встретить мы можем в дружеских письмах или в студенческих дневниках. Так интересна, например, дружеская переписка Филарета Гумилевского с А. В. Горским. И равновесие можно было восстановить только через аскетический и молитвенный искус...
Опасность коренилась в искусственном характере школы, все еще не связанной органически с жизнью, с самой церковной жизнью. Духовное юношество годами жило в искусственной изоляции полуправославной и полурусской школы. Поэтому развивались навыки абстрактного теоретизирования, развивался своеобразный мечтательный интеллектуализм. Обстановка Александровской эпохи и начинавшегося романтизма тому благоприятствовала...
Однако, как ни труден и опасен был этот “западнический” этап, он был неизбежен. И нужно было его принять в этой его неизбежности и в его относительной правде. Ибо от опасностей мысли нельзя укрыться в запретах, но только в творчестве...
11. Пути реформирования духовного образования.
Падение “духовного министерства” в 1824-м году, “сего ига египетскаго,” как говорил митр. Серафим, нисколько не изменило общего характера церковно-государственных отношений. Фотий напрасно поторопился объявить: “Министр наш един Господь Иисус Христос во славу Бога отца.” Ибо “мирской человек” по-прежнему сохранял власть в Церкви. И не будучи министром “сугубого министерства,” Шишков продолжал вмешиваться в дела Синодального ведомства, по вопросам библейского перевода и Катихизиса. При обер-прокуроре С. Д. Нечаеве (1833-1836) этот процесс превращения церковного управления в некое особое “ведомство” даже и ускоряется. В явочном порядке обер-прокурор сосредотачивает в своих руках все синодальные дела и сношения, не останавливается решать иные дела самовластно, не спрашивая Синод, или даже переменяя синодские решения, и закрывая путь отступления Высочайшей конфирмацией своих докладов. Нечаев был масон, к духовенству и к иерархам относился презрительно. “Вдруг ни с того, ни с сего, появились жандармские доносы на архиереев и членов Синода. Доносы оказывались большей частью ложными. Наша канцелярия подозревала, что в доносах участвует сам обер-прокурор, задавшейся целью унизить духовное правительство в России. Архиереи и члены оправдывались, как могли. Священный Синод сильно беспокоился, показывал вид беспокойства и обер-прокурор, и, подстрекая членов к неудовольствию, говорил, что учреждение жандармского досмотра более делает вреда, чем пользы.” Так рассказывает в своих “записках” Исмайлов, бывший тогда чиновником в Синодальной канцелярии. Под надзором оказался и Филарет Московский. Удалось вызвать его, в официальном отзыве, на неосторожное заявление, что “данное жандармской команде право доносить со слухов и безо всякой ответственности за ложные сведения стесняет свободу администрации и, как похожее на слово и дело, лишает подданных спокойствия.” Это было прямым осуждением самого жандармского принципа. В Николаевское время такие речи не забывались даже митрополитам. Неблагонадежным оказал себя Филарет еще в холеру 1830-го года, когда в своих проповедях, казалось, слишком много говорил о грехах царей и о казнях Божиих. Наконец, по-видимому, по настоянию именно Филарета пришлось отказаться от мысли назначить Цесаревича, будущего Александра II-го, к присутствованию в Синоде, подобно тому, как был он введен в Сенат и другие высшие государственные установления. Филарет удивительно неделикатно напоминал о внутренней независимости Церкви. И даже видеть Филарета имп. Николаю становилось неприятно...
У Филарета была своя государственная теория, теория священного царства. Но она совсем не совпадала с официальной и официозной доктриной государственного суверенитета. “Государь всю законность свою получает от церковного помазания,” т. е. в Церкви и через Церковь. И помазуется только Государь, не государство. Потому органы государственной власти не имеют никакой юрисдикции в делах церковных. Филаретовский образ мыслей был вполне далек и чужд государственным деятелям Николаевского времени. Филарет им казался опасным либералом. Такое же впечатление было и у сторонних наблюдателей. “Филарет умел хитро и ловко унижать временную власть: в его проповедях просвечивает тот неопределенный социализм, которым блистали Лакордер [47] и другие дальновидные католики,” — так отзывался о нем Герцен (в “Былом и Думах”)...
Недовольство Нечаевым в Синоде достигло такой остроты, что решено было просить Государя о назначены другого обер-прокурора, с которым стала бы вновь возможна совместная работа. В этом принимал решающее участие известный А. Н. Муравьев, состоявший тогда за обер-прокурорским столом в Синоде...
Назначен был граф Н. А. Пратасов. Он оказался еще более властен, чем Нечаев. У него была своя система, своя и вполне стройная программа реформ. И было у него умение подбирать догадливых и умелых исполнителей своих предначертаний. Пратасов был верным проводником Николаевских начал или режима в церковной политике. Именно при нем завершается государственная организация церковного управления, как особого “ведомства,” в ряду других, — “ведомством православного исповедания” именуется Церковь с тех пор. Клир и иерархия состоят в этом ведомстве. Из органа государственного наблюдения и надзора при “синодальной команде” обер-прокуратура становится теперь органом власти. Это вполне отвечало духу Петровской реформы, для чего в те именно годы Сперанский вычеканил отчетливые определения. “Император яко христианский государь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния. В сем смысле Император в акте о наследии престола (1797 апр. 5) именуется Главою Церкви.
В управлении церковном Самодержавная власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, ею учрежденного” (Основные Законы, ст. 42 и 43, в изд. 1832 г.)...
На дела церковные Пратасов смотрел только с точки зрения государственного интереса: “учение, коему отечество наше одолжено нравственным своим могуществом.” Он строил Империю, и в ней церковь. Воспитанный гувернером-иезуитом, окруживший себя сотрудниками и советниками чаще всего из бывшей Полоцкой униатской коллегии, в своей деятельности Пратасов был выразителем какого-то своеобразного и обмирщенного бюрократического латинизма, в котором склонность к точным определениям сочеталась с общим казарменным и охранительным духом эпохи. К самому Риму у Пратасова симпатий вовсе не было, и при нем совершилось отторжение западно-русских униатов от Рима. Но его собственным вкусам всего больше отвечали именно романизирующие книги, — в богословии и в канонике...
Пратасов хотел не только властвовать в церковном управлении, но именно перестроить или устроить его в точном соответствии с основным принципом абсолютного и конфессионального государства. В этой планомерности вся историческая значительность его деятельности. Перед назначением в Синод Пратасов состоял в министерстве народного просвещения, при Уварове, товарищем министра, как раз в период разработки Университетского устава и “положения об учебных округах” 1835-го года. В министерстве был подготовлен особый проект и о преобразовании духовных училищ, что вполне соответствовало антиклерикальным и скорее просветительским воззрениям самого министра. Не есть ли само существование особой духовно-школьной сети только проявление опасного сословного эгоизма, “чрезвычайно вредного эгоизма звания?...”
И не устарел ли уже весь этот устав 1814-го года?...
Министерство подвергало очень острой критике всю воспитательную систему, опертую на начало страха, подчеркивало недостаток и недостаточность учебных пособий, недостатки самих учебных программ. Особое внимание обращено было на вред философии, особенно в приложении к богословию, — не тщится ли она превратить все непостижимое в христианстве в некий миф...
Предлагалось приходские и духовные училища слить с уездными и передать в ведение министерства...
Снова Филарет выступил на защиту духовных школ и самого сословия, обвиненного во вредном эгоизме. Вопрос о слиянии или упразднении школ был снят с очереди...
Пратасов настаивал, однако, на преобразованиях. “Комиссия духовных училищ” совсем не была расположена расширять вопрос и задумываться о реформе. Она удовольствовалась только пересмотром учебников и классических конспектов, представленных из разных семинарий. Тогда Пратасов решился действовать в обход “Комиссии” и даже самого Синода, а в 1839-м году, по его личному Всеподданнейшему докладу, “Комиссия” и вовсе была упразднена, а вместо нее учреждалось особое Духовно-Учебное управление, под ближайшим и непосредственным начальством самого обер-прокурора...
Это было и логично, так “Комиссия духовных училищ” была органически связана со всем прежним школьным укладом, который теперь предполагалось существенно изменить. Речь шла именно о перемене самого принципа, самого идеала или задания. Принцип общего развития и культурного роста, положенный в основание всех школьных мероприятий Александровского времени, представлялся Пратасову опасным, расплывчатым, искусственным, неполезным. Он хотел бы вернуться назад, снова в ХVIII-ый век с его служилым профессионализмом. Прежний устав откровенно объявлял, что “ученость” есть собственная цель заводимых школ. Именно этого и не хотел теперь Пратасов. Именно эту самодовлеющую и “мертвящую ученость” и нужно прежде всего упразднить, в частности, философию, эту “нечестивую, безбожную науку.” В прошлом, по мнению Пратасова, “воспитание русского духовного юношества во многих отношениях стояло на основании произвольном, неправославном, общем с разнородными протестантскими сектами,” это был довольно явный намек именно на Александровское время. В прежнем уставе ведь прямо и предлагалось “держаться на одной линии с последними открытиями и успехами,” — разумелось, именно этой неправославной и произвольной науки. Пратасов вспоминает при этом слова Златоуста: “доброе неведение лучше худого знания...”
В семинариях, во всяком случае, необходимо курс наук и сам порядок обучения приспособить к условиям сельской жизни. “Из семинарий поступают в священники по селам. Им надобно знать сельский быт и уметь быть полезными крестьянину даже в его делах житейских. Итак, на что такая огромная богословия сельскому священнику? К чему нужна ему философия, наука вольномыслия, вздоров, эгоизма, фанфаронства? На что ему тригонометрия, дифференциалы, интегралы? Пусть лучше затвердит хорошенько катихизис, церковный устав, нотное пение. И довольно. Высокие науки пусть останутся в академиях.” Так передает наставления Пратасова архимандрит Никодим Казанцев, из магистров Московской академии, тогда ректор Вятской семинарии, вызванный обер-прокурором именно для составления новых уставов (был впоследствии епископом Енисейским, скончался на покое в 1874 году). Пратасов и Карасевский, его ближайший помощник, всячески внушали Никодиму этот ограничительный принцип профессионализма. “У нас всякий кадет знает марш и ружье, моряк умеет назвать последний гвоздь корабля, знает его место и силу, инженер пересчитает всевозможные ломы, крюки, канаты. А вы, духовные, не знаете ваших духовных вещей...”
Под именем “духовных вещей” Пратасов разумел не только “устав” и “нотное пение,” но еще и умение говорить с “народом.” В этой притязательной “народности” вся острота задуманной реформы. Подсказана она была, кажется, из министерства государственных имуществ, — Пратасов только развил и применил идею Киселева. Нужно было создать кадры элементарных учителей нравственности для народа, и для этого решено было приспособить духовенство. “Судя по первому обозрению казалось бы, что сельский священник, имея дело с людьми, готовыми в детской простоте принять все сказанное пастырем, не столько имеет нужды в подробном и глубоком знании наук, как в умении просто и ясно изъяснять христианские истины и евангельскую нравственность, приводя их в положение, доступное для простых умов поселян, и приноравливая евангельские истины к обстоятельствам сельской жизни...”
Весь замысел Пратасова был не что иное, как ставка на опрощение...
И в обстоятельствах сельской жизни не полезнее ли вместо “глубокого знания наук” владеть житейскими и практическими навыками, — знать начатки врачебного искусства, твердо знать основные начала рационального сельского хозяйства! И не эти ли науки нужно ввести и усилить в семинарских программах, за счет “холодной учености...”
Пратасов предлагал во всем школьном строе усилить “характер общенародности,” придать всему преподаванию “направление, сообразнейшее с нуждами сельских прихожан.” Задачу духовной школы Пратасов так и определял: “образование достойных служителей алтаря и проповедников слова Господня в народе...”
Предположения Пратасова встретили очень решительное противодействие в “Комиссии духовных училищ.” Филарет представил опровержение их по пунктам и поставил вопрос, насколько согласимы эти предположения “с духом церковных правил.” Только в летнее время, в отсутствие Филарета Московского и Филарета Киевского, Пратасову удалось провести через Комиссию предложение о некоторых изменениях в учебных планах и программах...
Преподавателю словесности напоминалось, “что прямая цель его стремления есть образовать человека, который бы мог правильно, свободно, вразумительно и убедительно беседовать с народом о истинах веры и нравственности.” Поэтому светское красноречие, правила стихотворства и т. под. могут быть проходимы лишь бегло...
В преподавании истории предлагалось избегать как “усиленного критицизма, который оружием односторонней логики покушается разрушить исторические памятники” (т. е. их достоверность), так и “произвольного систематизма,” когда народы и личности изображаются в качестве носителей “какой-нибудь роковой для них идеи...”
Несколько неожиданно по философии предлагается латинская программа, — “философия привыкла говорить латинским языком.” Не объясняется ли это предпочение латыни скорее тем соображением, что философствовать на общепонятном языке было бы неосторожно в рассуждении гласности!...
О преподавании богословских наук даны были только самые общие указания, — надлежит так преподавать, “чтобы сие учение священник без большой работы мог приспособить и употребить, когда получит случай беседовать с простолюдином, рожденным в магометанстве или язычестве, или совращенным от христианства.” Не следует разрешать вопросов и сомнений, “которых неиспорченный ум и не подозревает.” В основу преподавания предписывалось положить “Православное Исповедание” Петра Могилы, и “с ним поверять подробности богословского учения.” В новом русском переводе “Православное Исповедание” и было издано от Синода в том же 1838-м году. Кроме того, введен был в семинарскую программу новый учебный предмет: “Историческое учение о святых отцах,” — программу по этому предмету предстояло еще разработать и составить по нему классическую книгу... Пратасов был озабочен в это время всего больше изданием руководственных книг по всем областям церковной жизни, на который легко было бы безоговорочно ссылаться, как на учение и установление самой Церкви. Кроме “Исповедания” Петра Могилы в том же 1838-м году были изданы “Царская и патриаршия грамоты о учреждении Святейшего Синода, с изложением Православного Исповедания Восточно-Кафолической Церкви,” — перевод и редакция взяты были на себя Филаретом Московским, который и внес в текст немаловажные поправки, в устранение вкравшихся латинизмов (опущен запрет мирянам читать Священное Писание, опущен термин “пресуществление”). Впоследствии от Духовно-Учебного управления было предписано выдавать экземпляр этих “грамот” каждому ученику семинарии при переходе в высшее отделение, “с тем, чтобы, по окончании курса и по выходе из семинарии, они удержали книгу сию у себя для всегдашнего употребления.” В связи с изданием этих “символических книг” встал вновь вопрос о Катихизисе. Пратасов, поддерживаемый Сербиновичем, директором своей канцелярии (окончил Полоцкую академию в 1817 г.), настоял на введении новых вопросоответов: о Предании, о предопределении, — напротив, о естественном Богопознании из видимой природы было опущено. Внести в катихизис изложение т. наз. “заповедей церковных” Филарет отказался, находя их излишними наряду с заповедями Божиими, — вместо того были введены заповеди блаженства (как были они и в “Православном Исповедании”). Существенных перемен в “Катихизисе” сделано не было, — кажется, в это время обошлось и без споров. Филарет сам был скорее доволен новой редакцией своего “Катихизиса.” После исправлений и со сделанными дополнениями это был уже не только “катихизис,” но и богословская “система” в сокращении. “Поелику нет книги, одобренной для богословия, и богословы наши не всегда право правят слово истины, то побужден я был дополнить катихизис.” Не были удовлетворены скорее Пратасов и Сербинович, — во всяком случае, в ближайшие годы еще не раз подымается вопрос о составлении нового катихизиса, и новым лицом. В 50-х годах называли имя Макария...
В 1839-м году была издана “Книга Правил,” взамен Кормчей, — включены в нее были только церковные законы, гражданские постановления опущены. Пратасов нашел несвоевременным издавать “полное собрание” церковных законов, как то было сделано в отношении законов государственных при Сперанском, — в виду, как сам он то мотивировал, “неблаговидности” слишком многих постановлений Петровского времени и всего предыдущего века, огласка которых теперь вряд ли вполне удобна и скорее может соблазнить. Уже приготовленное проф. А. Куницыным “Полное собрание духовных узаконений в России со времени учреждения Святейшего Синода” было поэтому оставлено в рукописи без движения, как не оказался пригодным и обширный канонический свод Августина Сахарова, епископа Оренбургского. Даже и “Духовный Регламент” не был переиздан в это время всяческих переизданий и кодификаций. Был заново составлен “Устав духовных консисторий,” и введен во временное употребление все в том же 1838-м году, а в окончательном тексте утвержден и распубликован уже в 1841-м...
В замыслах Пратасова два задания тесно сочетались: польза и порядок, дисциплина, — профессиональная годность и строгая определенность всего порядка писанными правилами или законом. Монашества Пратасов не любил, что, впрочем, и логично с государственной точки зрения, — он предпочитал бы воспитывать “духовное юношество” в более практическом и светском направлении. Мундир ему нравился больше рясы, во всяком случае. Об этом очень интересно рассказывает в своих воспоминаниях Ростиславов (срв. в особенности главу: “О преобразовании Петербургской Духовной Академии преимущественно по образцам, заимствованным из батальона военных кантонистов”)...
Только в 1840-м году, наконец, новые учебные планы для семинарий были разработаны и утверждены. С осени того же года они были введены в округах Московском и Казанском. При всем своем упорстве и настойчивости, Пратасов слишком во многом принужден был уступить, должен был довольствоваться компромиссом. Новые предметы в семинарскую программу были включены, чего он так добивался, — “общенародный лечебник” и сельское хозяйство. Но общий характер преподавания был оставлен без перемен. Только русский язык преподавания был узаконен для всех предметов, а латинский поэтому выделен в особую дисциплину. Новые языки и еврейский были оставлены только для желающих, по выбору. В преподавании философии было предложено ограничиваться психологией и логикой, не включая прочих отделов метафизики. “Общенародным” от этих перемен преподавание не стало, во всяком случае. Но была утрачена та сосредоточенность и стройность курсов, которые так выгодно отличали школьные уставы Александровского времени. Интересным нововведением был “класс приготовительный для священства,” для уже окончивших, с более практической программой, куда введено было и посещение градских больниц в целях знакомства с простыми средствами врачевания...
В академических планах существенных перемен проведено тоже не было. Изменено было распределение предметов по курсам. Введены новые курсы и даже учреждены новые кафедры, — патристика, “богословская энциклопедия,” педагогия, русская гражданская история... Однако, изменилось самое важное — дух времени...
Пратасов искал новых людей в духовном сане, кто бы сумел перевести его замыслы на более технический язык Церкви и богословия. После нескольких проб и неудач он нашел такого человека. Это был Афанасий Дроздов, тогда ректор Херсонской семинарии (в Одессе), из московских магистров, — его и перевели в 1842-м году ректором Петербургской академии (впоследствии архиепископ Астраханский, скончался на покое в 1876 г.). “Граф Пратасов в архимандрите Афанасии нашел некоторые любимые идеи и понес его на своих плечах” (слова Филарета М.)...
В академии Афанасий не занял кафедры и сам никаких наук не преподавал. Но ему было поручено руководствовать всех преподавателей, внушая надлежащие мысли о порученных им предметам. Кроме того, Афанасий был назначен председательствовать в особом комитете о классических книгах и конспектах. Весь удар был сосредоточен теперь на учебных программах...
И первая тема, вокруг которой завязался спор, письменный и устный, была о Священном Писании...
Афанасий не довольствовался тем, что исчислял два источника вероучения, Писание и Предание, как разнозначные и словно независимые. У него была явная склонность принизить Писание. И какая-то личная боль чувствуется в той страсти и безответственности, с которой Афанасий доказывает недостаточность и прямую ненадежность Писания. Современников Афанасий пугал своей заносчивостью и страстностью. “Мне кажется, что от него благодать Духа отступает, и он часто лишается мира и утешения о Святом Духе,” писал о нем Евсевий Орлинский, сменивший его в должности ректора (впоследствии архиепископ Могилевский). “В этом положении он мучится, не знает, что с собою делать, — ловит какую-нибудь горделивую мечту и забывает, уносится или заносится, и опять действует жалко.” Весь источник его именно богословской подозрительности, не только осторожности, в этой внутренней неуверенности, в этой нетвердости в вере. “Афанасий, да, Афанасий, а не другой кто, проповедует: для меня исповедание Могилы и Кормчая все — и более ничего,” писал Горскому из Петербурга Филарет Гумилевский. Кормчая, — даже не отцы, и не Библия. Кормчей Афанасий хотел заслониться от сомнений. Афанасий, записывал Горский со слов самого митр. Филарета, “веровал в церковные книги более, нежели в слово Божие. Со словом Божиим еще не спасешься, а с церковными книгами спасешься...”
Афанасий был убежденным и последовательным обскурантом, [48] и это был пессимистический обскурантизм, от сомнений и безверия, весь в сомнении. Никанор Херсонский, с сочувствием и состраданием, зачертил этот жуткий и трагический образ. Афанасий не был ни невеждой, ни равнодушным. Это был человек страстно любознательный и любопытный, во всяком случае, — “ум острый, способный врываться вглубь предметов,” говорит Никанор. Но ум гордый и презрительный. Русских книг Афанасий никогда не читал, и в более поздние годы литературного оживления, — “дребедень, братец ты мой...”
Читал он только иностранные книги, старые и новые. И всего больше его интересовала Библия, был он хороший гебраист. Интересовался историей древних религий, эпохой начального христианства, перечитал отцов всех до Фотия. Знал и современную “немецкую христологию,” до Баура [49] и Штрауса. [50] Знал и естественные науки, — не только по книгам, но сам гербаризировал, коллекционировал минералы. И от этого изобилия знаний и интересов изнемогал и сомневался. Он боялся и подозревал самого себя. В поздние годы он писал много, “писал огромные исследования, полные и содержания, и систематической важности.” Но все сожигал, — “писал, и сожигал...”
Впрочем, кое-что убереглось от этого истребления. Сохранилась рукопись книги “Христоверы и христиане,” над которой Афанасий работал в свои последние годы. Это книга о происхождении христианства. Само заглавие очень любопытно. Автор различает “христоверие” и “христианство без Христа,” и до Христа Иисуса. Историей этого христианства, этого учения и предания, он и занят. У апологетов ищет он “органические остатки” этого “христианства,” “не того христианства, которое возводит свое начало к Иисусу Христу, а некоего иного ему предшествующего.” Ессеи, Ферапевты, Филон — вот звенья в изучаемой им цепи фактов. “Усилия христоверных писателей изгладить из исторических памятников свидетельства о христианах задолго до христианской веры” не имели полного успеха. “Евангелие Маркиона” занимало видное место в этом процессе превращения христианства в “католическое христоверие...”
Как объясняет Никанор, Афанасий “подвергался наитягчайшим скорбям внутренним, подвергался от болезней ума, болезней не тех, которые бывают плодом простого умственного помешательства, но болезней, которые проистекают от избытка знания, от невозможности сочетать умственные антиномии, от разгрома, иногда временного и преходящего, умственных принципов, всосанных с молоком матери, сросшихся с душой.” Вот этот жуткий “разгром” сердечных верований, эта скорбь во всем усомнившегося сердца, и была той зыбкой почвой, на которой выросла охранительная тревога Афанасия. “Человек будет жечь людей на костре, будет отдавать святыню на поругание, и однако будет оставаться в полууверенности, что он делает все это на пользу человечества.” Так писал Филарет Гумилевский, обсуждая политику Афанасия...
Сотрудничество Афанасия и Пратасова, этот союз мрачного сомнения и властной самонадеянности, не мог быть длительным. Общего меж ними было немного. Они сошлись только в практических выводах, не в предпосылках. И через пять лет Афанасий был услан архиереем в удаленный Саратов...
Свою охранительную деятельность в Петербургской академии Афанасий начал с того, что запретил Карпову читать по собственным запискам, а вменил ему в обязанность читать строго по Винклеру. Правда, Карпов стал читать по Винклеру “критически,” т. е. его безпощадно опровергая, и затем с охотой перешел на историю философии...
В первый же год своего управления в академии Афанасий представил через академическую конференцию в Святейший Синод составленный им учебник “Сокращенной Герменевтики,” где излагал основные начала своего богословского мировоззрения. Филарет Киевский решительно отказался разбирать и рецензировать представленную книгу. Пришлось тогда просить об этом Филарета Московского. Филарет дал отзыв резкий и подробный...
Афанасий был этим отзывом оскорблен и возмущен, хотел привлекать Филарета к суду восточных патриархов...
Филарета глубоко смущала и тревожила эта попытка для возвышения значения Предания набросить тень на само Писание, которое якобы “не излагает образца здравого учения” и содержит “не все догматы.” Афанасий слишком изощрялся показать недостаточность текстов Писания, непонятность, противоречивость или двусмысленность, и даже намеренную их темноту. “Дух Святый изглаголал Священное Писание, чтобы просвещать, а не чтобы затмевать,” возражает Филарет. Разногласия и разночтения Афанасий считал несогласимыми и безнадежными. Филарет отвечает. “Если бы принять суждение рассматриваемой герменевтики за справедливое, мы не знали бы достоверно ни в Ветхом, ни в Новом Завете, которое слово есть слово Божие и которое человеческое. Страшно и помыслить о сем. Слава Богу, что суждение рассматриваемой герменевтики несправедливо.” Потрясение доверия к Писанию есть ли средство “довольно осторожное,” и не ставится ли этим и достоверность Предания под удар...
“Долг верности перед Богом и святым Его словом и святою Его Церковию обязывает свидетельствовать здесь, что суждения о Священном Писании, основанные на усиленном внимании открывать в нем мнимые недостатки, без указания в то же время на истинные его совершенства, сколь не сообразны с достоинством богодуховного Писания, столько могут быть опасны для православия...”
Так резко и тревожно отзывался не один только Филарет. В 1845-м году прот. В. Б. Баженову, духовнику Государя, по званию члена академической конференции, пришлось читать экзаменские сочинения студентов. В одном из них он встретил нечто, над чем остановился с недоумением. Это было сочинение Тарасия Серединского (впоследствии известный посольский протоиерей в Берлине). Автор ставить Евангелие и отеческие творения под общее обозначение: Слово Божие. И различает только тем, что Евангелие названо Словом Божиим писанным, а сочинения помянутых церковных писателей Словом Божиим изустно преданным. Такая новизна совершенно противна учению православной Церкви и касается важного пункта его, и рецензент счел своей обязанностью обратить внимание конференции на то, откуда студент Серединский мог получить такое неправильное понятие о Слове Божием, — вина ли это его собственная или плод внушений сторонних...
Вслед затем Бажанов должен был выйти из членов конференции...
Сторонники “обратного хода” стремились сдвинуть Библию далее, чем на второй план. Настойчиво говорили о том, чтобы вовсе воспретить чтение Слова Божия мирянам, во избежание ложных толкований. “Одна мысль о запрещении чтения Священного Писания простым христианам приводит меня в страх,” писал Григорий Постников, тогда архиепископ Тверской, Филарету Московскому. “Не могу постигнуть, откуда происходит такое мнение. Не есть ли оно изобретение скрытно действующих агентов латинства? Или это мнение есть порождение умножающегося в наше время вольнодумства, дабы потом, как оно прежде поступало с духовенством западной церкви, смеяться над нами?..”
Подымался вопрос и о том, чтобы провозгласить славянский текст Библии, на подобие Вульгаты, “исключительно самостоятельным,” утвердить его в обязательном и исключительном употреблении, храмовом, школьном и домашнем...
Легко себе представить, какими несвоевременными и неуместными должны были казаться в такое время эти повторные и нескромные попытки Макария Глухарева привлечь сочувствие к новому русскому переводу Ветхого Завета, да еще и с еврейского...
Подозрительность и ожесточение от таких напоминаний только еще более возрастали. И еще большее возбуждение вызвано было распространением налитографированного студентами Петербургской академии библейского перевода прот. Г. П. Павского...
Дело о переводе Павского началось с анонимного письма, посланного из города Владимира к трем митрополитам. Как вскоре было обнаружено, составлено и разослано это письмо было иеромонахом Агафангелом Соловьевым, инспектором Московской академии (был впоследствии архиепископом Волынским и в 60-х годах откровенно выступал с обличениями обер-прокурорского засилия и произвола; † в 1876 г.) Агафангел совсем не был противником библейского перевода на русский, он и сам занимался переводами, и впоследствии издал книги Иова и Иисуса, сына Сирахова, по-русски, в своем переводе (1860 и 1861). Именно поэтому его и встревожило молчаливое распространение перевода, прикрытого авторитетом ученого имени, но слишком неточного с точки зрения доктринальной и богословской. “И когда авторитет его учености и слава многоведения грозит обширным распространением переводу, тогда ни молчание не уместно, ни терпение не спасительно...”
Автор письма приводит примеры ложного толкования пророчеств, отмечает неудачные грубоватости в переводе, вряд ли не намеренные. И в целом отзывается о переводе очень резко: “произведете сего нового Маркиона;” “не глаголы Бога живого и истинного, но злоречие древнего змия...”
Однако, вывод от этого автор делает к необходимости лучшего перевода. “Нет нужды отбирать экземпляры русского перевода: сею мерою можно только вооружить христиан против власти церковной. Распространению перевода способствует не желание читателей разделить мысли переводчика, но общее чувство нужды в переводе... Христианин не может удовлетворить себя славянским переводом, которого темнота и неверность по местам закрывают от него истину. У него нет другого перевода; он по необходимости обращается к мутным водам, чтобы чем-нибудь утолить свою жажду. Люди, получившие светское образование, давно уже не читают славянского перевода Ветхого Завета и прибегают к иностранным переводам...”
Письмо было разослано в конце 1841-го года. Автор наивно не рассчитал, что кто-то будет расследовать дело и обсуждать его донесение и советы. С наивной неосторожностью он довольно резко задевает и власть имущих сторонников “обратного хода.” Он настаивает на издании русской Библии. “Справедливо, что при сем деле невозможно избежать роптания со стороны людей суеверных или упорствующих в темноте невежества. Но чем же виновны души, ищущие истины, чтобы, из опасения возмутить покой суеверия и грубости, отказывать им в пище...”
Автор, странным образом, точно забыл, что к числу этих “упорствующих в темноте невежества,” прежде всего, принадлежали Петербургский митрополит, Обер-прокурор Святейшего Синода и многие другие на Синодских верхах...
Филарет Московский пробовал остановить движение поданного доноса. Но опоздал, и Филарет Киевский уже успел передать свой экземпляр безымянного письма в руки Пратасова, встревоженный превратным переводом. При предварительном рассмотрении дела в Синоде Филарет Московский выразил свое решительное пожелание, чтобы русский перевод Библии был открыто возобновлен и был издаваем от имени Святейшего Синода. Пратасов предложил ему сделать о том письменный доклад. И затем, не возобновляя о том суждения в Синоде, Пратасов приказал составить от имени престарелого митрополита Серафима резкое опровержение мнения Филарета (составлял его, вероятно, Афанасий), легко получил подпись полувменяемого от дряхлости старца, (“писанное полумертвою рукою представлено, как написанное живою и сильною,” отозвался об этом Филарет), внес оба мнения на Высочайшее благовоззрение, и снова без всякого труда получил Высочайшее согласие с нетерпимым и непреклонным суждением митр. Серафима, — Николай I болезненно не любил разногласий и расхождения мнений, в особенности по делам церковным, где все должно быть решаемо вполне единомысленно и единогласно, обосновано “не на умствованиях и толкованиях, а на точном смысле догматов...”
Филарет в своей записке стоял, строго говоря, на той же точке зрения, что и автор неблагоразумного доноса. Вернее сказать, Агафангел, учившийся и служивший в Московской академии, выражал мысли, исходившие именно от Филарета и всеми принятые у Троицы в академии, и только не был довольно осторожен в образе своих действий (“для меня неожиданна и непонятна эксцентричность некоторых движений его ума,” отзывался о нем сам Филарет)...
Филарет подчеркивал: “Одни запретительные средства не довольно надежны тогда, когда любознательность, со дня на день более распространяющаяся, для своего удовлетворения бросается во все стороны и тем усильнее порывается на пути незаконные, где не довольно устроены законные...”
Филарет предлагал поэтому ряд положительных мероприятий. Издавать постепенно толкования на библейские книги, начиная с пророческих Ветхого Завета и следуя при том тексту Семидесяти, но принимая в учет и “истину еврейскую,” опираясь на самотолкование Ветхого Завета в Новом и на изъяснения святых отец. Филарет проектировал не ученые комментарии, обремененные “тяжелою ученостью,” но назидательные объяснения, направленные “к утверждению веры и к назиданию жизни...”
Затем, Филарет предлагал сделать новое издание Славянской Библии, отбросив все ненужные прибавочные статьи и отчет о правке текста, включенные в Елизаветинскую Библию, но снабдивши текст в потребных местах пояснительными примечаниями, облегчающими понимание темных слов или выражений, легко поддающихся ложному толкованию. Всего важнее внести по главам краткое обозрение содержания...
С предложениями Филарета Московского вполне соглашался и митрополит Киевский. О русском переводе в этой записке помянуто не было...
Но и такое умеренное предложение показалось Пратасову и Серафиму совершенно опасным. “В православной церкви сохранение и распространение спасительных истин веры обеспечивается сословием пастырей, которым, с сей именно целию, и преподается дар учительства и которые нарочито к тому приготовляются в духовных заведениях. Если явившийся перевод есть плод одной любознательности, надобно дать ей другое направление, более соответствующее пользам Церкви...”
Так “любознательность” верующих к Слову Божию объявляется излишней и не отвечающей “пользам Церкви...”
Но и этого было мало. Отклоняется и издание толкований. Толкования отцов, правда, принимаются и допускаютя, но сличение отдельных отеческих толкований между собой объявляется делом опасным, — “может ослабить благоговение, питаемое православными к святым отцам, и предметы веры сделать предметами одного холодного исследования...”
Примечания к Библии только подадут повод к спорам и разномыслиям, — “заронив в умы мысль, что как будто Слово Божие имеет нужду в человеческом оправдании и что народ может быть судией в делах веры...”
Расследование по делу Павского производило скорее беспокоящее впечатление, т. к. Павский был, действительно, слишком свободен в своих богословских воззрениях, а на допросах предпочитал во всем запираться. В отношении Павского дело кончилось его увольнением на покой, пастырским внушением и его отречением. Гораздо важнее было возбуждение следствия о распространении налитографированного перевода по местам, — перевод отбирали, владельцев перевода строго допрашивали. Очень немногие имели смелость открыто отказаться возвратить свой экземпляр, — в числе очень немногих нужно назвать прот. М. И. Богословского, преподававшего в Училище Правоведения, впоследствии издавшего в двух томиках Священную Историю, — в официальном отзыве он объяснил, что это его собственность и что он “обязан читать слово Божие...”
Кое-кто удержал свои экземпляры, объявив, что они затеряны или даже уничтожены намеренно...
Общий результат этого расследования был тот, что преподавательский персонал в духовных школах, в семинариях и даже в академиях, снова был запуган и еще больше прежнего расположен к молчанию. Несколько позже Жуковский писал своему духовнику, веймарскому протоиерею Базарову: “В Германии от самотолкования произошло безверие, у нас от нетолкования происходит мертвая вера, почти то же что безверие. И едва ли мертвая вера не хуже самого безверия. Безверие есть бешеный, живой враг; он дерется, но его можно одолеть и победить убеждением. Мертвая вера есть труп. Что можно сделать из трупа!...”
Сразу же по окончании расследования по делу Павского оба Филарета оставили Петербург и Синод с тем, чтобы уже туда больше никогда не возвращаться, хотя звание членов Синода они удержали. Одновременно оставил службу в Синоде и А. Н. Муравьев...
Состав Синода в ближайшие годы подбирался преимущественно из ревнителей “обратного хода.” В вещах Филарета Московского при их отправке в Москву, с “поврежденным замком,” сделано было, как сам он о том говорит “тайное изыскание, не заперты ли в сундуках ереси.” На Филарета “жаждали клеветы” в Петербурге в эти годы. Он уезжал в Москву с большой тревогой о последствиях для Церкви...
Филарет Гумилевский в своих письмах этого времени к Горскому очень откровенно и ярко описывает тогдашнее напряженное положение в Петербурге. Только что назначенный, из ректоров Московской академии, и посвященный во епископа Рижского, Филарет с конца 1841-го года в течение нескольких месяцев принужден был оставаться в Петербурге, пока не откроется возможность ехать в Ригу, — был здесь как раз во время всех споров по делу Павского. Он мог следить за делом с обеих сторон, — через своего митрополита, которого искренно чтил и к которому был во многом близок, и от “бритых раскольников,” как он остроумно называл чинов и чиновников обер-прокурорского надзора. Пратасов и Сербинович рассчитывали и его использовать в своих целях, хотя, как он сам иронизирует, “давно внесли его в списки упорных лютеран...”
Общее внечатление у Филарета было самое мрачное: “тесное время, — время, которое заставляет зорко смотреть за каждым шагом.” Не тени ли это бродят и кружатся вокруг...!
И он прямо и откровенно говорит о гонениях. “Ныне выискивают грехи наши, чтобы ради их забирать дела правления в свои руки и Церковь сделать ареною честолюбивых подвигов...”
Церковь в осаде, — таково впечатление Филарета. “На вид кажется, что хлопочут о делах веры, о деле православия; даже только и слов с человеком незнакомым, чужим, что православие и вера; а все это на языке сердца означает: наше дело политика, все прочее дело стороннее... Как странно жить среди таких людей. Боишься и страшишься за свою душу, не унесли бы и ее бури помышлений в погибельную пропасть суеты земной. Ныне и завтра, сейчас и в следующий час об одном заставляют думать: то думать о том, как бы не запутали тебя в какую-либо интригу, то судить и даже осуждать интриганов, ставящих веру и святыню на какую-нибудь ленту, а часто и на улыбку знати высшей...”
В конце 1842-го года в своей Всеподданнейшей записке от 14-го ноября Пратасов как бы подводит итоги только что выигранной борьбы и намечает программу дальнейших действий. Совершенно открыто Пратасов обвиняет всю духовную школу в неправомыслии и ереси, именно в протестантизме. Если до сих пор от этого школьного протестантизма не приключилось непоправимого несчастья, то это только потому, что воспитанники духовных школ, становясь служителями алтаря, в самих прихожанах своих, в обрядах и в правилах Церкви, в самой жизни церковной встречают совсем другие начала и понятия, вовсе отличные от тех, в которых они были воспитываемы в школах, и под влиянием жизни оставляют эти дурные идеи школы...
Историю русской школьной ереси автор записки возводит к Феофану Прокоповичу. С особенной подробностью останавливается он на событиях недавнего прошлого, когда действовали библейские общества, и кроме Библии распространяли еще и книги теософические и мистические. Теперь, однако, приняты решительные меры против инославного засилия, “чтобы вертограды духовных знаний постоянно озарялись благодатным светом апостольского и соборного учения, предохранившего православный восток и с ним отечество наше от всех гибельных заблуждений запада...”
В этой критике много верного. Неверен только вывод, — преодолеть западные соблазны нельзя было одними только запретительными мерами...
Всего вернее, “записка” составлена была для Пратасова снова Афанасием. Во всяком случае, Афанасий думал именно так. “Будучи ректором Санкт-Петербургской академии,” говорил о нем Филарет Московский, “преосвященный Афанасий утверждал, что все русские богословы до него были не православны...”
В замысел Пратасова входило спешное издание новой богословской “системы,” которую можно было бы немедленно ввести в обязательное обращение, как “классическую” книгу в духовных школах, по меньшей мере. Одно время от самого Филарета Московского “требовали даже именем Государя” взяться за составление учебной книги. Он за это не взялся, по слабости здоровья...
Пратасов предложил затем взять на себя составление учебника Филарету Гумилевскому, который нашел это предложение “льстивым для самолюбия, но не льстивым для благоразумения, внимательного к положению дел,” и уклонился. Свой курс догматического богословия Филарет вполне обработал и издал уже много позже, только в 1864-м году...
Более сговорчивым оказался Макарий Булгаков (1816-1882), тогда молодой иеромонах и бакалавр Киевской академии, вызванный в 1842-м году в Петербург для преподавания богословских наук в академии, взамен ректора Афанасия, который от преподавания уклонялся, сосредоточив все внимание на преподавании других. Богословием Макарий до тех пор не занимался, чувствовал влечение и интерес скорее к историческим темам. Курсовое сочинение писал он по истории Киевской академии, для него должен был он познакомиться со старыми Киевскими рукописными курсами и конспектами по богословию, еще времен романистических. Отсюда именно, всего вернее, и его личные симпатии скорее к римско-католическим пособиям и системам. В академии догматику Макарий слушал у Димитрия Муретова (1811-1883), впоследствии (двукратно) архиепископа Херсоно-Таврического. Но никак не у Димитрия мог научиться и научился он схоластическим приемам...
О богословских чтениях Димитрия мы можем судить только по немногим отрывкам, им писанным, да еще по студенческим воспоминаниям. Привлекал к себе Димитрий, прежде всего, подлинной кротостью и смирением сердца, — и привлекал неотразимо. Но эта “сердечность” никогда не превращалась ни в риторику, ни в слащавую сентиментальность, — сердечен Димитрий был в духовном, не в душевном элементе. В лекциях своих и богословскую проблематику стремился он свести к ее духовным истокам, к духовному опыту. И всегда у него чувствуется вся вопросительность испытующей мысли. Мировоззрение Димитрия приходится восстанавливать теперь по его проповедям. Проповедовать он очень любил, и, всего более, именно на догматические темы. Говорил он очень просто, но в простых, почти наивных, словах умел выразить всю точность религиозных созерцаний, вскрыть внутреннюю перспективу даже в обыденных мелочах (срв., напр., его проповедь о времени и вечности, на Новый Год). Димитрий напоминает всего больше именно Филарета Московского, — и своей догматической пытливостью, и силой и последовательностью рассуждающей мысли, и своим даром пластических определений. И, кроме того, в Димитрии было очарование простоты и благолепие кротости. Хомяков очень высоко ценил Димитрия, которого лично знал, когда тот был Тульским архиереем. В известном смысле, и Димитрия следует причислить еще к Александровскому течению в русской церковной жизни, — он воспитался на тех же книгах и под теми же впечатлениями. С Иннокентием его связывает общность философских вкусов и даже пристрастий. В богословии Димитрий был именно философ, прежде всего. Он исходил из данных Откровения, из свидетельства Слова Божия, и затем сразу же переходил к спекулятивному раскрытию смысла и силы догмата. Он не был историком, хотя и придерживался исторического метода в изложении догматики. И западником никогда он не был, — от этого его предохранила творческая самодеятельность ума, мистический реализм созерцаний...
Прямого влияния на Макария Димитрий не оказал. Философское раскрытие догмата Макария просто не интересовало...
Сам Макарий рассказывал, что сразу же по приезде в Петербург был он подвергнут Афанасием строжайшему испытанию в знании богословия, “особенно касаясь пунктов православия.” Он должен был приступить к чтению лекций без всякой подготовки, через две недели после приезда. И мало того, он должен был свои лекции писать, сразу же для издания, “чтобы отдавать в литографию.” Читал Макарий, очевидно, по программе Афанасия. Временно, пока подходящей классической книги еще не было, предложено было пользоваться подбором выписок из творений святителя Димитрия Ростовского, расположенных “по предметам” (они были напечатаны в “Христианском Чтении” 1842-го года, — “Святого отца нашего Димитрия Ростовского, святителя и чудотворца, догматическое учение, выбранное из его сочинений”). На первом месте поставлен был отдел: “О святой вере и Церкви вообще.” Афанасий этими выписками был вполне доволен. Как передает митр. Филарет о нем, Афанасий находил, “что не должно богословие учить систематически, а довольно читать Священное Писание и Святых Отцов...”
В 1844-м году вновь составленные петербургские “конспекты” по догматике были Пратасовым посланы на просмотр и заключение Филарета в Москву. К новому расположению отделов Филарет отнесся вполне отрицательно, — он настаивал, что лучший и самый надежный порядок дан или указан в символе...
“Вселенский символ есть не иное что, как сокращенная система догматического богословия,” — и Филарет подчеркивает: “система вселенских отцов,” а не западной школы с ее поздним мудрованием. “Сия есть система апостольского предания...”
Ведь порядок символа сохранен и в “Православном Исповедании...”
Учение о Церкви Христовой вряд ли может быть изложено с полной убедительностью прежде, чем раскрыто учение о Христе Боге. Надежно ли и осторожно ли выдвигать так настойчиво “разум русской православной Церкви,” — не придется ли тогда допустить известные права и за “разумом римско-католической церкви.” Филарет отметил и отдельные случаи латинизирующих нововведений в присланных к нему конспектах (различение “формы” и “материи” в таинствах, например, и другие подобные)...
В 1848-м году вышло “Догматическое богословие” Антония Амфитеатрова (1815-1879), тогда архимандрита и ректора Киевской академии, а впоследствии архиепископа Казанского. Это была книга в старом стиле. Антоний избегал философии и рассуждений, хотел бы избежать всякого “свободного слова.” Он предпочитал держаться слов уже сказанных, в Писании и в прямых определениях Церкви. Здесь чувствуется и прямое влияние Филарета Киевского, “под руководством” и, кажется, по желанию которого эта “догматика” была составлена (Антоний был его племянником)...
Ученым Антоний не был вовсе. И назначение в ректора академии, после Димитрия и Иннокентия, человека такого склада, как Антоний, было знаменательно...
Но не был Антоний и схоластиком. Это был скорее проповедник и нравоучитель, нежели школьный ученый. В слушателях своих он старался пробудить и укрепить верующую мысль и сердце, призывал их к духовной созерцательности и к нравственному самоуглублению. Когда вышла догматика Макария, Ангоний ее не одобрил, — “составлена как бы по образцу лютеранскому!...”
За свой учебник Антоний был возведен в степень доктора...
Пратасов писал ему с увлечением. “Вы оказали нам великую услугу. Вы сняли с нас позор, что доселе не было в России своей системы богословской...”
Макарий, между тем, продолжал в Петербурге читать лекции и издавать их по главам в “Христианском Чтении.” В 1847-м году вышло отдельной книгой его “Введение,” в следующие годы он выпустил и саму “систему,” в пяти томах (1849-1853). Впоследствии эта “большая догматика” Макария переиздавалась не раз, вскоре же переведена была по-французски, и до сих пор остается в употреблении...
Впечатление от этой книги двоится, и двоилось с самого начала ...
Значительность Макариевской догматики вне всякого спора, особенно в исторической перспективе. Богатство материала, здесь собранного и сопоставленного, почти исчерпывающее. Конечно, в собирании этого материала Макарий не был вполне самостоятельным, но и не должен был быть непременно самостоятелен. У западных авторов, и, в частности, у старинных латинских эрудитов, он мог найти все, что ему было нужно, — симфонию библейских текстов, свод отеческих цитаций. И не было надобности все это разыскивать заново...
Важно было уже и то, что впервые такой богатый и строго обоснованный материал был впервые изложен по-русски, в общедоступном виде...
И с этой стороны вполне оправдан и понятен восторженный отзыв о Макариевской догматике, данный сразу же после ее выхода в свет Иннокентием Херсонским, для Академии Наук: богословие этой книгой “введено в круг русской литературы.” Непонятно одно в этом отзыве, — как мог Иннокентий назвать книгу Макария “трудом самостоятельным и оригинальным.” Просто потому, что Макарию не было в чем проявить самостоятельность или оригинальность. Ибо он сознательно и не идет дальше простого сопоставления текстов. Он словно и не подозревает, что эти тексты и свидетельства нужно возвести к живому догматическому созерцанию, к опыту духовной жизни. В этом отношении Макарий совсем не был похож даже на Афанасия. Афанасий знал, что есть вопросы богословской пытливости, живо чувствовал всю реальность этих вопросов, и только боялся спрашивать, за себя и за других. Отсюда трагизм и неудачливость Афанасия в жизни. Но ничего трагического не было в Макарии. К богословской проблематике он оставался вполне равнодушен, просто не восприимчив. В своих личных вкусах Макарий был скорее “светским” человеком, к вопросам “духовной жизни” он был именно равнодушен. В сороковые и пятидесятые годы он укрепляет Пратасовский режим, в семидесятых оказывается руководителем либеральных реформ (срв. известный проект преобразования церковного суда в комиссии 1874 г.). Есть что-то бюрократическое в его манере писать и излагать. В его догматике недостает именно “церковности.” Он имеет дело с текстами, даже не со свидетельствами, не с истинами. Потому так безжизненно и неубедительно его изложение, внутренне не убедительно. Это — одни ответы без вопросов, — потому они и не отвечают, что ни о чем не спрашивается. Если угодно, и в этом есть свое преимущество. Никанор Херсонский, ученик Макария, в своем поминальном слове очень удачно об этом говорил. Даже у Иоанна Дамаскина, и даже у Петра Могилы, были собственные взгляды и частные соображения. У Филарета и у Иннокентия слишком много гениальности, неповторимого полета. Совсем не так у Макария, — путь его прямой, ясный, “осмотрительно трудовой.” Иначе сказать, — у Макария нет собственных взглядов, — он более других объективен, потому что у него нет взглядов вовсе. Это была объективность от равнодушия...
Вот это внутреннее равнодушие или бездушность в книгах Макария многих раздражала при самом их появлении...
Хомяков находил “Введение” Макария “восхитительно глупым,” и так же отзывался о нем Филарет Гумилевский: “вздорная путаница,” “ни логического порядка, ни силы в доказательствах нет...”
О богословских книгах Макария можно повторить то, что Гиляров-Платонов [51] писал о его “Истории:” “ремесленное изделие с наружным аппаратом учености...”
Гиляров подчеркивал: История Макария имеет всю “видимость исторической книги, но не есть история, но только книга...”
Подобным образом, и “догматика” Макария имеет всю видимость богословской книги, но не есть богословие, а только книга... “Не история, и даже не книга, а просто изделие” (слова Гилярова)...
Макарий учился в Киеве, когда в академии все еще так силен и жив был богословский и философский пафос, — для него это прошло бесследно. Но не чувствуется в нем и “Печерского благочестия,” столь явного в Филарете Киевском, в Антонии Амфитеатрове...
Именно поэтому Макарий всего больше и подошел к стилю Пратасовской эпохи. Он был богослов-бюрократ. Его “догматика” есть типический продукт Николаевской эпохи. Кроме “большой” догматики Макарий составил и “малую,” для употребления в училищах. Эта книга, как сам он рассказывал впоследствии, “десять лет провалялась у покойного мудреца Московского,” т. е. у митр. Филарета. Только после смерти Филарета это руководство смогло быть напечатано и введено в училища, как “классическая” книга. Филарет молчаливо осудил Макария...
Сверстник Макария, бывший после него ректором Петербургской академии, Иоанн Соколов, отзывался о книгах Макария еще резче. “Ученые книги автора, о котором теперь речь, с их тысячными цитатами, как нельзя больше способствует в настоящее (столь важное) время конечному притуплению и косности наших духовных голов в наших училищах, именно способствуют отсутствием в своем составе всякой светлой мысли, всякого сколько-нибудь свежего взгляда, всякой доказательности, всякой внутренней силы...”
Догматика Макария была устарелой уже при самом ее появлении в свет, она отставала и от потребностей, и от возможностей русского богословского сознания. Не могла она удовлетворить и ревнителей духовной жизни, воспитанных в аскетических понятиях или традициях. С “Добротолюбием” Макариевское богословие диссонирует не меньше, чем с философией...
Уже прямой ученик и помощник Макария в Петербургской академии, Никанор Бровкович (впоследствии архиепископ Херсонский, 1824-1890), не мог читать в том же стиле, за что и был слишком скоро удален от академической службы, ректором семинарии в Ригу. Макарий присоветовал ему записки и конспекты его лекций поскорее сжечь. Опасным показалось у Никанора как то, что он увлекался философией и слишком подробно излагал отдел о “доказательствах бытия Божия” (в частности, в связи с воззрениями Канта), так и то, что он позволял себе совершенно открыто и с большой подробностью излагать новейшие “отрицательные” теории, хотя и в целях обличения и опровержения. Никанор слишком смело, казалось, касался в своих чтениях самых “щекотливых вопросов,” разбирал Штрауса, и Бруно Бауэра, [52] и Фейербаха. Макарий же и о самом Канте только слыхивал (так утверждает Никанор). Такой характер преподавания у Никанора очень симптоматичен. По своему складу Никанор ближе к Афанасию, чем к Макарию. Это был характер жесткий и болезненный, мучительный для самого себя и для других. Он весь в противоречиях, типический представитель переходной эпохи. В замыслах своих Никанор всегда был охранителем. Филарета Московского он не любил и боялся. В Петербурге было принято в те годы “пугать Филаретом.” Благодетелем богословского просвещения и науки Никанор считал, напротив, графа Пратасова. Оказывается, что он дал “благотворный толчок к разработке богословской науки” в наших академиях, и охранял ее здесь от придирчивой цензуры. Однако, в своих богословских воззрениях Никанор очень часто близок именно к Филарету...
Никанор был человек философского склада. Много лет работал он над своей трехтомной философской системой (Положительная философия и сверхъестественное откровение, Спб., 3 тома). Этот опыт не удался ему, это только какой-то эклектический свод в духе самого расплывчатого “платонизма.” Но чувствуется подлинная пытливость мысли. Апологетикой (и спором против позитивистов [53]) Никанор занимался не случайно, он для самого себя нуждался в некоем спекулятивно-критическом “оправдании веры.” Никанору пришлось перейти через тяжелый искус сомнений, через мрак поколебленной веры, — по суду “науки” многое оказывалось не таким, каким выглядело с точки зрения ригористического православия. Перед лицом таких вопросов и соблазнов безжизненная книжность Макариевской догматики оказывалась ненужной, немощной. При видимом сходстве в формальном методе легко заметить глубокое различие между Никанором и Макарием. Из всех книг Никанора самая схоластическая — “Разбор римского учения о видимом главенстве в Церкви” (сперва статьи в “Христианском Чтении” 1852 и 1853 гг., отдельно в 1856 и 1858). Это есть анализ текстов: Новозаветных, отеческих и из историков, за первые три века. Изложение разбито на отделы, подотделы, параграфы, пункты. И, однако, все время виден и чувствуется сам исследователь, приводящий и взвешивающий аргументы и ссылки, —и мысль читателя вовлекается в сам процесс доказательства, вполне живой. Никогда у Никанора изложение не ссыхается в простой перечень, в мертвенную “цепь.” Это, конечно, прежде всего — вопрос ученого темперамента…
Ум у Никанора был резкий и решительный. Он был очень смел и в своих богословских мнениях, даже и в проповедях. В этом отношении особенно интересен ряд проповедей о Завете Божием (конца 70-х годов). Здесь Никанор очень напоминает Филарета...
Первобытный Завет заключен от века в недрах Триипостасного Божества, и уже он был не без крови (срв. Евр. гл. 9 и 10). От века уже пролита кровь Завета вечного, испита чаша беспредельного гнева, и сам крестный возглас прозвучал уже в вечности. И все совершилось: “для вечного Бога тогда же в вечности осуществлено.” Здесь, на земле и в событиях, только отражения. “Там на небе в вечности совершилась сущность творческого, искупительного, спасительного Завета.” И Пречистая Дева еще прежде век введена в пренебесный храм Божий. “Прежде века Она стала посредницей между миром, человем, воплощенным Сыном Божием и Божеством...”
Наряду с Никанором нужно назвать Иоанна Соколова (1818-1860, умер епископом Смоленским). Это был человек крутого нрава и острой мысли, “замечательно образованный, но свирепый человек.” В эпоху “великих реформ” он с неожиданной смелостью и откровенностью заговорил о христианском суде и обновлении жизни, о житейской и общественной неправде. В 1858-м году это он подсказал Шапову тему для актовой речи: “Голос древней русской церкви об улучшении быта несвободных людей...”
“Только бы не оставаться в равнодушном безмолвии среди вопиющих потребностей жизни народной, только бы нас слышали...”
Иоанн был прежде всего канонистом. “Опыт курса церковного законоведения” и остался самым крупным из его ученых трудов (два тома, 1851). То верно, что это не “система” права, но только источниковедение. “Систему” Иоанн просто не успел построить. Говорили, что рукопись систематических томов была остановлена в цензуре...
Этим не умаляется важность его книги. В первый раз по-русски были предложены древние и основоположные каноны церковные, с обстоятельным и интересным комментарием, более историческим, чем доктринальным. На канонические темы Иоанн продолжал писать и позже, продолжая свой “опыт” в отдельных статьях. Из них особенного внимания заслуживает известный его трактат “О монашестве епископов” (в “Православном Собеседнике” за 1863-ий год), составленный по поручению обер-прокурора Ахматова, в связи с толками о возможности белого епископата (хотя и безбрачного, но без монашеских обетов). Это наиболее личное из его произведений, очень яркое и властное, хотя и не очень убедительное. Филарет Московский находил это исследование Иоанна неосновательным и натянутым. Иоанн слишком расширяет и обобщает тезис, подлежащий доказательству, — он говорит о “монашестве” почти что в переносном, неформальном смысле. Всякое отречение от мира есть для него уже монашество. Обязательность такого монашества показать не трудно, но и не только для епископов, чего Иоанн не замечает. Тем яснее становится его собственная мысль: “Нужно, чтобы не только в официальном, т. сказать, учении, но и в личном мышлении епископ был выше мира,” — требуется не только плотское и душевное отречение от мира, но и отречение духовное или умственное, — свобода духа, свобода в мыслях, духовное девство...
В преподавании богословия Иоанн был очень смелым мыслителем. Экзаменовать Иоанн имел обыкновение по Макарию, и с этой книгой в руках приходил в аудиторию. Но его собственные лекции совсем не были похожи на Макариевское изложение. Это были скорее свободные беседы со слушателями, рассчитанные не на сообщение им всех нужных сведений или знаний, и не на запоминание, но только на то, чтобы пробудить их мысль и вовлечь ее в исследование и созерцание самого изучаемого предмета. Как профессор, Иоанн был почти что импрессионистом, не всегда бывал довольно сдержан и точен в своих выражениях, был слишком беспощадно остроумен. “Мистицизма” он не любил, резко отзывался о внешней обрядности, важной скоpеe для недоученных и недоразвитых. Ум у Иоанна был слишком силен и властен. Как удачно определяет его манеру один из его слушателей по Казани, Иоанн излагал на своих лекциях то, что “может естественный разум сказать сам от себя о предметах, познание о которых сообщается нам Откровением.” Это бывали всегда скорее лекции по христианской философии, чем собственно по догматике. Иоанн старался разумом придти к Откровению, а не начинал с него. Только немногие из его лекций изданы уже после его смерти, отчасти по просмотренной им беловой записи студентов. Они обращают на себя внимание свежестью и свободой мысли, изложены с замечательной ясностью и простотой. Его даже упрекали, что он слишком увлекается новизной и изяществом построений и не довольно сердечен. В философском направлении Иоанна можно, кажется, угадывать влияние его родной академии, — Иоанн был из Московской академии...
В Московской академии за это время самым значительным преподавателем догматики был Филарет Гумилевский (1805-1866, скончался в сане архиепископа Черниговского). Эта был человек исключительных дарований, с беспокойной мыслью и тревожным сердцем. В своих догматических лекциях Филарет сочетал очень умело философский анализ и историческую демонстрацию. Он не стремится внешним авторитетом пленить разум в покорное послушание вере, но старается привести его к доступной мере очевидности внутренней, — “показывать разуму, как та или другая тайна откровения, хотя не может быть выведена из начал разума, не противоречит умозрительным и практическим потребностям разума, напротив, — помогает той или другой нужде самого разума, врачует ту или другую немощь его, причиненную грехом.” Для Филарета очень характерно это всегдашнее стремление показать догмат, как истину разума. Вместе с тем, догмат показуется в истории...
Как преподаватель, Филарет производил сильное впечатление на слушателей, — этим органическим сочетанием умной пытливости и сердечной веры, прежде всего. Живой личный опыт всегда чувствуется за его богословской демонстрацией. “Вкусите и видите, — вот способ знания христианской религии,” — это значит: таинства и молитва. К богословию у Филарета было не только призвание, но подлинное влечение. Это очень оживляло его лекции. Как говорит о нем историк Московской академии “он выступил на поприще учения с новыми приемами, — с критикой источников, с филологическими соображениями, с историей догматов, с резкими опровержениями мнений, порожденных рационализмом в протестантском западе, что было занимательной новостью для его слушателей…”
В Академии это было началом новой эры. Филарет был сразу и библеистом и патрологом (много останавливался в своих лекциях на разборе мессианских текстов, с еврейского). К сожалению, преподавать Филарету удалось недолго, в молодые еще годы он был отозван для епископского служения, но и позже он продолжал писать и издавать очень много. По инициативе именно Филарета Гумилевского было предпринято при Московской академии издание творений святых отцов в русском переводе; на этом сосредоточено было преимущественное внимание всей академической корпорации, и сам печатный орган академии был назван только “прибавлениями к изданию...”
На первое место были поставлены именно великие отцы IV-го века, Афанасий и каппадокийцы, еще Ефрем Сирин. Филарет составил и учебник по патристике, издан он был только позже: Историческое учение об отцах Церкви, (1859). Для самого Филарета отеческие творения были всегда живым свидетельством Церкви, но он предостерегал от необдуманного отожествления “исторического учения об отцах” с учением о предании. Тогда пришлось бы либо все отеческие мнения принимать в достоинстве общецерковного учения, что невозможно в виду разногласий, либо искажать реальный облик отцов, отбрасывая все то в их жизни и учении, где они являлись “обыкновенными” людьми. Это последнее практически приводило бы к полному произволу. “Отцы Церкви держались предания, где было нужно, точно так же как благоговейно описывали деяния Церкви и частных лиц. Но они же размышляли о слове Божием, о предметах веры, о правилах жизни, они спорили и ораторствовали, философствовали, и были филологами, и при том даже ошибались...”
Такое понимание задач патрологии не соответствовало тем целям, ради которых Пратасов вводил в семинариях и академиях “историко-богословское учение об отцах Церкви.” Филарет не случайно опускает “богословское” в заголовке своей книги, — “историческое” должно быть дано в нетронутой полноте, а там можно будет сделать богословский вывод, и из учения отцов извлечь предание, в нем свидетельствованное...
Потому его книгу и остановили в Синоде. К тому же Филарет слишком резко отозвался о Петре Могиле и его “Исповедании...”
Расчет графа Пратасова повернуть или изменить направление русского богословского развития и работы не оправдался. Русская богословская традиция к этому времени была уже настолько жива и сильна, что надуманный и партийный план обер-прокурора разбился об это внутреннее сопротивление. С совершенной очевидностью это открывается при сличении программ и исполнения. Макариевская догматика была, до известной степени, именно программой, официальной или официозной. Но встречена она была весьма недружелюбно, — даже тогда, когда ее брали в руководство, ради собранного в ней богатого сырого материала, редко кто принимал с тем вместе и собственный метод автора. “Макариевский метод” восторжествовал только много позже, уже в 80-х годах, при Победоносцеве, когда был открыто провозглашен принцип инерции в исторической жизни, “который близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью.” Впрочем, и тогда это “торжество” оставалось только видимым...
Пратасов мог добиться удаления Филарета Московского из Саект-Петербурга и его фактического отстранения от Синодских дел. Но как характерно, что тем не менее он был принужден по всем существенным и важным вопросам спрашивать отзыв и мнение Филарета, и посылать ему на просмотр большинство своих проектов и предположений. И Филарет сохранил достаточно влияния, чтобы своим несогласием останавливать слишком ретивые начинания обер-прокурора. В Санкт-Петербургской академии Пратасову удалось завести свои порядки, водворить новый дух. В Московской оставалось все без перемен, без тех перемен на новое, которыми так увлекался Пратасов. Продолжалось преподавание философии в прежнем направлении, изучение Писания и еврейского языка. И в то время, когда по всей России производился розыск о незаконном налитографировании перевода Павского, Филарет дал Московской академической конференции официальное предложение: вменить всем преподавателям в обязанность представлять хотя бы часть их уроков в обработанном виде и литографировать, или печатать, эти записки для внутреннего употребления, с одобрения конференции и с ведома епархиального архиерея. Предложение это не имело практических последствий. Но так показательно, что в то самое время, когда вновь открытое Духовно-учебное управление стремилось остановить самостоятельную работу преподавателей, вручив им в руководство обязательную “классическую” книгу, Филарет продолжал стоять на прежней позииии Александровских уставов, что нужно более пробуждать мысль и самодеятельность учащихся, чем связывать их готовыми определениями и фразами...
В 1815-м году Филарет снова поднял библейский вопрос и внес в Святейший Синод свою известную записку “О догмагическом достоинстве и охранительном употреблении греческого седмидесяти толковников и славенского переводов Священного Писания” (напечатана она была только уже в 1858-м году, в московских “Прибавлениях”). Записка составлена очень сжато и обдуманно, — предварительно она была просмотрена Филаретом Киевским, Григорием Постниковым и Гавриилом Городковым, тогда архиепископом Рязанским...
Филарет имел в виду предотвратить неправильное пользование различными библейскими текстами. Он настаивает, прежде всего, на том, что в Ветхом Завете обязательно соотносительное пользование обоими текстами, и ни одного в отдельности не следует принимать за “самоподлинный” (т. е. аутентический), хотя начинать следует с Семидесяти. Оба текста подобает принимать “в догматическом достоинстве.” Филарет предлагал выпустить новое издание Славянской Библии, удобнейшее для частного употребления, с указанием содержания по главам и объяснительными примечаниями...
В своей записке Филарет сказал меньше, чем ему хотелось, для того, чтобы достигнуть согласия со своими друзьями, особенно с Филаретом Киевским, которые были против русского перевода, и к еврейскому тексту относились сдержанно. Убедить Филарета Киевского вряд ли можно было расчитывать. Лучше было твердо стать на приемлемом для всех минимуме...
Впоследствии, уже в 60-х годах, спор о библейских текстах снова вспыхнул с большой остротой. Это был запоздалый эпилог к спорам сороковых годов...
Но именно “записка” Филарета была принята в руководство, когда в новое царствование был возобновлен перевод Ветхого Завета...
Пратасовский плен для русского богословия не был очень долгим, хотя и оказался изнурительным. Единственная область, где Пратасов мог торжествовать победу, это — отношения государства и Церкви. Новое устройство центральных органов управления расширяло и упрочивало влияние и прямую власть Империи в делах и жизни Церкви...
12. Итоги Александровско-Николаевских преобразований в духовно-образовательной сфере.
Общую характеристику духовной школы Александровского и Николаевского времен дать далеко не просто. Об этой “дореформенной” школе было сказано и рассказано слишком много дурного и мрачного. Именно об этой школе писали Помяловский, Ростиславов, Никитин. И со свидетельством этих “обличителей” вполне совпадает и оценка такого бесспорного “охранителя,” как известный Аскоченский, В. И. Судил Аскоченский тоже скорее со “светской” точки зрения. Его смущала неотесанность “житейского бурсака,” и он брезгливо и злобно обзывает семинаристов “серой скотиной.” Аскоченский вряд ли многим отличался в мирозоззрении от Ростиславова. “Убитый характер, неразвитые понятия, опустелое сердце, склонность к грубым порокам, вот что получает в наследство юноша, попавшийся в эту инквизицию мысли и доброго непритворного чувства.” Таков безотрадный вывод Аскоченского...
И нужно признать, в этих обличениях и осуждениях много правды. В тогдашней школе было много серьезных изъянов. И главным из них была, действительно, грубость нравов...
Следует и о том помнить, что духовные школы в это время оставались в большой бедности, неустроенности и необеспеченности материальной. Даже академические профессора жили в крайней тесноте и скудости...
Процент успевающих иногда падал почти до половины, и в классных журналах все еще можно было встретить удивительные отметки о небытии в классах “по нахождению в бегах” или “по неимению одежды.” Высокие требования устава слишком часто оказывались вовсе неисполнимыми. Устав ведь требовал развивать в духовных воспитанниках не столько память, сколько разумение. Между тем, именно зубрение и становилось обычно как бы нормальным методом учения. И в преподавании преобладал формализм, риторика, условность...
Однако, все эти бесспорные недостатки в последнем счете не обессиливали творческих порывов тогдашних поколений...
И общее историко-культурное значение этих “дореформенных” духовных школ приходится признать положительным и оценивать его высоко. Ведь именно эта духовно-школьная сеть оказалась подлинным социальным базисом для всего развития и расширения русской культуры и просвещения в ХIХ-м веке. Светская школа окрепла очень не скоро, не раньше сороковых годов, — Казанская гимназия и даже Университет, как их описывал С. Т. Аксаков, были далеко позади тогдашних семинарий, не говоря уже о преобразованных Академиях. Именно “семинарист” в течение десятилетий оставался строителем русского просвещения в самых разных областях. История русской науки и учености вообще самым кровным образом связана и с духовной школой, и с духовным сословием. Достаточно пересмотреть списки русских профессоров и ученых, по любой специальности, — здесь две основых социальных категории: “семинарист” и “иностранец” (всего чаще немецкого или шведского, реже польского происхождения), и сравнительно редкие представитлели дворянства и чиновничества. И в русской академической и литературной психологии до самого последнего времени можно было распознавать явные отзвуки и следы этого духовно-школьного прошлого. Это было источником и силы, и слабости, — творческой любознательности, и беспечного максимализма. Именно первая половина прошлого века была в этом отношении решающей эпохой. В это время росли и обучались те поколения, которым пришлось действовать в середине века и позже, в эти тревожные десятилетия “эманципации” и “оскудения,” когда так быстро стала расширяться социальная база русского просвещения, когда пришел т. наз. “разночинец.” И ведь “разночинец” чаще всего и был семинарист...
В истории русского богословия, как и в истории русской философии, именно эта первая половина века была временем решительным...
Первое, что положительно бросается в глаза, это — обилие живых сил. Ряд сильных характеров, ряд ярких лиц, и отзывчивая среда вокруг вождей, ученики и последователи вокруг учителей, — так бывает обычно в эпохи с значительными темами. В ту эпоху была такая тема. В ту эпоху решался вопрос о самом бытии русского богословия. И он решен был творческим “да...” По пунктам мы можем перечесть одержанные тогда победы...
Бесспорным итогом эпохи библейских споров и страхов было лучшее и более ответственное знание Священного Писания. Именно в это время было положено крепкое основание русской библейской науки и библейского богословия. И это не было только делом простой эрудиции, или уделом немногих только. Устав 1814-го года требовал от всех учащихся читать Писание, и сама задача духовной школы здесь определялась, с характерной неточностью, так: “образование благочестивых и просвещенных служителей Слова Божия” Для чтения Писания отводились особые часы, и различалось чтение “поспешное” и чтение “медленное,” с объяснениями, причем предлагалось отмечать и разбирать “главнейшие места богословских истин” (т. наз. “sedes doctrinae”). В основу богословия полагалось именно герменевтика, — theologia hermeneutica или богословие “изъяснительное.” И, кроме того, учащиеся должны были читать Библию “сами собою.” С этим было связано и особое внимание к языкам Библии, не только к греческому, но и к еврейскому. Со времени “обратного хода,” правда, изучение еврейского языка было взято под подозрение, — не есть ли этот язык отступивших теперь иудеев орудие ереси и неологизма?...
И Священное Писание стали читать меньше. Всего больше от этого пострадало элементарное преподавание Закона Божия, — и с детьми опасались читать Евангелие. Тем не менее, библейская основа была положена прочно...
Живое чувство Божественного Откровения, — вот первый положительный итог пережитого периода. Или иначе сказать — интуиция священной истории... Не менее был важен и второй итог. В тогдашней богословской традиции смыкаются органически философское умозрение и свидетельство Откровения. Другими словами — “богословие” и “философия.” Об этом ниже будет сказано подробно...
И третий итог был даже подкреплен Пратасовской “реформой,” — это было пробуждение исторического чувства, — один из самых характерных и отличительных признаков всего русского развития в прошлом веке. Отчасти это был еще историзм XVIII-го века, — скорее археологическое любопытство к прошлому, сентиментальное переживание ушедшего времени, чувство развалин и опустошения. Но, опять-таки, уже устав 1814-го года советовал делать особое ударение на “том, что называют философией истории.” Это был совет пробуждать динамическое восприятие жизни. Новейшая философия немецкая была для этого большим подспорьем. С этим было связано пробуждение и религиозного интереса к прошлому. Иначе сказать, — чувство Предания...
Духовная школа была, при всех своих пробелах и немощах, школой классической и гуманитарной, и это была единственная связь, соединяющая русскую культуру и ученость с наследием Средневековья и Возрождения. И в этой школе достигалось все-таки твердое знание древних языков, отчасти, и еврейского. Кстати заметить, в общей школе судьба греческого языка была довольно печальной. В 1826-м году его находили излишней роскошью, но все-таки в программе оставили. В 1851-м году он был вовсе упразднен в гимназиях (кроме университетских городов, городов с греческим населением и Дерптского учебного округа), — нужно было найти часы для естественных наук. Между министром Народного просвещения кн. Ширинским- Шихматовым и товарищем министра Норовым по этому поводу вышло разногласие, хотя оба были в общем одного и того же клерикального духа. Но министр боялся, не станет ли молодежь отклоняться от христианских начал, начитавшись языческих авторов. Напротив, А. С. Норов был уверен, что греческий язык “направляет умы юношей к высокому и изящному,” отвлекает от чтения вредных и суетных книг, к тому же это и есть основной язык православно-восточной Церкви. Во всяком случае, в программу были введены отцы, от Климента Римского и до Златоуста. В 1871 году греческий был восстановлен в гимназических программах при крайне преувеличенном числе часов. В объяснительной записке особое ударение сделано на том, что знание этого языка даст возможность Евангелие, и отцов, и богослужебные каноны читать на языке оригинальном, — “вследствие чего и сама наша ученая школа станет дорога для народа.” В действительности же всего более преподавалась грамматика, и авторы читались нехристианские...
Остается отметить последний итог. В рассмотренный период начинает быстро развиваться богословское издательство. Возникают богословские журналы. Выходит немало и отдельных книг. Издаются не только учебники, и не только сборники назидательных слов или речей. Входит в обычай издавать и печатать лучшие курсовые работы, т. е. магистерские диссертации. Нужно помнить, что в тогдашней школе вообще, и в духовных школах, в частности, особое внимание уделялось именно письменным упражнениям студентов, искусству сочинять. В академиях в особенности старались развить писательский дар и уменье. Приучали и переводить: с древних языков, прежде всего, но и с новых также. В духовных школах русская мысль проходила, таким образом и через школу филологическую и литературную...
Это сделало возможным быстрое развитие учено-богословской журналистики в следующий период...
И, в общем, к 60-м годам русский богослов был уже вполне на том же историческом уровне, что и его западные современники...
Весь путь был пройден за первые полвека...
[1] ЭОЛОВА АРФА (по имени древнегреческого бога ветров Эола), музыкальный инструмент. Струны (9 — 13), настроенные в унисон и колеблемые движением воздуха, издают обертоны одного общего тона; громкость звука зависит от силы ветра. Известная с древности, распространилась в Европе в конце 18 в.
ЭОЛОВА АРФА, музыкальное орудие, в роде стоячих гуслей, на котором играет ветер; согласные звуки сами друг другу отзываются (по Далю).
[2] КОШЕЛЕВ Родион Александрович (1749-1827) — известный министр, член государственного совета.
[3] ЛАФАТЕР (Lavater) Иоганн Каспар (1741-1801), швейцарский писатель. Писал на немецком языке. Роман “Понтий Пилат, или Маленькая библия” (1782-85), драма “Абрахам и Исаак” (1776) — религиозного характера; лирические стихи. Трактат по физиогномике “Физиогномические фрагменты...” (1775-78).
[4] СЕН-МАРТЕН (Saint Martin) Луи Клод (1743-1803), французский философ-мистик. Полемизировал с просветителями; во Французской революции кон. 18 в. видел провиденциальный “суд божий”. Оказал влияние на немецкий романтизм и русское масонство.
[5] ЭККАРТСХАУЗЕН (Eckartshausen) Карл фон (1752-1803), немецкий писатель. Служил цензором Баварии. Автор многочисленных сочинений алхимического и религиозно-мистического содержания, получивших широкую известность в Германии и России.
[6] ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ (Teresa de Avila), Тереза Иисусова (1515-82), испанский мистик, монахиня-кармелитка с 1533. В 1562 ушла из монастыря и основала новую обитель, что привело в 1580 к выделению ордена т. н. босых кармелиток (а также кармелитов — см. Хуан де ла Крус). В 1960-х гг. причислена Католической церковью к учителям Церкви. Один из лучших писателей испанского “золотого века”. Основные сочинения — “Книга о моей жизни” (1562-65), “Путь к совершенству” (1583), “Внутренний замок или Обители души” (1589). Память в Католической церкви 15 октября.
[7] ТАУЛЕР (Tauler) Иоганн (ок. 1300-61), немецкий мистик, доминиканец, проповедник, ученик И. Экхарта. Оказал влияние на деятелей немецкой Реформации.
[8] ЮНГ-ШТИЛЛИНГ (Jung-Stilling) Иоганн Генрих (1740-1817), немецкий писатель, врач, представитель пиетизма. Автор романов и религиозно-мистических сочинений, популярных в Германии и др. европейских странах, в т. ч. в России.
[9] КРЮДЕНЕР Варварв-Юлия (КРИДЕНЕР, урожденная Фиттингоф), писательница, проповедница мистицизма. 1764-1825. Стихи и рассказы, записки, проповеди и дневники В.-Ю.Крюденер за 1796-1821 гг. Письма В.-Ю.Крюденер к императору Александру I, князю А.Н.Голицыну и др. Переписка В.-Ю.Крюденер с Бенжаменом Констаном, королевой Пруссии Луизой и др.
[10] ЭМПЕТАЙЗ — женевский богослов и мистик.
[11] ОБЕРЛИН, пастор, признал ответственность христианского мира за страдания, причиненные евреям.
[12] ЧЕШСКИЕ БРАТЬЯ (Община чешских братьев, также Богемские братья, в Моравии —Моравские братья), чешская религиозная секта 15-17 веков.
Движение чешских братьев возникло в середине 15 века, как реакция на поражение таборитов. Первые общины чешских братьев основали в 1547 году последователи Петра Хельчицкого. Оформившись в независимую от римского папы церковную организацию, братья (главным образом крестьяне и ремесленники) проповедовали бедность, смирение, непротивление злу насилием. Отрицая государство как источник зла, сословного и имущественного неравенство, сектанты старались избежать активной мирской деятельности.
Позднее в общину вступать зажиточные горожане, представители чешского рыцарского сословия. Чешские братья занимают более активные позиции, сосредотачивают свою деятельность на просвещении, основывают школы и топографии. Из среды братьев выходят многие ученые — Ян Благослав, Ян Амос Коменский.
Чешские братья преследовались католической церковью и габсбургскими властями, после поражения Чешского восстания 1618-1620 годов братья подверглись репрессиями. Последователи чешских братьев в 18 веке образовали гернгутерские общины, которые распространились в Германии, Прибалтике и Северной Америке.
[13] КВАКЕРЫ (от англ. quakers, букв. — трясущиеся; самоназвание — Общество друзей), члены религиозной христианской общины, основанной в сер. 17 в. в Англии. Отвергают институт священников, церковного таинства, проповедуют пацифизм, занимаются благотворительностью. Общины квакеров распространены главным образом в США, Великобритании, странах Вост. Африки.
[14] Жозеф Мари де МЕСТР (MAISTER) (1.04.1753, Шамбери, Савойя - 26.02.1821, Турин) граф, французский консервативный мыслитель, роялистский государственный деятель, публицист и религиозный философ.
Воспитан иезуитами, в 1774 окончил Туринский университет. В 1802-17 посланник сардинского короля в Петербурге, где были написаны основные сочинения: “Опыт о порождающем принципе человеческий учреждений” (Essai sur le principe generateur des constitutions politicues..., 1810), “О папе” (Du pape..., v. 1-2, 1819), “Санкт-Петербургские вечера” (Les soriees de St. Peterbourg..., v.1-2, 1821), оставшиеся незаконченными. В начале деятельности Местр рассчитывал с помощью масонства способствовать установлению объявленного религиозного миропорядка. Великую французскую революцию считал божественной карой за грехи человечества. В атиреволюционном трактате “Соображения о Франции” (Considerations sur la France..., 1796) Местр выступал против руссоистских идей общественного договора и естественной добродетели, а также рационализма вольтеровского типа. Политические воззрения Местра обусловлены его идеей о внесении в мир религиозной упорядоченности: ее пособниками и установителями он готов признать не только Бурбонов или Наполеона, но даже революционное правительство, поскольку оно отрешилось от анархии (отсюда скандально знаменитая аналогия палача как вершителя порядка). Идеально упорядоченным обществом Местр считал средневековую Европу 12-13 вв., предлагая "реставрировать" теократический конгломерат монархических государств, спаянный непосредственно духовным авторитетом папы. Как философ истории Местр - сторонник религиозного провиденциализма: божественному провидению противится злое, своевольное начало. Вместе с Л. Бональдом Местр явился идеологом европейского клерикально-монархического движения 1-й половины 19 в.
Он автор фразы “Каждый народ имеет то правительство, какое он заслуживает.”[15] ЭТАТИЗМ (от франц. etat — государство), направление общественной мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общественного развития.
[16] СИНКРЕТИЗМ (от греч. synkretismos — соединение),
1) нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления (напр., искусства на первоначальных стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга; нерасчлененность психических функций на ранних ступенях развития ребенка и т. п.).
2) Смешение, неорганическое слияние разнородных элементов, напр. различных культов и религиозных систем в поздней античности — религиозный синкретизм периода эллинизма.
[17] БЕМЕ (Bohme) Якоб (1575-1624), немецкий философ-пантеист. По профессии сапожник. Мистика и натурфилософия Беме пронизаны стихийно-диалектичекими идеями. Оказал большое влияние на немецкий романтизм.
[18] ФЕНЕЛОН (Fenelon) Франсуа (1651-1715), французский писатель, архиепископ. В философско-утопическом романе “Приключения Телемака” (1699) — идея просвещенной монархии. Дидактические трактаты.
[19] АГНОСТИЦИЗМ (от греч. agnostos — недоступный познанию), философское учение, отрицающее возможность познания объективного мира и достижимость истины; ограничивает роль науки лишь познанием явлений. Последовательный агностицизм представлен в учениях Дж. Беркли и Д. Юма.
[20] АФАЗИЯ (от a — отрицательная приставка и греч. phasis — высказывание), расстройство речи при сохранности органов речи и слуха, обусловленное поражением коры больших полушарий головного мозга. Основные формы: моторная (потеря способности говорить при сохранности понимания речи) и сенсорная (нарушается понимание речи; способность произносить слова и фразы часто сохраняется). Обычно сопровождается алексией и аграфией.
[21] СВЕДЕНБОРГ (Swedenborg) Эмануэль (1688-1772), шведский ученый и теософ-мистик. Труды по горному делу, математике, астрономии и др., ряд технических проектов. Общины последователей теософии Сведенборга существуют в различных странах, преимущественно в США и Великобритании.
[22] ЛЕССИНГ (Lessing) Готхольд Эфраим (1729-81), немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик Просвещения, основоположник немецкой классической литературы. В борьбе за демократическую национальную культуру как средство политического обновления Германии создал первую немецкую “мещанскую” драму “Мисс Сара Сампсон” (1755), просветительскую комедию “Минна фон Барнхельм” (1767). В трагедии “Эмилия Галотти” (1772) осудил социальный произвол, в драме “Натан Мудрый” (1779) выступил сторонником религиозной терпимости и гуманности. Отстаивал эстетические принципы просветительского реализма (книга “Лаокоон”, 1766; “Гамбургская драматургия”, 1767-69).
[23] ФИХТЕ (Fichte) Иоганн Готлиб (1762-1814), немецкий философ, представитель немецкой классической философии. Профессор Йенского университета (1794-99), был вынужден оставить его из-за обвинения в атеизме. В “Речах к немецкой нации” (1808) призывал немецкий народ к моральному возрождению и объединению. Профессор (1810) и первый выборный ректор Берлинского университета. Отверг кантовскую “вещь в себе”; центральное понятие “учения о науке” Фихте (цикл сочинений “Наукоучение”) — деятельность безличного всеобщего “самосознания”, “Я”, полагающего себя и свою противоположность — мир объектов, “не-Я”. Диалектика бесконечного процесса творческого самополагания “Я” в переработанном виде была воспринята Ф. В. Шеллингом и Г. В. Ф. Гегелем.
[24] ШЕФТСБЕРИ (Shaftesbury) Антони Эшли Купер (1671-1713), граф, английский философ, эстетик и моралист, представитель деизма. Развил учение о гармонии, царящей в мире и человеке, источник которой — Бог. В своих диалогах утверждал идею достоинства и внутренней свободы человека (“Моралисты”, 1709).
[25] ВЕТРИНСКИЙ (Иродион Яковлевич), воспитывался в Санкт-Петербургской духовной академии и кончил курс бакалавром в 1814 г.; затем был там же преподавателем, а с 1818 г. ординарным профессором; в 1814 - 1822 гг. преподавал историю философии, а в 1823 - 1826 гг. - философию; с 1826 г. был цензором главного цензурного комитета, а с 1834 г. — директором могилевской гимназии. Труды его: “Виргилиевой Енеиды песнь первая” (с латинского, СПб., 1820); “Надгробные слова Флешиера” (с французского, СПб., 1824); “На кончину императора Александра I” (элегия, СПб., 1825); “На кончину государыни Елисаветы Алексеевны” (СПб., 1826); “На кончину императрицы Марии Феодоровны” (СПб., 1828); “Памятники древней христианской церкви или христианские древности” (СПб., 1829 - 1845); “Русские письма о счастливой жизни по ее возрастам” (СПб., 1848); “Methaphysica” (СПб., 1821). Кроме того, Ветринский издал “Правила высшего красноречия,” графа Сперанского (с биографией автора, СПб., 1844). М. М.
[26] БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Дмитрий Николаевич (1788-1850), российский историк, археограф. Сын Н. Н. Бантыш-Каменского. Труды по истории Украины, “Словарь достопамятных людей Русской земли” (т. 1-8, 1836-47).
[27] Носителями пиетизма евангельского оттенка в начале XIX века в России были два проповедника из Германии: Иоганн ГОССНЕР и Игнатий ЛИНДЛЬ. В 1819 году Линдль приехал в Петербург, где неожиданно нашел благосклонный прием у императора и князя Голицына. Ему было разрешено проповедовать, но в Петербурге Линдль пробыл недолго; весной 1820 года он получает место в Одессе с правами католического епископа.
В Петербурге дело Линдля продолжал с 1820 года Госснер (1773-1858). Госснер был принят в совет директоров Библейского Общества и получил возможность проповедовать “Его проповеди раздавались вплоть до царского двора в Царском Селе, – пишет историк баптизма А. В. Карев, — среди его слушателей были даже министры царского правительства.”
[28] МЕТОДИСТЫ (методистская церковь), протестантская церковь, главным образом в США, Великобритании. Возникла в 18 в., отделившись от англиканской церкви, требуя последовательного, методического соблюдения религиозных предписаний. Методисты проповедуют религиозное смирение, терпение.
[29] ИЛЛЮМИНАТЫ (от лат. illuminatio — озарение, просвещение), “просвещенные”, обозначение доникейскими отцами церкви тех, кто принял христианское крещение. Крещеных называли “просвещенными” (от греч. photismoi) на том основании, что на последней стадии оглашения им сообщался и разъяснялся символ веры, в результате чего на них нисходила “просвещающая” благодать, открывающая их разумению тайну христианской веры. Климент Александрийский, рассуждая о таинстве крещения, писал, что просвещающая благодать делает человека иным, чем он был до “омовения”, и что поскольку вместе с этим просвещением, озаряющим наш ум своим сиянием, возникает знание, в тот самый момент, когда мы слышим крещальную формулу, мы из неведающих превращаемся в учеников. Согласно Клименту, это действие благодати называется просвещением, в котором мы созерцаем “святой свет спасения”, т.е. ясно видим Бога.
Впоследствии наименование “иллюминаты” (иначе – алюмбрады или аломбрады) усвоили себе последователи мистической секты, возникшей в Испании в начале 16 в., а чуть позже (между 1623 и 1635) распространившейся также и во Франции под названием геринеты. Позднее так стали называть себя члены тайного общества, основанного 1 мая 1776 профессором канонического права в Ингольштадте Адамом Вайсхауптом с целью борьбы против религии и для защиты рационализма.
[30] КВИЕТИЗМ (от лат. quietus — спокойный, безмятежный), религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному “спасению”. Возникло в 17 в. внутри католицизма, было осуждено церковными инстанциями. В переносном смысле — созерцательность, бездейственность.
[31] За то поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их: кто выйдет из них, будет растерзан; ибо умножились преступления их, усилились отступничества их.
[32] МАССИЛЬОН (Массийон) Жан Батист (1663-1742) Французский епископ, проповедник.
[33] БУРДАЛУ (Bourdaloue) Луи (1632-1704), французский священник и религиозный писатель. Книга “Проповеди” (т. 1-17, издана в 1707-34).
[34] НИКАНОР (в миру Александр Иванович Бровкович) (1827-90), русский православный философ, публицист, духовный писатель. В 1868-71 ректор Казанской духовной академии, с 1871 епископ, с 1886 архиепископ Херсонский и Одесский. Главный труд — “Позитивная философия и сверхчувственное бытие” (т. 1-3, 1875-88).
[35] ПАЛЬМЕР (Palmer) Уильям (1811-79) — англиканский архидиакон. С целью воссоединения Англиканской церкви с Восточной православной дважды посетил Россию в 1840-х гг. После неудачи этих попыток перешел в католичество (1855). Вел переписку с А. С. Хомяковым, написал книгу о патриархе Никоне.
[36] ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ (Teresa de Avila), Тереза Иисусова (1515-82), испанский мистик, монахиня-кармелитка с 1533. В 1562 ушла из монастыря и основала новую обитель, что привело в 1580 к выделению ордена т. н. босых кармелиток (а также кармелитов — см. Хуан де ла Крус). В 1960-х гг. причислена Католической церковью к учителям Церкви. Один из лучших писателей испанского “золотого века”. Основные сочинения — “Книга о моей жизни” (1562-65), “Путь к совершенству” (1583), “Внутренний замок или Обители души” (1589). Память в Католической церкви 15 октября.
[37] ГЕБРАИСТ — специалист по изучению еврейского языка.
[38] БАРОНИЙ (Baronius, Baronio) Цезарь (31 октября 1538 — 30 июня 1607, Рим), крупнейший историк католической церкви эпохи Контрреформации, член монашеской римской конгрегации ораторианцев, кардинал.
В юности изучал право в Риме, где познакомился с известным деятелем католической реформы св. Филиппо Нери. Под его влиянием Бароний избрал церковную карьеру. В 1561 стал диаконом и получил диплом юриста. До 1581 был проповедником и преподавателем истории Церкви в созданной Нери конгрегации ораторианцев — объединении клириков, соблюдавших монашеские обеты. В 1593 Бароний стал ее настоятелем. С 1597 являлся главой Ватиканской библиотеки и вскоре стал значительной фигурой Римской курии: был духовником папы Климента VIII, в 1595 избран кардиналом, а его избранию папой в 1605 помешало лишь вето Испании, чья политика в Италии была предметом его резкой критики.
Барония по праву называют “отцом церковной истории.”
В 16 в. католическая церковь была подвернута уничтожающей критике в протестантской историографии (“Магдебургские центурии”). По настоянию папы Сикста V Бароний начал работать над ответным трудом, и плодом его многолетних изысканий стали “Церковные анналы” (Annales Ecclesiastici, 1588-1617). В 12-томном сочинении освещается история Церкви до 1198. Оно принесло историку не только славу: бурная полемика с французскими и испанскими коллегами грозила закончиться судом инквизиции.
В “Церковных анналах” автор демонстрирует широкую эрудицию, строгое документальное обоснование, скрупулезный анализ источников.
[39] РУНИЧ Дмитрий Павлович (1778-1860), российский государственный деятель. С 1821 попечитель Санкт-Петербургского учебного округа. Сторонник усиления влияния религии в вузах. Добился увольнения А. И. Галича, К. И. Арсеньева, А. П. Куницына, М. А. Балугьянского и др. из Петербургского университета. Вместе с М. Л. Магницким автор проекта цензурного устава (1826). В 1826 отдан под суд за злоупотребления. Автор мемуаров.
[40] ПРОСОДИЯ (греч. prosodia — ударение, припев),
1) то же, что стихосложение или стиховедение.
2) Подраздел стиховедения — учение о метрически значимых элементах речи (слогах долгих и кратких, ударных и безударных и пр.).
[41] БААДЕР (Baader) Франц Ксавер фон (1765-1841), немецкий религиозный философ, врач, естествоиспытатель, представитель философского романтизма и неортодоксального католицизма.
[42] ЭКЛЕКТИЗМ (эклектика) (от греч. eklektikos — выбирающий), механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и т. п.; в архитектуре и изобразительном искусстве сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для зданий или художественных изделий, имеющих качественно иные смысл и назначение (использование исторических стилей в архитектуре и художественной промышленности 19 в.).
[43] МАСИЙОН (Massillon) Жан Батист (1663-1743), французский проповедник. В 1681 вступил в конгрегацию ораторианцев; епископ Клермонский (с 1717). Сохранилось ок. 100 “слов”, в т. ч. 10 наиболее замечательных — “великопостных”.
[44] БРЕННЕР (Генрих Brenner) - шведский пленник в Москве; родился в 1669 году в Вест-Ботнии; в 1697 г. провожал знаменитого Фабрициуса в Персию, но на обратном пути был задержан в Москве, как шведский подданный, и содержался там до Ништадского мира. В это время составил он на латинском языке извлечение из армянской истории Моисея Хоренского (напечатано в Стокгольме, 1725) и сочинил описание походов Петра Великого. Умер в 1732 году в Стокгольме, где был библиотекарем.
[45] ШУБЕРТ (Schubert) Готтхильф Генрих (1780-1860), немецкий писатель и мыслитель-романтик. Роман “Церковь и боги” (1804). Философские трактаты “Взгляды на ночную сторону науки о природе” (1808), “Символика сна” (1814), “История души” (1830).
[46] БУДДЕЙ Иоганн Франц (Buddeus Johann Franz, 1667-1729) редактировал Всеобщий исторический лексикон (несколько раз переиздававшийся и затем продолженный: Allgemeines historisches Lexicon, I-IV. 3 Aufl., Leipzig, 1730-1732; Fortsetzung des Allgemeinen historischen Lexici, 1-II. Leipzig, 1740).
[47] ЛАКОРДЕР (Lacordaire) Жан Батист Анри (1802-61) — французский католический проповедник и писатель, священник, член Французской академии. В 1830-32 сотрудничал в издававшемся Ф. Ламенне журнале “Будущее,” защищая свободу обучения, совести и печати. Добился восстановления во Франции ордена доминиканцев и сам стал монахом этого ордена.
[48] ОБСКУРАНТИЗМ (от лат. obscurans — затемняющий), крайне враждебное отношение к просвещению и науке; мракобесие.
[49] БАУР (Baur) Фердинанд Кристиан (1792-1860), немецкий протестантский теолог, гегельянец, основатель и глава тюбингенской школы; профессор университета в Тюбингене (с 1826).
[50] ШТРАУС (Straub) Давид Фридрих (1808-74), немецкий теолог и философ-младогегельянец. В сочинении “Жизнь Иисуса” (т. 1-2, 1835-36) отрицал достоверность Евангелий, считал Иисуса исторической личностью. В дальнейшем склонялся к пантеизму.
[51] ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ Никита Петрович [23 мая (4 июня) 1824, г. Коломна Московской губ. — 13 (25) октября 1887, Петербург], русский публицист, философ, издатель.
Сын священника П. М. Никитского. Фамилию Гиляров получил в Коломенском духовном училище (1831-38). В 1848 окончил Московскую Духовную академию (где как стипендиат митрополита Платона получил прибавление к фамилии — “Платонов”). После получения степени магистра (1850) читал в академии лекции по истории русской церкви, в которых проповедовал идеи веротерпимости и просвещенной церковности. В 1855 под давлением митрополита Филарета, усмотревшего в лекциях Гилярова-Платонова “сомнительные мысли”, был вынужден подать в отставку. В 1856 назначен цензором Московского цензурного комитета. С 1863 — управляющий Московской синодальной типографией.
С 1867 Гиляров-Платонов издавал дешевую газету “Современные известия,” в которой критиковались злоупотребления администрации, полиции и духовенства. Газета, несмотря на консервативное направление, подвергалась цензурным репрессиям и приносила убытки. Гиляров-Платонов много печатался в журналах “Русский вестник,” “Дело,” “Православный собеседник” и др.
В 1850-х гг. Гиляров-Платонов идейно сблизился со славянофилами, прежде всего с А. С. Хомяковым; их объединяло неприятие католицизма и протестантизма. Славянофильские идеи отразились в литературно-критических статьях Гилярова-Платонова (в частности, в статье “Семейная хроника и Воспоминания С. Аксакова”, 1856). Упрекая Пушкина и Лермонтова в нравственном безучастии, а Гоголя в отрицании положительного содержания русской жизни, он противопоставляет им С. Т. Аксакова. Задача художника, согласно Гилярову-Платонову, “не казнить действительность во имя идеи,” а “отыскивать блеск идеи и самой темной действительности.” Гиляров-Платонов отвергал “идею раздора,” присущую “западному уму при суждении о государстве и обществе.” В статье “Откуда нигилизм?” он определяет нигилизм как самоубийственное “возмущение озлобленной воли русского человека,” видит в нем симптом болезни общества. Основная критико-философская работа Гилярова-Платонова — “Онтология Гегеля” (М.,1846). Гегелевская философия, по его мнению, противоречит “здравому смыслу” и поэтому оставляет человека с двумя равноправными воззрениями на мир — обыденным и отвлеченно-теоретическим. Согласно оценке В. В. Розанова, в Гилярове-Платонове открывался “глубокий мыслитель, которого Россия не успела заметить.”
[52] БАУЭР (Bauer) Бруно (1809-82), немецкий философ-младогегельянец (см. Гегельянство). Критик христианства и достоверности Евангелий. Считал движущей силой истории самосознание “критических личностей.”
[53] ПОЗИТИВИЗМ (франц. positivisme, от лат. positivus — положительный), философское направление, исходящее из того, что все подлинное (позитивное) знание — совокупный результат специальных наук; наука, согласно позитивизму, не нуждается в какой-либо стоящей над ней философии. Основан в 30-х гг. 19 в. О. Контом (ввел самый термин). Различают “классический” позитивизм — Э. Литтре, И. Тэн, Э. Ренан (Франция), Дж. С. Милль, Г. Спенсер (Великобритания), В. В. Лесевич, М. М. Троицкий (Россия); эмпириокритицизм (махизм); современная форма позитивизма — неопозитивизм (см. Аналитическая философия). Оказал влияние на методологию естественных и общественных наук (особенно 2-й пол. 19 в.).
Православная беседа >> Библиотека >> Флоровский Георгий, прот. 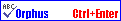
На правах рекламы: