|
|
Пути русского богословия
VII.
Историческая школа
- Общие предпосылки церковных преобразований.
- Русская духовная журналистика и подготовка общественного мнения к восприятию церковной реформы.
- Столкновение косности и мечтательности.
- Новые попытки перевода Библии на русский язык.
- Реформа духовной школы.
- Начало научного осмысления Истории Церкви.
- Исторический метод систематического богословия.
- Влияние философского кризиса 60-х годов на богословие. Феофан Затворник и Иоанн Кронштадтский.
- Религиозный кризис 60-70 годов. Лев Толстой, как зеркало русской интеллигенции.
- Эпоха Победоносцева.
- Проблематика христианской совести. Антоний Храповицкий.
- Морализм в русском богословии. Михаил Михайлович Тареев.
- Опыт антропологического построения богословской системы. Виктор Иванович Несмелов.
- Заключение.
1. Общие предпосылки церковных преобразований.Вопрос о церковных преобразованиях в “эпоху великих реформ” был поставлен одним из первых. Положительные программы очень расходились и не были ясными. Но существовавшего порядка никто уже не защищал и не оправдывал. И в требовании коренных изменений сходились люди очень разных настроений и направлений, — достаточно сопоставить имена А. Н. Муравьева, М. П. Погодина и М. Н. Каткова...
Общим было сознание “лжи церковной” и требование свободы и гласности…
Очень резко высказывался на эту тему Катков в докладной записке, поданной министру народного просвещения в 1858-м году (напечатана она была только много позже). “Нельзя без грусти видеть; как в русской мысли постепенно усиливается равнодушие к интересам религии. Это следствие тех преград, которыми хотят насильственно отделять высшие интересы от живой мысли и живого слова образованного русского общества... Где возможно повторять только казенные и стереотипные фразы, там теряется доверие к религиозному чувству, там всякий поневоле совестится выражать его, и русский писатель никогда не посмеет говорить публике тоном такого религиозного убеждения, каким могут говорить писатели других стран... Эта насильственная недоступность, в которую поставлены у нас все интересы религии и Церкви, есть главная причина того бесплодия, которым поражена русская мысль и все наше образование...”
Такой суровый отзыв были тогда готовы повторить очень многие, — славянофилы прежде других. И именно тема свободы, внешней и внутренней, становится основной во всей славянофильской публицистике 60-х годов. Еще в 1855-м году Конст. Аксаков писал в своей известной записке “о внутреннем состоянии России” о свободе. “Деятельность мысли, духовная свобода есть призвание человека... Если найдутся злонамеренные люди, которые захотят распространять вредные мысли, то найдутся люди благонамеренные, которые обличат их, уничтожат вред и тем доставят новое торжество и новую силу правде. Истина, действующая свободно, всегда довольно сильна, чтобы защитить себя и разбить в прах всякую ложь. А если истина не в силах сама защитить себя, то ее ничто защитить не может. Но не верить в победоносную силу истины — значило бы не верить в истину... Это безбожие своего рода: ибо Бог есть истина...”
К. Аксаков говорит: “истина, действующая свободно, всегда достаточно сильна.” Он подразумевает большее: только в свободе истины и есть сила...
И это требование свободы у славянофилов рождалось от твердости в вере...
Недоверие же и страх рождается в сомнении и неверии... Скепсис не может стать источником творческих вдохновений... Вся сила тогдашней эпохи была именно в этой вере, почти доверчивости или оптимизме, — какой бы наивной ни казалась эта доверчивость... И дело было тогда не в одних только настроениях или неопределенных “требованиях.” Определенные пожелания были заявлены от начала. В этом отношении очень характерны записки А. Н. Муравьева “о стеснительном положении Синодального действования” и о необходимых преобразованиях, составленные в 1856 и 1857 г.г. С ним соглашался Григорий, тогда уже митрополит Новгородский, и в особенности Иннокентий Вениаминов, тогда епископ Камчатский, а позже митрополит Московский, преемник Филарета (его назначение в Москву и приписывали внушениям Муравьева), — его переписка с Муравьевым очень интересна…
Муравьев говорил о формализме и бедности, о бюрократическом духе в архиерейском и консисторском управлении, о засилии светской власти. Необходимо восстановить свободу и соборность, самодеятельность в Церкви, — необходимо как по мотивам каноническим, так и по практическим побуждениям. Ибо связанная истина бессильна...
Филарет Московский нашел выводы Муравьева слишком резкими и поспешными. Он увидел здесь торопливое суждение стороннего человека...
Филарет меньше всего хотел защищать существовавший порядок, со многими положительными предложениями Муравьева он соглашался, в частности — о восстановлении соборного начала. Но он опасался проведения реформ сверху, с неизбежным соучастием и содействием той же светской или мирской власти, от которой и нужно было освободиться. Инициатива Муравьева, этого “русского Шатобриана” (как его называли его сверстники), не была надежным залогом подлинной церковной самодеятельности и независимости. От своей прежней службы по Синодальному ведомству, за обер-прокурорским столом, Муравьев сохранил привычку к постоянному наблюдению и прямой слежке за действиями иерархических властей и слишком навязчиво вмешивался в эти дела и действия. Страдал нередко от этой навязчивости и сам Филарет...
Строго говоря, Муравьев имел в виду только упразднение “Пратасовских захватов,” возврат от нововводных “министерских” приемов к прежним “коллегиальным” порядкам, введение обер-прокурской канцелярии в нормальные рамки. О действительной самодеятельности Церкви он и не помышлял...
Филарет же, вообще говоря, предпочитал малые дела широким планам и громким словам. И это вовсе не от чрезмерной осторожности или от недостаточного мужества...
Благонадежнее было бы постараться, в явочном порядке восстановить “совещательные сношения” епископов между собой и таким способом восстановить органическое единство нераздельного епископата, — нежели торопливо проводить преобразования законодательным порядком. “Можно предусматривать, что не без затруднения будет собирание от архиереев мнений, и действование их на соборе, отчасти только известное по актам древних соборов и совсем неизвестное многим из них на опыте.” Филарет не был уверен, что русская Церковь готова к собору. Он очень сурово оценивал создавшееся положение. “Несчастие нашего времени то, что количество погрешностей и неосторожностей, накопленное не одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства исправления...”
Для тогдашних настроений Филарета особенно показателен случай со статьей Н. П. Гилярова-Платонова “О первоначальном народном образовании,” которую и сам митрополит не усомнился одобрить к напечатанию в академическом журнале (в “Прибавлениях” 1862-го года). Это была очень острая критика сложившихся порядков, когда духовенство практически отстранено от всякого общественного действия и влияния. “Православное духовенство есть сословие, намеренно униженное, на которое само государство смотрит с презрением...”
Не удивительно, что эта статья вызвала раздражение в высоких кругах...
Спрошенный по этому поводу, Филарет признал, что статья составлена слишком резко и неосторожно. Но он подчеркивал, при этом, что для такого увлечения резкими словами у автора были достаточные поводы. И с большой откровенностью Филарет перечисляет ряд случаев, которые могут подать повод говорить о “презрении” и “унижении.” Эти оговорки только усиливают первоначальную резкость самой статьи. Победы Филарет ожидал, во всяком случае, только от прямого и творческого действия, не от запретов, — и от церковного пробуждения, не от государственной опеки. Выбор людей он считал важнее внешних преобразований...
Дальнейшее развитие событий только подтверждало опасения Филарета. Преобразовательная инициатива сверху и в либеральных формах оказывалась для Церкви опасной. И время графа Дм. А. Толстого было не легче времен Пратасовских, если только не было еще тяжелее...
2. Русская духовная журналистика и подготовка общественного мнения к восприятию церковной реформы.
Потребность в гласности становится в те годы всеобщей. И одним из самых характерных симптомов эпохи было возникновение и развитие русской духовной журналистики. Один за другим возникают по частной инициативе журналы в столицах и даже в провинции. Оживают в связи с этим и официальные академические журналы. В 1860-м году в Москве начинают выходить “Православное Обозрение” и “Душеполезное Чтение,” в Петербурге — “Странник,” в Киеве — “Руководство для сельских пастырей” (под редакцией о. П. Г. Лебединцева) и “Труды Киевской духовной академии.” В Одессе, по предположению еще Иннокентия, возобновленному Димитрием Муретовым, и в Ярославле, по мысли архиепископа Нила (Исаковича), в том же году основаны были первые “Епархиальные Ведомости,” — и данному примеру вскоре последовали и во многих других епархиях. В 1861-1864 гг. в Петербурге выходит журнал “Дух Христианина.” В 1862-м году передано было в частные руки издание “Духовной Беседы,” открытой при Петербургской семинарии еще митр. Григорием с 1857-го года. В Харькове Макарий Булгаков основал “Духовный Вестник” (с 1862). В 1863-м году было учреждено в Москве, при сочувствии и при участии Филарета, “Общество любителей духовного просвещения,” в противовес развивавшемуся тогда просвещению не духовному, но уже только с 1871-го года начало оно издавать свои “Чтения” (в особом приложении печатался русский перевод древних правил с толкованием, вместе с греческим текстом)...
Большинство открытых тогда журналов просуществовали до последней катастрофы. В их издании бывали перебои, не все издания и не всегда бывали достаточно жизненны и живы. Но никогда не оскудевал интерес читателей, не ослабевала сама потребность в чтении, каков бы ни был уровень и характер этого читательского спроса. Очень трудно дать общую и исчерпывающую характеристику этой духовной журналистики, — периодические издания всего труднее поддаются обобщающей характеристике. Можно отметить только несколько основных черт. И, прежде всего, все время чувствуется здесь эта потребность высказаться, — потребность ставить и обсуждать вопросы...
“Православие не есть утверждение мертвой веры...”
В этом отношении особенно показательно развитие журнала “Православный Собеседник,” основанного при Казанской академии еще в 1855-м году. По первоначальному замыслу и предположениям митр. Григория, тогда Казанского, это должен был быть журнал миссионерский и особенно противораскольничий. Но с назначением ректором в Казань архим. Иоанна Соколова весь план был изменен. Новый ректор захотел из академического органа создать то, что у нас принято было называть “толстым журналом,” только в строго церковном направлении. И до известной степени ему это удалось...
На академическом акте 1856-го года Иоанн говорил “О духовном просвещении в России” и развивал здесь программу сближения с обществом и народом. Церковь и духовная школа должны выйти из своего уединения и войти в мир, войти во всю эту сложность жизненных трудностей и интересов. Познание веры не может быть только привилегией клира, и жизнь по вере есть всеобщая заповедь... Иоанн хотел добиться, чтобы академии получили общественное влияние...
С очень большой смелостью и сам он, как проповедник, касался всех очередных вопросов общественной жизни, начиная от предположенного освобождения крестьян, — и другим он подсказывал и задавал такие же темы...
Это публицистическое увлечение Казанского ректора было, правда, сравнительно скоро остановлено сверху, — направление, им взятое, было Синодом признано “не соответствующим достоинству духовного журнала,” и орган Казанской академии был демонстративно передан в ведомство Московского цензурного комитета. Однако, краткость сроков нисколько не ослабляет выразительности симптома...
Сам Иоанн и в последующие годы не отступал от своих публицистических воззрений. “Церковь должна и готова тысячу раз повторять удар этого часа во все колокола, чтобы огласить все концы и углы России, чтобы пробудить все чувства русской души, и во имя христианской истины и любви призвать всех сынов отечества к участию и содействию в общем великом деле возрождения...”
Самым ярким и значительным из тогдашних журналов оказалось “Православное Обозрение” (издавалось с 1860-го по 1891-й год). Основано оно было тремя учеными священниками в Москве, — это были Н. Сергиевский, Г. П. Смирнов-Платонов, П. А. Преображенский, — к ним примыкал и четвертый, А. М. Иванцов-Платонов, [1] московский магистр, но в те годы служивший в Петербургской академии, и перешедший в Москву уже только в 1872-м году, профессором церковной истории в Университет. Задачи журнала были очень убедительно описаны в первом же объявлении об издании: “содействовать возбуждению внимания к религиозным потребностям и вопросам в русском обществе. представить опыты или, по крайней мере, заявить требование живого направления духовной науки, возможного в области православной веры, и вообще — быть органом сближения между духовенством и обществом, между духовной наукой и жизнью...”
Так с самого начала были четко выражены и поставлены темы религиозной культуры и церковно-общественного действия... Жизнь христианской истины “не ограничивается областью религиозного сознания.” Христианство, “как созидательное и животворное начало” должно обнять всю современную жизнь... И ударение переносится на общественную инициативу, на внутреннюю самодеятельность и творчество…
“Здесь по нашему разумению, прежде всего, и помимо правительственных мер, нужен для духовенства собственный подвиг нравственного самопреобразования, — нужно, чтобы духовенство в своей среде и в области своего служения глубже прониклось нравственными началами и духом общественности, — нужно, чтобы оно из своей замкнутости серьезно пробудилось к сознанию общих и высших интересов православия...”
Серьезное внимание обращено было на корреспонденцию с мест. Интересны и письма или обзоры заграничных сотрудников, священников в заграничных церквах (особо нужно отметить статьи о. К. Кустодиева из Мадрида и о. Е. Попова из Лондона)...
“Православное Обозрение” издавалось под сочувственным смотрением и охраной Филарета Московского. И он относился с доверием к основным началам этого общественно-литературного действия... Редактором писался в первые годы Н. Сергиевский, профессор богословия в Московском университете, но руководящие редакционные статьи писал обычно о. А. Иванцов-Платонов, без подписи. Впоследствии единоличным издателем и редактором стал о. П. Преображенский...
А. М. Иванцов-Платонов (1835-1894) не был богословом в собственном смысле слова, не был самостоятельным мыслителем. Он был историком по призванию и убеждению. Писал он немного, но был отличным учителем на кафедре, — и своих слушателей он вводил в метод работы и приводил их в непосредственную близость к оправдательным первоисточникам. В ряду московских университетских историков он занял влиятельное и почетное место (срв. его некрологи, составленные кн. С. Н. Трубецким и М. Корелиным). В своем историческом построении он умел сочетать духовную верность традиции с беспристрастием критической акривии...
“Не совпадают ли в существе своем начало православия с началами самой исторической науки...”
Верность преданию не столько в охранении старых форм сколько в непрерывности поступательного развития. “Православное начало в существе своем есть именно историческое начало для науки и жизни, потому что православие в истинном смысле есть ни что иное как живая история Церкви, продолжение вселенско-церковного Предания...” Вселенское не следует подменять местным...
Иванцов-Платонов был человек очень твердых и действенных убеждений. И ученая деятельность была для него религиозным призванием и потребностью, — “высший нравственный долг, дело совести, служение живому Богу...”
У него был очень силен нравственно-общественный пафос. Он верил крепко, что христианство подлежит деятельному осуществлению и в жизни общественной, не только в личной... В реформах своего времени он угадывал “пути Царствия Божия,” узнавал в них “лето Господне приятно,” наставшее в силе...
Он был близок к славянофилам, издавал сочинения Самарина и Хомякова, участвовал в изданиях Ив. Аксакова, в “Дне” и в “Руси.” Его первая напечатанная статья появилась в “Русской Беседе” за 1858-ой год: “О положительном и отрицательном направлениях в русской литературе.” Не во всем был он со славянофилами согласен, но их соединял и роднил этот дух светлой и свободной веры, этот пафос христианской свободы и христианского просвещения...
У Аксакова Иванцов и напечатал свои замечательные статьи “О русском церковном управлении,” — строгая и проницательная критика Петербургского синодального строя (“Русь” 1882 г. и отд.). Там же спорил он и с Влад. Соловьевым, после его первых статей о “христианской политике...”
И вообще, “историческое направление” было характерным для “Православного Обозрения.” По истории статей всегда бывало всего больше. И с первых же лет начато было издание “Памятников древней христианской письменности в русском переводе,” в особом приложении. Изданы были писания мужей апостольских, апологеты, “Против ересей” святого Иринея Лионского, — начат был, но остановлен, перевод апокрифических евангелий. Над этим изданием и переводами всего больше трудился о. П. Преображенский (скончался в 1893 г.). По личным своим интересам, он был философом, не историком — его самого привлекала у отцов их ищущая мысль. Одно время подымался вопрос о приглашении о. Преображенского на философскую кафедру в Московский Университет (совместно с Н. П. Гиляровым-Платоновым), — выбран был Юркевич из Киевской Академии...
При “Православном Обозрении” были изданы кроме того неканонические книги Ветхого Завета, с греческого... Замысел был тот, чтобы дать в руки и рядовому читателю сам текст памятников, а не только пересказ или толкование. И текст давался полностью, без всяких смягчений или сокращений. Это отвечало и мысли Филарета, — трудные или смущающие места у святых отцов нужно объяснять, а не пропускать...
“Если же встретится выражение, которое имеет неблаговидный смысл, надобно найти в нем существенную мысль святого отца, которая должна быть чиста, и по ней устроить перевод, верный если не букве, то идее святого отца...” Обращает внимание и многочисленность участвующих в журнале и пишущих лиц. Обычно это бывали профессора или преподаватели духовных академий и семинарий, из бывших академических воспитанников, и печатали они или свои “курсовые сочинения” (т. е. выпускные или на ученую степень), или свои “классические уроки,” иногда поучения и беседы. Таким образом, этот журнальный расцвет в 60-х годах отражал развитие духовной школы предыдущей эпохи...
Чувствуется связь и даже зависимость от западных книг. Но очень сильно сказывается и живой интерес к родной церковной действительности, в ее прошлом и в ее современности, и интерес к жизни других православных миров. Работ и статей по русской церковной истории в журналах 60-х и 70-х годов появилось исключительно много. Это связано было и с общим оживлением исторических интересов и занятий в России в те годы, с обострением исторической любознательности, с общим напряжением тогдашних общественно-исторических исканий...
Были для того и практические поводы. Вопрос о преобразованиях в церковной жизни и в самом церковном управлении был задан и поставлен совсем открыто. В частности, был очень остро поставлен вопрос с преобразовании церковного суда. Все эти вопросы обсуждались в печати, прямо или косвенно, с большим увлечением и даже горячностью. Особое возбуждение вызывали книги бывшего профессора Дм. Ив. Ростиславова и калязинского священника И. С. Беллюстина, изданные тогда за границей, в Берлине и Лейпциге. Это была желчная и не добрая критика существующих порядков, часто верная в своих фактических основаниях, но ложная и даже лживая в своей нетворческой обличительности. И вся острота обличения сосредоточена была на иерархии и на монашестве, что и придает критике такой специфический протестантский и пресвитерианский стиль. Это именно обличительство, не церковная самокритика. Идеал Беллюстина и складывался под влиянием протестанской ортодоксии и плохо понятого примера первохристианства.
Это был своего рода “протестантизм восточного обряда,” — и в то время это настроение было очень распространенным. Однако, в тогдашнем обличительстве не так интересна принципиальная сторона, сколько бытовая. В этих спорах 60-х годов вскрывается застарелая рознь различных слоев русского клира между собой, рознь т. наз. “белого” и “черного” духовенства. И под именем “черного” духовенства нужно понимать, прежде всего, т. наз. “ученое монашество,” этот своеобразный служило-педагогический орден, из членов которого, как правило, избирались кандидаты в епископы. Это было западническое включение в русскую церковно-историческую ткань, очень неудачное повторение западного примера в несоответственных условиях. Это “ученое монашество” возникает впервые на Юге в ХVII-м веке, в связи с заведением новых латинских школ. И вместе с этими школами переходит и на Север. От живых монастырских преданий это новое монашество вполне отрывается. Между монашеством “ученым” и монастырским не было взаимного понимания и рознь между ними достигала иногда трагической остроты. Восемнадцатый век был временем в особенности неблагоприятным для здорового развития монашества.
Русское “ученое монашество,” как тип, сложилось именно в обстановке этого просветительного века. В XIX веке положение несколько исправляется, но преобладающий тип остается таким, каким он уже к тому времени сложился. Среди “ученых” монахов нередко бывали истинные ревнители и подвижники. Но такими исключениями только оттеняется вся уродливость основного типа. И главный парадокс в судьбе “ученого монашества” связан с тем, что организуется оно под властью и верховенством обер-прокуpоpa. Ибо духовные школы в XIX веке оказываются под непосредственным управлением обер-прокурора, и назначение епископов остается неприкосновенной прерогативой той же светской власти. Это было не только обмирщение, но бюрократизация монашества. “Орден” создается светской властью, как средство властвовать и в Церкви. В сущности, то было только номинальное монашество, кроме видимого “образа” или одежды здесь мало оставалось монашеского. Это ученое “черное” духовенство всегда меньше было носителем аскетического начала. Обеты молчаливо преступались по невыполнимости. Монашество для “ученых” перестает быть путем послушания и подвига, становится для них путем власти, путем ко власти и чести, — во всяком случае. В середине XIX-го века “черное” духовенство было тем привиллегированным слоем клира, для которого в силу целибата был открыт и проложен путь к почестям высших званий. Рознь “белых” и “черных” начиналась в области бытовой и житейской, от самого начала уже окрашивалась и отравлялась чувствами личной обиды и несправедливого предпочтения. И в таком настроении нелегко было разглядеть действительные очертания вещей (см. об этом у Никанора Херсонского)...
Это была одна из самых зараженных и опасных ран старого русского церковно-общественного строя. И с течением времени взаимное напряжение скорее возрастает. Тема об “ученом монашестве” постоянно обсуждается, открыто или прикрыто, но с неизменным возбуждением. Несколько позже органом либерально-обличительного направления в духовной публицистике становится “Церковно-общественный вестник,” еженедельный журнал, выходивший (с 1875 г.) под редакцией А. И. Поповицкого, одно время лектора французского языка в Петербургской академии...
Всего хуже, что эта внутрисословная рознь отражалась и в собственно богословской работе, — темы выбирались часто с затаенным публицистическим замыслом, в оправдание своего или в опровержение чужого практического идеала..
Это чувствуется уже и в 60-ые годы...
С большим вниманием в это время обсуждаются и все вопросы, связанные с устроением или восстановлением приходской жизни, с открытием братств и сродных им обществ. В этом отношении особенно характерна деятельность о. А. В. Гумилевского, одного из соредакторов журнала “Дух Христианина,” организатора братства при Христорождественской церкви на Песках, в Санкт-Петербурге. Это был первый открытый опыт социально-христианской работы. Он встретил сопротивление со стороны светской администрации, опасавшейся чрезмерной активности духовенства, и широко задуманный план церковно-социально-каритативной [2] работы был смят...
Социальные темы обсуждались с особенным вниманием и в славянофильской печати, в журнале “День,” иногда и слишком смело. Кн. С. М. Трубецкой впоследствии отзывался об этих славянофильских планах “демократических” реформ в Церкви, что они “больше подходили к каким-нибудь индепендентским общинам, чем к православной Церкви.” Момент иерархический был затенен, и с чрезмерной силой был выдвинут момент самодеятельности, почти суверенности церковного народа или “мира,” хотя народ и противопоставляется не столько иерархии, сколько бюрократии. Особую остроту все эти вопросы получали по связи с освобождением крестьян и новым устроением свободных сельских обывателей...
В этих церковно-публистических спорах перспективы иногда раздвигались, иногда затуманивались пристрастиями, торопливостью, непримиримостью...
Очень своеобразное положение занял в этих спорах обер-прокурорский надзор. С 1865-го года обер-прокурором становится граф Дм. А. Толстой, [3] совмещая с Синодальной службой и должность Министра Народного просвещения, так что на много лет как бы возобновляется опыт “сугубого министерства.” Только на этот раз не в духе сверхисповедного мистицизма, но в духе сверхисповедного индифферентизма [4]...
“Главный ретроград” в общей и внутренней политике, в делах церковных Дм. Толстой был, напротив, радикалом и новатором. Человек вряд ли верующий, и вовсе не церковный, он не имел никакой склонности и сочувствия ко всем религиозным пережиткам, и не скрывал своего пренебрежения к клиру и иерархии. “Давление обер-прокурора на духовную самостоятельность Синода при графе Толстом стало окончательно установившимся порядком вещей, и одновременно обессиливало Церковь, и обезличивало ее иерархов” (отзыв кн. В. Мещерского). Толстой везде и старался прежде всего ослабить и остановить влияние Церкви и духовенства, — особенно это было очевидно в организации начального народного образования, от чего духовенство настойчиво отстранялось (срв. сокращение числа приходов, за десять лет было закрыто более 2.000 приходов!). Не менее это очевидно и в “Толстовской” реформе средней школы, которая должна была воспитывать новые поколения в духе какого-то неуловимого “классического” гуманизма, — и “Закон Божий” оказывался в числе второстепенных предметов. Но граф Толстой пытался преобразовать и саму Церковь. При нем был задуман ряд либеральных реформ во всех областях церковного строя. Самой решительной была, кажется, попытка духовно-судебных преобразований. Сразу же после издания Судебных уставов и по Синодальному ведомству был поднят вопрос, не надлежит ли и церковные суды перестроить и переобразовать “сообразно тем началам, на которых преобразована судебная часть по гражданскому, военному и морскому ведомствам.” Характерна уже сама постановка вопроса, — спрашивается собственно о том, как распространить реформу на последнее из “ведомств,” преобразованием еще не затронутое. Была образована комиссия под председательством Филофея, тогда архиепископа Тверского (умер Киевским митрополитом). Работы этой комиссии оказались бесплодны. К вопросу о судебных преобразованиях вернулись снова только через несколько лет, — в январе 1870-го года был учрежден особый Комитет о преобразовании судебной части, под председательством Макария Литовского. Очень показательно было, что этот комитет был составлен из светских и лиц белого духовенства, и кроме председательствующего, в нем не было ни одного монаха и ни одного епископа. Комитет выработал свой проект к 1873-му году. Он был разослан на отзыв к епархиальным архиереям и в епархиальные учреждения. Одновременно был издан очень острый разбор этого проекта. “О предполагаемой реформе церковного суда,” — записка эта издана была анонимно, но не было тайной, что составил ее проф. Московской академии по церковному праву, А. П. Лавров (впоследствии Алексий, архиепископ Литовский), член комитета, оставшийся в меньшинстве. Проект комитета был встречен очень неприязненно среди епископата, и архиепископ Агафангел Волынский ответил на него обстоятельным отзывом о незаконности и вреде обер-прокурорской власти (остался в рукописи). От реформы прошлось отказаться. Основная неправда комитетского проекта кроется в нецерковности исходных посылок. Вопрос ставился собственно о введении “судебных уставов” в церковную деятельность, точно не существует независимого церковного права и правосознания. В том и была вся тайная острота предположенной реформы, что молчаливо отвергалось само существование независимой церковной юрисдикции и особенно судебных полномочий. Это и было последовательно с точки зрения Петровских начал, — не совершается ли все в русской Церкви “по указу Императорского Величества?…”
То верно, что церковные суды и судопроизводство в России нуждались в коренном переустройстве. И однако, — не по прописям светского правосознания, наивно и насильственно вводимым в действие, но из начал живого канонического самосознания Церкви. Верно и то, что это самосознание не было тогда достаточно живым и чутким, — нужно было его пробудить... Но именно этого и не хотел граф Толстой. Он действовал вполне в духе Петровских начал, подчиняя Церковь во всем государственным интересам...
Особенно резко сказывалось при графе Толстом правительственное отталкивание от монашества. Монашество символически напоминало о церковной независимости и неотмирности, как бы ни было само монашество обмирщено. В эпоху Толстого был открыт широкий доступ для лиц белого духовенства к влиятельным положениям в Церкви, — именно по тому мотиву, что белое ближе к миру. К Толстовской эпохе всего ближе и относится резкое замечание Голубинского. “Порабощение членов Синода обер-прокурором есть господство барина над семинаристами: будь члены Синода из бар, имей связи в придворном обществе, и прокурор не господствовал бы над ними.” В таком соотношении социальных моментов и состоит вся острота и сила Петровской реформы. Потому и было государство до времени заинтересовано охранением сословности духовного чина...
“Мы живем в век жестокого гонения на веру и Церковь под видом коварного об них попечения,” так писал митр. Арсений еще в 1862-м году. Этот резкий отзыв был бы еще уместнее несколькими годами позже...
3. Столкновение косности и мечтательности.
Самым громким эпизодом в истории духовной журналистики 60-х годов было, конечно, известное столкновение между архимандритом о. Федором Бухаревым (1824-1871) и В. И. Аскоченским, известным издателем “Домашней Беседы” (выходила с 1850-го года), на тему “О православии в отношении к современности” (заглавие сборника статей о. Феодора, СПБ. 1860)...
Об этом трагическом эпизоде говорили много и много раз. Вряд ли, однако, смысл этого столкновения был верно разгадан. Во всяком случае, то не был богословский спор, и то не была встреча двух богословских направлений. Это был конфликт психологический, прежде всего, и конфликт очень личный...
В. И. Аскоченский (1813-1879) в молодости был бакалавром Киевской академии, по польскому языку и патрологии. Но из академической службы и вообще из “духовного ведомства” он рано вышел, — такая деятельность его не удовлетворяла вовсе. По его “дневникам” можно вполне понять причины его ухода. Он весь в протесте против монашества, против всякого аскетизма вообще. “Когда это власть анахоретов [5] перейдет в руки людей, которые знают свет и требования просвещения! Мне кажется, что покуда бородатые философы будут ораторствовать с устарелых своих кафедр, пока не истребит Господь этот нечистый дух односторонности и закоренелого беззубого квиетизма, пока не дадут воли чувству и простора уму, а, главное, пока не отнимут грозную, бестолковую ферулу [6] у этих черных гениев, которые, не в гнев им будет сказано, ужасно как близоруки, — до тех пор от нашей академии не жди добра. Все в ней будет грязно, темно, пошло, и наше просвещение через десять, а много-много через двадцать лет, станет страшным анахронизмом...”
О своем преподавании Аскоченский очень откровенно объясняет, что в аудитории он говорит совсем свободно, но к экзаменам сдает записки, невинные, как речная вода. Так прячется он “от неразумной ревности наших инквизиторов-монахов.” И прятаться, действительно, приходилось. “Что мне за надобность, думал я, пища во время оно свои лекции, до святости такого-то... Я читаю его сочинения, разбираю их, как критик, а не безответный поклонник прославленной Богом и людьми святыни. И вот причина, отчего читатель мой найдет в моих записках столько смелости и заподозрит меня, быть может, в кощунстве...”
Аскоченский не к “ученому монашеству” только относится отрицательно, но именно к самой аскезе, к постам, ко всякого рода устарелым обрядам церковным, в том числе и к чину Православия. “Ныне уже времена не те. Из разности мнений насчет того или другого догмата — нет драки: ты веришь так, а я верю иначе, — ты принимаешь это, а я нет; что же тут? Вольному воля, спасенному — рай, а драться нам не из чего и ругаться тоже...”
Аскоченский всегда был склонен к вольным мыслям. Особое влечение и интерес чувствовал он всегда к “бедному Иуде,” которого считал оклеветанным невинно...
Психологически Аскоченский всего ближе напоминает известного Ростиславова, как бы они не расходились в практических выводах. И одинаковая у них озлобленность, и какое-то злорадство в осуждениях... Аскоченского озлобили житейские неудачи, он чувствовал себя точно заеденным средой. Ему пришлось пройти почти что через нищету, семейное счастье его было дважды разбито в молодые годы. Из этих искушений он вышел жестким и желчным...
В пятидесятые годы он вступает в журналистику, как ярый охранитель. Но охранителем стал он от желчного безверия. И охранял он скорее бытовой и гражданский порядок, но не церковное предание, которого и не знал. Сложившийся порядок он отстаивал и сторожил из мрачного недоверия к людям. “Аскетического” мировоззрения вовсе и не разделял, защитником его только прикидывался. Всю действительность воспринимал он как-то мелодраматически, в игре света и теней. Вокруг он всю угадывал злонамеренных...
Тогдашняя вспышка нигилизма и радикализма, казалось, оправдывала его мрачную недоверчивость. Этим только и объясняется его литературный успех. “Домашняя Беседа” многим представлялась горьким и грубым противоядием против “радикальной” журналистики, которой тогда ведь заправляли тоже выходцы из духовного ведомства и школы. Да и сама грубость Аскоченского не так уже и удивительна в одуряющей обстановке тогдашних “полемических красот,” и всех этих “свистков образованности.” Но не следует считать его единомышленниками всех тех, кто был тогда доволен его полемикой. В этой полемике слишком многое понятно только из личного темперамента полемиста...
Аскоченский не верил в эмпирическое добро. И в архим. Феодоре его раздражала, прежде всего, уже эта благодушная доверчивость, благожелательство. Можно думать, что раздражал и сам его монашеский сан...
Считать о. Феодора Бухарева “новым человеком” никак не приходится. По своему, душевному складу он вполне принадлежал к эпохе Александровского мистицизма. Для своего времени он скорее запоздал. И в этом именно завязка его личной трагедии и срыва...
С ранней молодости Бухарев был схвачен волей к действию, у него была неодолимая потребность строить новый мир и новую жизнь. Он затем и постриг принял, “чтобы не оставаться в воинстве Христовом рядовым воином.” Монахом и священником он становился с тем, чтобы пролагать новые пути в мире, чтобы расширить поле своего возможного влияния в жизни. Он сам объяснил, что в его понимании монашество есть служение — т. е. именно действие и влияние...
Но у него совсем не было чуткости и восприимчивости к действительной жизни. Он ее мало знал и не умел узнавать. Он вовсе был неспособен к житейскому видению, именно к прямому действию и был он непригоден. У него неизбежно развивалась утопическая мечтательность, и пробуждалось упрямство визионера. Всего сильнее это в его роковой книге “Исследования Апокалипсиса.” У о. Феодора совсем не было чувства исторической перспективы, он не чувствовал исторического ритма и инерции, все сроки для него слишком сокращались. Его толкование исторических событий мало убедительно. Он совсем не был историком, он плохо знал историю, следил исторический процесс по случайным учебникам. “С Апокалипсисом и Лоренцом в руках Федор толкует судьбы мира” (слова Гилярова)...
И к его книге можно применить слова Филарета, сказанные по другому случаю о другом опыте Апокалиптических настроений: “некоторые неясные явления Апокалипсические принуждено совлекает на землю и Божественное превращает в политическое...”
Надуманного в его книге гораздо больше, чем действительно увиденного. Даже в последней обработке книга осталась бледной, — ярких страниц в ней совсем мало. И тем трагичнее тот роковой вывод, который из цензурного запрещения этой книги сделал архимандрит Феодор. Отречение от священства, сложение иноческих обетов и брак, — это никак не “героический акт исповедничества,” но именно судорога мечтательной растерянности. Это было подлинное мистическое самоубийство, особенно страшное у проповедника божественного Агнца. Это был судорожный и бессильный протест утопической грезы против трагической сложности жизни. Из монашества Бухарев уходил теперь с тем, чтобы отыскать для себя новые и лучшие пути служения и действия. И самообман был тем более трагичен, что никакого пути он не нашел, и не мог найти. Ибо просто не видел окружающего и происходящего, не умел и не хотел видеть. Именно публицистом быть он не мог. Во всем, что тогда писал он о радикальной и отрицательной журналистике, поражает это наивное невидение, это неумение схватывать конкретные очертания вещей. Потому он и не мог решить этой задачи, которой занимался всю жизнь. То была великая задача воцерковления жизни. И было несомненной заслугой о. Феодора, что эту задачу он выдвигал в своем учительстве и преподавании. Но сам он ослаблял впечатление своей проповеди. Его собственные решения смущают так часто именно этой невидящей наивностью, этой несерьезностью. Бухарев не только был утопистом, но был и очень наивным утопистом...
Сила была в его искренности. Но сама искренность слишком часто бывала преувеличенной и надрывной. У него не было духовной меры. Он всегда бывал в душевной возбужденности. “Затрудненное дыхание, перерывы голоса, необычайный блеск глаз...”
Слушателей своих он увлекал, волновал, но вести их он совсем не умел. И всегда он был только “по поводу” (срв. очень интересные “записки” о нем прот. В. Лаврского, его близкого ученика по Казани)...
Учился Бухарев в Московской академии, там же был бакалавром, потом профессором и инспектором в Казани. Из академических преподавателей всего больше обязан он был о. Ф. Голубинскому, — от него узнал о немецкой философии и теософии. Из сторонних влияний он сам отмечает статьи Белинского, из которых он тоже извлекал философские идеи, и переводил их “на иное основание,” т. е. ко Христу. Сильное на него впечатление производили книги Гоголя, особенно “Переписка.” Впоследствии на него имел сильное влияние юродивый священник о. Петр Томаницкий, в г. Угличе, — его считал он “могущественным вождем духовным.” Но всего ближе в своих взглядах был он к Филарету Московскому, что и сам всегда признавал. Основной замысел его “системы” взят именно у Филарета, все это учение о Крестной любви. И даже роковая книга об Апокалипсисе задумана была не без косвенного влияния Филарета, — Апокалипсис, это была любимая книга московского митрополита. И в общем Филарет ведь одобрил книгу Бухарева “Мерцание де света видишь...”
И он был вполне прав, настаивая, что не следует такую наивную книгу печатать...
В мировоззрении Бухарева есть подлинный размах. Но это только размах воображения. И в этом он так не похож на Филарета. Филарет умел аскетически сдерживать пылкость своего воображения и взыграние своего сердца. Отсюда такая пластичность и мерность в его созерцаниях. Именно этого не было у Бухарева. Он все понимал слишком прямо, потому и схематично. В его изображении всегда чувствуется насилие мечты над действительностью. Филарета можно назвать трагическим икономистом. Бухарев был акривист, — утопист акривии [7]...
Основным в его мировоззрении было очень яркое переживание совершившегося спасения. Грех мира взят или снят Агнцем Божиим, преграда греховности сломлена и разорена. Отсюда у Бухарева весь этот несдержанный оптимизм, радость примирения. В христианском опыте греховность теряет свое жало, сердце затоплено этим чувством искупительного милосердия Божия. Но этой милости нужно быть действительным причастником. Нужно и самому стать крестоносцем, спострадать Агнцу, сопережить и как бы вменить самому себе все чужие погрешности и заблуждения. Только через такое сострадание, только силой такой сострадающей любви и можно войти в силу Отчего благоволения и любви Агнчей. И отсюда чувство острой христианской ответственности за жизнь. Ибо для всякого и каждого дела или действия человеческого задана высшая цель, по силе непреложного Воплощения, в образе Богочеловека...
Бог Слово есть Агнец Божий, в созерцании Бухарева. Именно в Единородном и открывается вся полнота Троической любви, через него изливается в мир. От самого творения мира начинается истощание Слова, Его заколение. Ибо приемлет Он на Себя все противоречия и нестроения мирового бытия. Вся греховная жизнь мира есть непрерывное заколение Агнца. Только Его жертвенная любовь и охраняет мир. В искупительном Воплощении это истощание завершается. В смерти Крестной исполняется Агнчая жертва, и ее силой в полноте Церкви оживотворяется и весь смертный состав бытия...
Этот очерк сделан очень смело и увлекательно. И все же в нем нет достаточной конкретности. Все время только общие определения. Есть и ощутительный привкус сентиментального квиетизма. Крестоношение у Бухарева скорее в сочувственном воображении, чем в действительном подвиге. И своего подвига он не снес, от обетов отрекся, вступил в клятво-преступный брак, отрекся и от священнического долга, — и все во имя притязательного и мечтательного активизма [8]...
Творческой силы у Бухарева не было, не было у него и аскетического мужества. Именно креста своего он не понес. Отсюда его крушение. Это образ трогательный, но никак не пророческий и не героический...
Спор с Аскоченским завязался вокруг современных событий. Строго говоря, оба были не правы. Аскоченский — в своей скептической злобности, о. Феодор — в сентиментальном благодушии. Его правда была в том только, что он искал выхода и уповал, хотя за выход и принял тупик. Но Аскоченский мрачно радовался именно безысходности...
Спор Аскоченского и Бухарева, — то было столкновение косности и мечтательности... Спор мог быть решен только в других измерениях...
4. Новые попытки перевода Библии на русский язык.
При самом начале нового царствования, Филарет Московский воспользовался изменившимися обстоятельствами, чтобы продвинуть остановленное дело библейского перевода. По случаю коронации нового Государя в 1856-м году Святейший Синод, по положению, временно переносил свое присутствие в Москву, и это дало Филарету возможность, после очень долгого перерыва, вновь принять личное участие в синодских действиях. По его предложению и внушению Синод рассуждал в Москве, между прочим, и “о доставлении православному народу способа читать Священное Писание, для домашнего назидания, с удобнейшим по возможности разумением.” Предложение возобновить перевод Священного Писания было принято в Синоде единогласно, и Филарету было предоставлено изложить определение в окончательном виде...
Тем временем был назначен новый обер-прокурор, граф А. П. Толстой (интимный друг Гоголя). Человек “оптинского православия” (как его определяет Гиляров), граф Толстой не был склонен ни к каким “преобразованиям” в Церкви; к академическому образованию он вообще не был расположен, а против библейского перевода в особенности как раз перед тем незадолго был настроен в Киеве, митрополитом Филаретом Киевским. Поступивший от Филарета Московского проект состоявшегося определения обер-прокурор посчитал за его личное мнение, в Синод не вносил, а послал его в Киев, в расчете на отрицательный отзыв. Вскоре и последовал из Киева ответ резкий и очень укоризненный (эту Киевскую записку, под ближайшим руководством самого престарелого митрополита, составляли архим. Антоний и прот. И. М. Скворцов). Нового здесь было мало, сравнительно с доводами 1824-го или 1842-го годов. То же опасение “народного” языка, то же недоверие к еврейской библии, “в Церкви не известной,” тот же страх перед прежними “нечестивыми” переводами, Павского и Макария. Присоединилось еще опасение, не вздумал бы кто после Священного Писания заговорить и о переводе богослужебных книг...
Русский язык по выразительности своей и сравниться со славянским не может, потому лучше было бы заняться исправлением самого славянского текста. Полезно издавать толкования, выбранные из святых отцов. Вместе с тем следует усилить преподавание славянского языка во всех школах вообще, духовных и светских, чтобы отнять повод незнанием славянского языка оправдывать нужду в русском переводе...
Решаться на новый перевод никак невозможно “без соглашения с греческой церковью,” которая не допускает у себя переложения Библии на простонародный новогреческий язык. Не возникнет ли мысль, что русская Церковь отступается от древнего наследия Первоучителей Словенских?..
И само дело исправления славянской Библии надежнее поручить не академическим профессорам, а скорее лицам, “совершенно свободным от учебных занятий” и “благонадежным не только по образованию, а наипаче по благочестию...”
Идея русского перевода родилась из мутного источника. “Эта мысль родилась отнюдь не в церкви русской, ни в иерархии, ни в народе, а точно также, как и мысль о переводе на новогреческий язык, в Англии, гнездилище всех ересей, сект и революций, и перенесена оттуда Библейскими Обществами, и принята, первоначально не в Святейшем Синоде, а в канцелярии обер-прокурора оного, и развита в огромных размерах в бывшем министерстве духовных дел. Такое начинание, а равно и последствия сего дела, ясно показывают, что на нем не было благословения свыше...”
В заключение Киевский митрополит вверял все это тревожное дело “благоразумию” обер-прокурора, в надежде, что “державное слово” Государя остановит все это неблагонадежное начинание. Однако, Государь указал спросить заключение Московского владыки, а затем весь материал обсудить в Синоде...
Филарет Московский ответил на Киевскую записку решительно и спокойно, но не без горечи...
И уже только после смерти Киевского митрополита (в декабре 1857 года) библейское дело получило официальное движение. Синодальное определение состоялось 24 января — 20 марта 1858 года, и Высочайшее повеление о возобновлении русского перевода было опубликовано в мае. Вслед затем Филарет Московский сдал в печать свою “записку” 1845-го года, как бы в напутствие новому делу...
Перевод был возобновлен с Нового Завета, к участию в работах снова были привлечены все академии, а редактирование поручено петербургскому профессору Е. И. Ловягину. Высшее наблюдение и последний просмотр были доверены Филарету. Несмотря на свой преклонный возраст, он очень деятельно участвовал в работе, со вниманием перечитывая и проверяя весь материал...
В 1860-м году было издано русское Четвероевангелие, а в 1862-м и полный Новый Завет...
Перевод Ветхого Завета потребовал больше времени. Уже с самого начала 60-х годов в различных духовных журналах стали появляться частные опыты перевода отдельных книг. И, прежде всего, были опубликованы эти так незадолго перед тем запретные переводы Павского (в журнале “Дух Христианина” за 1862 и 1863 годы) и арх. Макария (в “Православном Обозрении” с 1860-го по 1867-ой, особым приложением). Это был очень живой и яркий симптом сдвига и поворота. Было признано полезным и нужным предать гласности эти опыты, чтобы через свободное обсуждение в печати подготовить окончательное издание. С этой целью было предложено и профессорам академии заняться переводами отдельных книг, с тем чтобы эти новые опыты были в свое время использованы Синодальной комиссией. Нечто подобное предлагал в свое время о. Макарий Глухарев, — издавать при Петербургской Акадмии особый журнал: “Опыты в переводе с еврейского и греческого,” и рассылать по академиям и семинариям, с примечаниями и сносками, — потом этот материал пригодится...
В академических изданиях, в “Христианском Чтении” и в “Трудах Киевской духовной академии,” в эти годы и появляется перевод многих книг. В Киеве особенно потрудился проф. М. С. Гуляев, в Петербурге проф. М. А. Голубев, в сотрудничестве с П. И. Савваитовым, Д. А. Хвольсоном и др. Появились и отдельные издания. Издавал свои переводы библейские и Порфирий Успенский, тогда епископ Чигиринский (с греческого). Это был полный разрыв с режимом предыдущего царствования...
Но встретились и трудности. И не сразу удалось решить вопрос о принципах перевода. Было заявлено мнение, что и Ветхий Завет переводить нужно с греческого, — к этому мнению удалось склонить и митр. Григория. Филарет Московский настоял, чтобы перевод делался по сличению обоих текстов, и расхождение в важнейших местах было отмечаемо под чертой. Сперва предположено было начать с Псалтыри, и над исправлением перевода Псалтыри сам Филарет работал в свои последние годы. Но затем и сам он предложил издавать в порядке обычного текста, т. к. Пятокнижие легче Псалтыри и по языку. Синодальный перевод начал выходить с 1868-го года, отдельными томами, и все издание закончилось в 1875-ом (со включением и книг “неканонических”)...
Синодальное издание не всеми было принято благожелательно. Смутило расхождение с привычным славянским текстом, — иначе сказать, предпочтение, отданное еврейской Библии. Это многим казалось прямым отступлением от Предания...
Основные доводы в защиту Семидесяти приводились обычно от Икономоса. За перевод с греческого стоял даже Димитрий Муретов, ради единства с современными греками. Если же сносить и соображать еврейский текст и греческий, думал он, “будет не перевод, а сочинение...”
Особенно резким противником еврейского текста был епископ Феофан Говоров, тогда уже Вышенский затворник. Новый русский перевод Ветхого Завета он называл Синодальным сочинением, совсем как Афанасий, и мечтал, что эту “Библию новомодную доведет до сожжения на Исаакиевской площади.” Употребление еврейского текста, никогда не бывшего в церковном употреблении, означало в его понимании прямое отступничество. “Еврейская библия к нам нейдет, потому что никогда не было ее в Церкви и в церковном употреблении. Поэтому принимать ее значит отступать от того, что всегда было в Церкви, т. е. сдвигаться с коренного основания православия.” Феофан вполне признавал нужду в русском переводе, он возражал только против еврейского образца. И синодальный перевод считал поэтому соблазнительным и вредным. “Церковь Божия не знала другого слова Божия, кроме 70 толковников, и когда говорила, что Писание богодухновенно, разумела Писание именно в этом переводе.” Об этом он очень резко писал в “Душеполезном Чтении” (1875 и 1876), ему отвечал в “Православном Обозрении” проф. П. И. Горский-Платонов с неменьшей резкостью. Но Феофан не ограничивался критикой. Он предлагал заняться изданием общедоступных толкований Библии по славянскому тексту (и особенно книг учительных и пророческих), чтобы приучить именно к этому тексту, т. е. к Семидесяти. “Выйдет, что, несмотря на существование библии в переводе с еврейского, знать ее и понимать и читать все будут по Семидесяти, по причине сего толкования.” Проект этот не был осуществлен, сам Феофан издал только толкование на Псалом Сто Осмьнадцатый (сто восемнадцатый). Возникла у него и мысль сесть за перевод всей Библии с греческого, “с замечаниями в оправдание греческого текста и в осуждение еврейского.” Это намерение осталось тоже без исполнения...
Уже только много позже некоторые книги Ветхого Завета были переведены с греческого казанским профессором П. А. Юнгеровым (пророки, Псалтирь, Притчи, Бытие, книги неканонические)...
Тревоги Феофана относятся уже к 70-м годам. Характерно, что весь спор идет теперь совсем открыто, без всякого покрова административных тайн, — в периодической печати, а не в секретных комитетах, как прежде...
И в процессе работы над переводом Ветхого Завета снова и снова открывалось, что соотношение масоретской редакции и Семидесяти слишком сложно, чтобы можно было ставить вопрос о выборе между ними в общем виде. Можно спрашивать только о предпочтительном или надежном чтении отдельных отрывков или стихов, и приходится “выбирать” иногда “еврейскую истину,” иногда же греческое чтение. Филологически “лучшим” будет именно сводный текст. Богословскому заключению о “догматическом” достоинстве определенного текста, во всяком случае, должно предшествовать подробное исследование отдельных книг. Примером такой работы в те годы была диссертация И. С. Якимова о книге пророка Иеремии (1874). Следует упомянуть и работы Д. А. Хвольсона и И. А. Олесницкого...
Обнаруживалась и другая трудность. Оказывалось, что и “Славянскую Библию” не приходится в целом приравнивать к Семидесяти, что и сам славянский текст есть уже сводный, в известном смысле и пределах. В этом и была принципиальная важность описания библейских рукописей Горским и Невоструевым в Московской Синодальной библиотеке. Начинается историческое изучение Славянской Библии. И уже нельзя так упрощенно спрашивать “о выборе” между славянским и русским...
Оживает интерес и к вопросам библейской критики. Большинство русских исследователей придерживались “умеренных” или “посредствующих” взглядов, но и у них влияние западной критической литературы сказывалось очень заметно. Достаточно назвать работы архим. Филарета Филаретова (ректора Киевской академии, впоследствии епископа Рижского, 1824-1882). В диссертации о “Происхождении книги Иова” (1872) он не только принимал позднюю послепленную датировку книги, но и разбирал ее скорее, как памятник литературы, нежели как книгу священного канона. К тому же все исследование было проведено по еврейскому тексту, безо всякого внимания к славянским чтениям. Это показалось неосторожным. Митр. Арсений Киевский нашел сам “тон диссертации” несоответствующим богодухновенному характеру библейской книги, и публичная защита диссертации была запрещена Святейшим Синодом. А в следующем (1873) году в “Трудах Киевской Академии” были напечатаны устаревшие лекции по “введению в священные книги Ветхого Завета,” читанные самим митр. Арсением в Петербургской академии еще в 1823-1825 годах. Впрочем, в кратком предисловии “от редакции” было оговорено, что читатель сам сможет судить, “насколько вперед подвинулись у нас библиологическая наука с того времени до настоящего...”
Другим видным представителем нового русского библеизма был И.А. Олесницкий (1842-1907). Это был ученый с очень широким кругозором, сразу и археолог, и гебраист, и богослов; и за долгие годы своего преподавания в Киевской академии он успел здесь создать традицию библейских работ. Всего больше его интересовала история библейской литературы и поэзии (срв. его исследования о книге Притч и о Песни Песней, о ритмах и метре библейской поэзии, о древнееврейской музыке). Не раз Олесницкий бывал в Палестине для изучения вещественных памятников библейской истории и плодом этих его археологических изысканий явилась его обширная книга о “Ветхозаветном храме в Иерусалиме” (1889)...
Из Петербургских библеистов нужно назвать еще о. Н. Вишнякова и Ф. Г. Елеонского...
Настольной книгой у русских библеистов становится в это время известное “введение” К.Ф. Кейля, в Киевской академии его перевели по-русски (в “Трудах” с 1871 г.). Такие представители ортодоксального протестантизма, как Генгетенберг или Геферник, привлекали многих своим мессианским или “христологическим” толкованием Ветхого Завета. Это было своего рода философия библейской истории, как евангельского приготовления. “В русской богословской литературе утверждаются до значительной степени и почти становятся традиционными многие исагогические и экзегетические воззрения, прикрываемые обыкновенно авторитетом великих отцов и учителей Церкви, на самом же деле представляющие помесь протестантской ортодоксии с средневековым иудейством” (А. А. Жданов)...
Очень немногое было сделано в те годы по изучению Нового Завета. Преобладал апологетический интерес. Чувствовалась нужда и потребность ответить на “возражения т. наз. отрицательной критики,” Штрауса и “тюбининской школы,” и особенно Ренана. [9] Нужно назвать здесь имя епископа Михаила Лузина (1830-1887), бывшего профессором в Московской академии, потом ректором в Киевской и епископом Курским. Он много писал. Правда, его книги были обычно только торопливая, хотя и старательная, компиляция, почти пересказ и даже просто перевод немногих иностранных книжек, не всегда удачно выбранных, и часто неверно понятых. Но этим не уничтожалось их положительное влияние. Было и то важно, что архим. Михаил отвечал на “отрицание,” а не умалчивал. В его темах всегда была добрая современность (срв. его книгу “О Евангелиях и евангельской истории,” по поводу книги Ренана). Как академический преподаватель, он внушал своим слушателям любовь к научному чтению и занятиям, стараясь их вовлечь в ученую работу, приучал разбираться в критической проблематике, хотя бы и при чужом пособии. Это был искренний ревнитель духовного просвещения, и этот благородный пафос он умел передать своим ученикам...
С конца 50-х годов открыто обсуждается и вопрос о преобразовании духовных школ. Пример подан был из Министерства народного просвещения. Педагогическая тема была остро поставлена тогда и в общей печати, в связи с известной книгой Пирогова “Вопросы жизни” (1856). Заговорили громко и о темных сторонах духовной школы...
В Синодальном ведомстве дело велось с методической медлительностью и оставалось в руках обер-прокурорского надзора. Общественное и общее мнение требовало и ожидало преобразований по воспитательной части, во всяком случае. С 1857-го года Духовно-Учебное Управление начинает собирать отзывы и мнения у сведущих и у начальствующих лиц. В том же году отправляется во Францию обер-прокурорский чиновник с полуофициальным поручением познакомиться с устройством и бытом тамошних римско-католических семинарий. Собирали сведения о богословских школах и в Англии. Справлялись и о том, “как воспитывается и чему обучается на Востоке юношество, приготовляющееся к служению Православной Церкви...”
Сам Государь, во время своей поездки по России в 1858-м году, побывал в нескольких семинариях. И в следующем году, по Высочайшему повелению, была назначена экстренная ревизия духовно-учебных заведений. Ревизовать был послан директор Духовно-Учебного Управления, князь С. Н. Урусов. Он должен был определить, в какой мере реформа необходима. Урусов осмотрел одиннадцать епархий и закончил свое обозрение только уже в 1861-м году. Особенно неудовлетворительной нашел он часть воспитательную, — бедность, скудость средств, слабость надзора, отсутствие нравственных связей. Но и учебные планы оказались очень непрактичными и неудачными. Требовалась коренная реформа...
Еще раньше, в начале 1860-го года, был образован при Синоде особый комитет для рассмотрения поступавших с мест отзывов и материалов, под председательством Димитрия Муретова, тогда архиепископа Херсонского. В этот комитет был передан и отчет Урусова. Комитет должен был сообразить все представленные отзывы и разработать план преобразовений...
Архиепископ Димитрий сразу же многих удивил и смутил решительностью своих предложений. В его плане перекрещиваются двоякие мотивы. С одной стороны он считал необходимым сохранить всю существующую сеть школ, но с тем, чтобы перестроить их в общеобразовательные гимназии духовного ведомства и приравнять по программам и правам к обычным гимназиям. Духовенство сохранит прежнюю удобность воспитывать и учить своих детей, но воспитанникам этой сословной школы не будет ни закрыт, ни даже затруднен выход в другие состояния. По разным мотивам, этой свободы “выхода из духовного звания” желали сами учащиеся, и многие представители церковной власти. Филарет Московский был против всяких стеснений и запретов. “Невольник не богомольник. И к чему это порабощать свободных, когда и несвободным дают свободу…”
С другой стороны, арх. Димитрий считал нужным совершенно перестроить богословские классы существующих семинарий в особые пастырские школы. Для них он удерживал прежнее имя “семинарий,” но имел в виду всего скорее римские семинарии. Сюда следовало допускать людей уже сложившихся, с установившимся призванием, — из духовных гимназий в семинарии должны переходить только желающие, по своей доброй воле. Новые семинарии должны были быть учебными заведениями закрытыми, с очень строгим аскетическим и богослужебным режимом. Арх. Димитрия всего больше смущала внутренняя неприготовленность и нетвердость духовенства в исполнении все усложнявшихся задач пастырского служения. Нужно было поднять дух и усилить ревность. В семинарии следует допускать желающих и из других состояний...
Строго говоря, план Димитрия Херсонского означал молчаливое упразднение сословности духовенства. И при последовательном проведении в жизнь этот план в короткое время должен был привести к разложению всей существующей церковно-политической системы, к освобождению Церкви от государства, от его опеки и власти. Трудно сказать, насколько это предвидел и насколько того сознательно добивался сам архиепископ Димитрий. Но его противники сразу почувствовали, что этот план связан с какими-то решительными переменами во всей церковной жизни. И казалось опасным так решительно ломать исторически сложившейся и привычный тип смешанной школы. Такого мнения был и Филарет Московский, которого в комитете представлял Горский. Главная слабость нового предположения была, конечно, в том, что финансировать его оказывалось очень нелегким. Государство к новым тратам и ассигновкам вовсе не было расположено. В возможности увеличить местные средства твердой уверенности не было. И к тому же передача духовных школ на местное обеспечивание тем самым означала бы ослабление центральной власти Учебного Управления, т. е. и всего обер-прокурорского надзора, всей бюрократической системы Синодального ведомства...
В основном, план арх. Димитрия был все-таки одобрен и принят большинством комитета. Светские члены остались при особом мнении. Тертий Филиппов, секретарь комитета, в особенности предостерегал против аскетической односторонности, которая его смущала в плане новых “семинарий.” Он предпочитал вернуться к широким и гуманистическим принципам старого устава 1814-го года...
Комитет несколько изменил план своего председателя. Решено было сохранить единую школу, но с тем, чтобы богословские предметы были выделены и сосредоточены в одном высшем цикле. Это было в духе старой школьной системы. Общий двенадцатилетний курс был так построен, что первые восемь классов приводились в соответствие с планами общей школы. Богословские предметы были отнесены преимущественно к высшей ступени, на последние четыре года...
С мест высказывались пожелания, чтобы древние языки были превращены в необязательный предмет, оставлены в программах только для тех, кто имеет в виду продолжать образование в высшей школе. Нужны ли они для сельского духовенства? Комитет не признал возможным снижать общий образовательный уровень духовной школы. Греческий, как язык Священного Писания и святых отцов, тесно связанный к тому же и со славянским, должен остаться в семинарском курсе в неприкосновенности. Латинский же должен быть удержан, как язык классический. Комитет предполагал сделать обязательным еврейский. Сокращен был только курс наук математических. Преподавание философии было восстановлено в полной мере...
Работы комитета были переданы на рассмотрение и отзыв епархиальных преосвященных, академических конференций и отдельных сведущих лиц. Поступали эти новые отзывы с большим запозданием, уже в 1864 и 1865 гг. Тем временем вопрос о школьных реформах обсуждался в периодической печати. В 1862-м году вышла известная книга Ростиславова “О состоянии духовных училищ в России,” печатанная в Лейпциге. Книга эта вызвала большое возбуждение и к свободному обращению в России допущена не была...
Только с назначением в Синодальные обер-прокуроры графа Дм. А. Толстого, в 1865-м году, вопрос о школьных преобразованиях был сдвинут дальше. Это решающее влияние государственной инициативы очень характерно. То была скорее государственная, чем церковная реформа. То государство реформировало свою школу “духовного ведомства...”
Новому обер-прокурору удалось наперед обеспечить значительное увеличение правительственной ассигновки. Удалось отыскать новые средства и на местах. И в 1866-м году был учрежден новый комитет для разработки духовно-школьных уставов, под номинальным председательством Киевского митрополита Арсения. Обыкновенно же председательствовал в комитете Нектарий, тогда епископ Нижегородский, присутствовавший в Синоде, бывший перед тем ректором Санкт-Петербургской академии. В состав комитета были введены снова и светские члены, представители других ведомств...
Комитет почти без споров решил оставить общую схему старых уставов 1814-го года без изменений. Духовные училища оставлялись в качестве приготовительной ступени, и семинарии по-прежнему должны были быть школой общеобразовательной с богословскими предметами. План арх. Димитрия был оставлен без всякого применения...
К нему возвращались только “два архимандрита” в своем особом мнении, — Филарет Филаретов, ректор Киевской академии, и Михаил Лузин, инспектор Московской академии. Разделением школы образовательной и пастырской архимандриты рассчитывали обойти слишком суровое ограничение числа казенных воспитанников или стипендиатов в единой школе, что должно было очень затруднить духовенство в воспитании их детей...
При составлении окончательного проекта устава “два архимандрита” подали свой параллельный проект. В их мотивировке повторяются все основные доводы арх. Димитрия. Предлагали они ввести семиклассные гимназии с классическим курсом и трехгодичные несословные пастырские семинарии. Предложение “двух архимандритов” было отвергнуто комитетом. Казалось опасным обособлять богословскую степень. Многих ли такая обособленная богословская школа к себе привлечет? В гимназиях же ослабеет церковность, если слишком широко откроется доступ к светским состояниям. Впрочем, под влиянием протеста архимандритов, и в общекомитетском проекте устава было строже проведено разграничение богословских и общих предметов, и после окончания общих ступеней предоставлялась возможность выхода желающим. Еще в 1863-м году семинаристам был открыт доступ в университеты (закрыт был в 1879-м году по мотивам общеполитическим). Следует отметить, что при обсуждении предположений комитета 1860-го года Макарий Булгаков, тогда архиепископ Харьковский, решительно высказывался за разделение двух типов школ. Он даже предлагал передать предположенные духовные гимназии в общее ведение с тем, чтобы содержались они на государственный счет, но преподаватели в них определялись из духовных академий и епархиальный архиерей оставался почетным блюстителем. Только богословские училища подобает содержать на церковный счет. В духовных гимназиях следует возможно приблизиться к светским, чтобы устранить рознь и предубеждения, и даже начальствующих лиц следует определять из светских, однако — с академическим образованием. Кроме того, Макарий считал нужным расширить власть педагогических советов и ограничить власть начальников...
По проекту большинства новые уставы были приняты Синодом и утверждены Высочайшей властью в мае 1867-го года. В общем удержана была схема 1814-го года. Характерным было, однако, разрешение принимать в высший богословский класс и желающих со стороны, окончивших среднюю школу, по испытании в богословских предметах за предыдущее классы семинарии. Кроме того, в этот богословский класс допускались и слушатели из людей зрелого возраста, имеющих значительную церковную начитанность, по личному усмотрению епархиального архиерея. И то, и другое было предложено обер-прокурором. Это был бледный намек на независимость богословской школы...
Из общих перемен в постановке школьного дела особенно важным было широкое применение выборного и совещательного начала. Должность ректора в семинариях становилась выборной, избирало правление семинарии, но кандидатов намечало общее педагогическое собрание, — епархиальный архиерей представлял избранных кандидатов в Синод, мог предложить при этом и своего кандидата, — Синод был волен утвердить одного из избранных или назначить своего кандидата. В большинстве семинарий были избраны в ректора лица белого духовенства или даже миряне, изъявившие согласие принять священный сан. Избирательной стала и должность инспектора. Преподавательской корпорации было предоставлено широкое участие в управлении семинарией. Это было особенно чувствительным отступлением от прежней системы. Очень важным было и то, что к активному участию в жизни духовных школ теперь привлекалось и само духовенство, в лице своих депутатов, введенных в состав семинарских правлений. Духовные училища и вообще поручались ближайшему попечению местного духовенства. Это связано было, прежде всего, с тем, что духовенство привлекалось к материальному обеспечению школ из местных средств. Естественно было дать ему и возможность наблюдения. Именно ради организации сословной денежной самопомощи и были с 1867-го года организованы “епархиальные съезды” или собрания духовенства...
Все эти новшества на деле не всегда применялись вполне свободно, и многие из них бывали отменяемы гласно или негласно. Да и весь школьный режим был серьезно изменен уже в 1884-м году, так что уставы “шестидесятых годов” были в действии не более пятнадцати лет. Во всяком случае, то был шаг навстречу жизни...
Вслед за утверждением новых уставов, по предложению обер-прокурора, было упразднено Духовно-Учебное Управление и вместо него открыт Учебный Комитет при Святейшем Синоде. Председателем комитета был назначен известный Парижский посольский протоиерей, о. Иосиф Васильев. Учебный Комитет подчинялся Синоду, но характерно, что писать в Комитет нужно было на имя обер-прокурора. В сущности, духовные школы по-прежнему оставались в главном ведении самого обер-прокурора. Эта зависимость даже усилилась, ибо была ослаблена связь семинарий с духовными академиями, хотя академиям и было предоставлено новое право испытывать (“пробными уроками”) и рекомендовать кандидатов на школьные должности, — на практике это создавало необычайную путаницу и волокиту. Влияние государственной власти в духовных школах стало особенно очевидно с развитием в Учебном Комитете института членов-ревизоров, всегда из светских чиновников, хотя бы и с академическим образованием и духовного звания по рождению, представлявших собственно лицо обер-прокурора (подобно секретарям духовных консисторий)...
Уже только после утверждения общих духовно-школьных уставов был двинут и вопрос о реформе духовных академий. В 1867-м году были спрошены и представлены заключения академических конференций. Сразу же была образована комиссия под председательством Нектария, из членов духовных и светских, и в 1858-м году она уже представила свой проект нового устава. Проект был сразу же опубликован “для всеобщего обсуждения.” Синод просил представить свои заключения о проекте преосвященных академических городов, а также преосвященных Макария Литовского, Евсевия Могилевского, Леонтия тогда Подольского. В 1869-м году проект был еще раз пересмотрен комиссией в расширенном составе и внесен в Синод. Устав получил Высочайшее утверждение 30 мая 1869 г. С осени же было решено преобразовать академии Санкт-Петербургскую и Киевскую, и в следующем году — Московскую и Казанскую...
И по новому уставу Духовным Академиям ставилась двоякая задача. Это должна была быть не только богословская высшая школа, но еще и своего рода педагогический институт духовного ведомства. И в Академиях не столько готовили к пастырству, сколько именно к педагогической деятельности. Отсюда неизбежная многопредметность и разбросанность. Иные предметы только затем и преподавались, чтобы по ним приготовить преподавателей для школ низших ступеней. Многопредметность в учебном курсе новый устав стремился ослабить путем разделения на “факультеты” или отделения, так что только некоторые предметы оставались для всех обязательными, а большинство распределялось по группам. Таких “отделений” было создано в конце концов три, — богословское, церковно-историческое, церковно-практическое. Во главе каждого был поставлен особый помощник ректора. Групповым распределением предметов новый устав предполагал облегчить основательное изучение избранных предметов. Но цельность богословского образования этим все же разбивалась...
Очень характерным нововведением было и положение об ученых степенях. На третьем курсе писалось окончательное сочинение и сдавались общие испытания. Только лучшие из выдержавших испытание оставлялись и на четвертый год. Получившие в среднем выводе ниже 4½ выпускались сразу же со званием “действительного студента.” На четвертом курсе студенты занимались только немногими специальными предметами, приготовлялись к испытанию на степень магистра и обрабатывали для того диссертацию, и, кроме того, слушали лекции по педагогике с практическими упражнениями. При окончании четвертого курса сдавался магистерский экзамен. Для получения магистерской степени требовалось представление печатной диссертации и ее публичная защита. Это был решительный и очень важный шаг к публичности и гласности академического преподавания и богословской работы вообще. Имелось в виду действовать против распространенного предрассудка об отсталости академической науки и вступить в возможное общение с наукой университетской. Гласность казалась лучшим средством борьбы с ложными мнениями и удобнейшим способом внушения мнений здравых. В конце 50-х годов в Петербургской академии даже возникала мысль сделать академическое преподавание вообще открытым и публичным, как в Университете, или устраивать при академии публичные чтения по богословским наукам. Митр. Григорий входил об этом с представлением в Синод. Представление это осталось без всякого движения и десять лет спустя было сдано в комиссию арх. Нектария. Казалось, не уместнее ли действовать против неверия проповедью, а не учеными лекциями...
По новому уставу от ординарного профессора требовалась докторская степень, степень доктора должен был иметь и ректор. Наличным ординарным профессорам было предложено приобрести степень доктора в трехлетний срок, или выйти из академии...
Для получения докторской степени нужно было представить и публично защитить печатную диссертацию...
Важным изменением в постановке ученой части было и ограничение срока профессорской службы, — по истечении двадцатипятилетнего срока полагалась новая баллотировка, допускалось дополнительное переизбрание и еще на пять лет, но никак не долее 35-летнего срока. Имелось в виду обновление личного состава. Для приготовления к преподаванию открывался при академиях институт приват-доцентов, — к чтению частных лекций допускались магистры и даже кандидаты, но по представлении диссертации pro venia legendi (так было тогда и в университетах)...
Первоначально предполагалось образовать особое философское отделение с тем, чтобы академиям было предоставлено право присуждать ученые степени и по философии. Это предложение было тем более уместно, что в университетах философские кафедры были заняты в это время именно академическими магистрами или кандидатами. Однако, оно было отвергнуто, чтобы не нарушать единообразия школы богословской, и философские предметы отнесены были к числу общеобразовательных. Вместо философского было образовано отделение церковно-практическое, с программой очень пестрой и не цельной. Это было не пастырское, скорее литературно-педагогическое отделение, — очень характерная черточка для того времени. Вряд ли не большинство поступавших записывалось тогда на это “практическое” отделение, — но именно не “в надежду священства,” а ради учительского звания. И в самом пастырстве для людей того времени “власть учить” (вернее, “просвещать”) собой почти заслоняет и сам дар священства, само “служение таинств...”
Предполагалось сперва при С.-Петербургской академии образовать особое физико-математическое отделение, — снова с педагогическим предназначением, чтобы готовить преподавателей математики и физики для школ духовного ведомства. При окончательном пересмотре и это было отвергнуто, по особенному настоянию обер-прокурора, отказывавшегося изыскивать на это кредиты. То было верно, что не стоило создавать особый (и укороченный) “факультет” ради одной педагогической нужды. Но, странным образом, не была понята внутренняя потребность богословской школы в изучении точных и естественных наук. Именно в те годы, когда во имя этих наук открыт был подлинный поход против христианского мировоззрения и против всякой веры вообще, было в особенности своевременно обратить самое серьезное внимание на изучение естественных наук. Между тем, оказалось очень нелегким получить согласие даже и на учреждение кафедры “естественно-научной апологетики” в Московской академии с обеспечением ее из средств Московской епархии. Кажется, опасались, что академическая апологетика окажется слишком старомодной. Если для таких опасений и были основания, следовало ли снимать с очереди саму задачу? От апологетической задачи Церковь уйти не может, в те годы в особенности не могла уйти. Но всего опаснее вдаваться в апологетику без основательного знания соответственных наук, и не владея самим методом, доверяясь и попадая в зависимость от популярной литературы. Такая апологетика из вторых или третьих рук никогда не бывает убедительной. Отчасти апологетический материал входил в состав философских дисциплин, метафизики и психологии. Но зияющий пробел все-таки оставался...
Очень характерно было и спешное решение закрыть миссионерское отделение в Казанской академии, как не вмещающееся в нормальную схему высшей богословской школы. Этим расшатывалась вся православная миссия на Востоке. И с большим трудом удалось отстоять сохранение миссионерских предметов в академии, и то в качестве только необязательных, сверх нормального плана...
У преобразователей не было живого чувства церковных нужд и потребностей. И со введением новых уставов духовная школа не была “воцерковлена,” не установилось органических связей с церковной средой. Тогда больше заботились о “сближении” с миром. И реформа была разработана в духе того неопределенного гуманизма, каким окрашены и другие “великие реформы” тех лет...
Дать общую оценку преобразовательного плана очень не просто. И новый устав слишком недолго был в действии, чтобы судить по плодам. Следует помнить, однако, что новый устав осуществляли и проводили в жизнь старые люди, учившиеся еще по старым уставам. И потому в жизни сказывалось не только слабость нового, но и недостаточность старого. И многим приходилось преподавать, что им самим преподано не было...
Главным достоинством академического устава 1869-го года было, конечно, то, что ученый характер высшей богословской школы был твердо означен и огражден. Комиссия преосвященного Нектария взяла в руководство университетский устав и по этому образцу перестраивала академическую организацию. Отсюда именно этот дух академических свобод, расчет на творческую самодеятельность академий...
Но даже и лучший устав не может преодолеть душевной инерции эпохи. То было у нас время практических увлечений, и уже подымалась волна опрощенства. Идеал той эпохи был распределительный, не созидательный. Не творчество, а именно “просвещение.” Было много любознательности или любопытства, но не доставало творческой воли. Торопились узнать и передать готовые ответы или решения. Была какая-то вера в эти чужие ответы, но точно страх перед исследованием. И слишком многие у нас тогда изучали не сам предмет, а западную литературу предмета. Казалось, что в том попросту и состоит очередная задача новой русской науки, чтобы “догнать” западное просвещение. Получается впечатление, что у нас богословствовали скорее как бы по западнической или западной инерции, а не из внутренней потребности и убеждения. И за долгие годы западного влияния в школах не привыкли спрашивать себя о духовных предпосылках богословия. Почти забывали, что строить предстоит церковное богословие, а не богословие вообще. То был вопрос о духовном методе. Нужно было научиться богословствовать не из ученой традиции или инерции только, и не только из любознательности, но из живого церковного опыта и из религиозной потребности в знании. Иначе и нельзя было вернуть богословскому преподаванию его духовную устойчивость и убедительность. В предыдущую эпоху пример такого богословствования уже был показан Филаретом Московским. Но не многие хотели и не многие умели за ним идти...
6. Начало научного осмысления Истории Церкви.
По уставу 1814-го года в академиях главным предметом преподавания становится Священное Писание. На втором месте — философия. В догматике утверждается библейский или экзегетический метод, — все доказуется и должно быть доказуемо текстами...
С тридцатых годов усиливается преподавание исторических наук. При графе Пратасове в истории видели лучшее противоядие против библейских излишеств. В истории видели тогда свидетельство от предания. Потому и была тогда в семинарскую программу введена патрология, “историко-богословское учение об отцах Церкви,” как особый предмет...
Сказывается и прямое действие западного примера. То было ведь время церковно-исторического расцвета в Германии. Это сразу же отразилось и у нас. Неандера в особенности читали у нас тогда с увлечением. Иногда у нас так прямо и ставили себе задачей: соединить западный “гений” и ученость с восточным “авторитетом” и “духом жизни.” Присоединяется и философский интерес к истории, под влиянием немецкого идеализма...
Всего же важнее было пробуждение живого и непосредственного исторического чувства, — появление той потребности в историческом видении, того “стремления быть свидетелем событий,” “знать, как знает свидетель,” в каком Болотов видел само существо историзма...
У нас в историческую работу уходят лучшие и сильные люди, по внутреннему влечению, из духовной потребности. И силой их личного влияния и примера, всего больше, и объясняется это характерное преобладание церковной истории в системе русского богословского преподавания с половины прошлого века, во всяком случае...
Здесь не место входить в подробное описание всего сделаного русскими учеными в отдельных областях церковно-исторической науки. Сделано было очень и очень не мало, — и в собирании памятников, и в критике источников, и в историческом синтезе. Но историка богословской мысли интересует только одна сторона этой ученой работы: как эта сосредоточенность исторического внимания сказывается в общем богословском мировоззрении, как отражается она в богословском синтезе. И для этого достаточно отметить только немногие поворотные точки в этом ученом процессе...
Историческое веяние в русском богословии начинается из Московской академии. Именно здесь впервые и создается русская школа церковных историков...
Филарет Гумилевский впервые ввел “исторический метод” в преподавание догматики и сумел пробудить у своих слушателей не только интерес, но и любовь к историческим занятиям. Филарет был исследователем. Он любил работать по источникам, любил и архивные розыски. Любил собирать и сопоставлять факты. Так возникли его книги об отцах Церкви, о русских духовных писателях, о греческих песнопевцах, — почти в типе словарей. В Харькове и в Чернигове, в бытность свою там епархиальным архиереем, Филарет занимался “историко-статистическим описанием.” Но Филарет не был собирателем в старом стиле, каким был митр. Евгений. Он был не столько археологом, сколько именно историком. У него была потребность в обобщениях. И у него был дар исторического рассказа и исторического синтеза. “История русской Церкви” Филарета была для своего времени событием (издана в 5 выпусках в 1847 и 1849 г.г.). Впервые вся русская церковная история была рассказана и показана, как живое целое, от Крешения Руси и до 1826-го года, — и рассказана ясно и вдумчиво. Эта вдумчивость и вообще отличает Филарета, как историка. Иногда это ему мешает. Ему трудно писать бесстрастно, он размышляет над событиями вслух. Ему трудно скрывать свои симпатии и антипатии. У Филарета было почти болезненное чувство правдивости, отсюда смелость и резкость его суждений о прошлом, его отзывов о недавнем. История синодального периода в его изложении оказалась слишком откровенной. Еще раньше вызвала толки его статья о Стоглаве и о старом обряде...
Филарет заторопился издавать свою “историю,” когда Макарий в 1846-м году начал печатать в “Христианском Чтении” главы из своей книги о русском христианстве до Владимира. Филарет испугался, что его уже опередили. Но Макарий писал совсем в другом темпе и в других масштабах. Он задумал многотомное сочинение и писал каждый том отдельно (первое издание с 1857 по 1883). Смерть прервала его “историю” на XII-м томе, на описании собора 1666-го года...
Филарет торопился дать общий очерк, стремился показать единство и связь событий, понять исторический процесс изнутри. Теперь его рассказ не удовлетворяет. Слишком мало говорится о внутренней жизни и о церковном обществе, все больше о церковном управлении. Слишком многое досказывается по соображению. Слишком однообразно повторяются рубрики. Однако, всегда рассказ Филарета перспективен, всегда в нем чувствуется дыхание жизни...
У Макария исторической перспективы вовсе нет. Он ограничивается повествовательным прагматизмом и дальше хронологического сцепления событий не простирается. Критика источников почти отсутствует. Макарий остается и в истории только собирателем известий и текстов. Его история не больше, чем “историографическая мозаика” (как отзывается о ней Н.Н.Глубоковский). Фактическая обстоятельность и есть единственное достоинство этого многотомного труда. Это памятник изумительного трудолюбия и благородной любознательности. И на известной ступени ученой работы фактическая обстоятельность есть действительный и важный шаг вперед. Но этим не искупается методологическая беспомощность. Гиляров-Платонов называл метод Макария “механическим.” Вернее сказать, метода у Макария вовсе и не было. Его “история” написана без метода и без руководящей мысли. Это — история, написанная не историком. Историческому рассказу Макарий научился в процессе работы, и последние томы живее первых. Но метода он так и не приобрел...
Филарет Гумилевский в первые годы своего преподавания в Московской академии встретил ученика, который вскоре стал ему и другом. То был А. В. Горский [10] (1812-1875). На долгие годы их соединила нежная дружеская приязнь и общая страсть к исторической науке. То была именно страсть, захватывавшая всего человека. “Когда друзья науки стали служить вместе, занятие историей сделались для них насущной пищей,” говорит историк Московской академии. Они продолжали работать сообща и тогда, когда уже им не приходилось жить и служить вместе. Помощь Горского чувствуется почти во всех работах Филарета. Это была помощь библиотекаря и критика...
Образ Горского один из самых светлых в истории русской науки. Но есть в нем какая-то трагическая хрупкость. Изящества в этом образе больше, чем силы...
Со стороны Горский мог показаться человеком запуганным. С. М. Соловьев прямо и обвинял митрополита Филарета, что он своим деспотизмом заглушил огромное дарование Горского. И этот отзыв принято повторять без проверки. Но это обвинение вполне ложно. То верно, что у Горского в характере и в его мышлении всегда чувствуется какая-то внутренняя связанность и нерешительность. То не был, однако, страх перед чьим-нибудь чужим осуждением или мнением, хотя бы мнением Владыки, — то была некая духовная мнительность. “Засушил” Горского вовсе не Филарет. Он сам себя останавливал на каждом шагу, из какой-то внутренней боязливости. Это видно сразу по его дневникам, за ранние годы...
“К сожалению,” писал о Горском в свое время П. С. Казанский, “чем обширнее становятся его познания, тем, по-видимому, увеличивается и его недоверие к себе. Оно то и останавливает и его самого, и чрез него других, в печатании трудов...”
И то не было беспомощность эрудита, знающего слишком много и не умеющего со своими знаниями совладать. У Горского был дар исторической аппрегензии. Он вполне владел своим зианием...
То был какой-то глубокий духовный надлом, надлом умственного характера. И Горский сам это знал. “Небогатый и без того силою самостоятельного разумного мышления, должен каждый шаг делать за кем-нибудь другим, и легковерием страшусь увлекаться за добрыми и недобрыми водителями.” Так говорил он сам о себе в письме к другу. Он всегда искал, к кому бы ему прислониться. Сам он считал то последствием замкнутого и строгого воспитания, “под грозящим жезлом скромности,” в родительском доме. “Лета моего детства текли тихо, скромно, мертво.” Горский жаловался, что в детские годы “в его сердце не потрудились раскрыть ему Бога и Его святую религию.” Он тяготился этой внушенной ему сухостью сердца. “Рука отеческой попечительности, всегда опасливой, лелеяла меня, и в ту же пору ковала мне тяжелые оковы, которые глубоко заросли в душу.” Это было внутреннее торможение, не внешний страх...
В академию Горский поступил почти мальчиком, шестнадцати лет, из философского класса Костромской семинарии, на два года раньше нормального срока. Академический ревизор нашел его развитие редким, — кстати, то был Афанасий Дроздов, тогда еще бакалавр Московской академии. Но в академии Горскому учиться было сперва не легко. Он ведь вовсе не изучал богословия в семинарии и должен был изучать в первый раз то, что другие учили уже во второй...
Отец доверил его покровительству о. Феодора Голубинского, тоже костромича родом. Философских склонностей у Горского никогда не было, и к философским внушениям Голубинского он остался невосприимчив. Но Голубинский очень на него повлиял своим “теплым благочестием.” От него у Горского и эта постоянная религиозная задумчивость. С Голубинским и с о. П. Делицыным Горский навсегда остался в дружбе, в “ученом братстве.” От них у него интерес к “мистической” стороне христианства. Горский читал Фенелона, [11] Гамана [12] и др. В его религиозном облике немало черт Александровского времени: внимательность к снам и приметам, вера в тайное общение душ (срв. “религиозный энтузиазм” в молодости и у П. С. Казанского)...
Поверх этого западнического мистического влияния ложится отеческая волна. И она была сильнее. Это было влияние Филарета Гумилевского. Кажется, именно Филарет и объяснил Горскому впервые его призвание историка. Сблизились они сперва на ученой основе. Вспоминали они впоследствии о долгих беседах на исторические темы, о часах, проведенных вдвоем над рукописями или старопечатными книгами. Но сближение пошло глубже. Филарет ввел Горского и в мир отеческого любомудрия и аскезы. Он учил его аскетической мудрости и работе над собой. “Дело спасения начинается в нас зимою, именно сокрушением сердечным, крепким самопогружением и стеснением воли, мыслей и чувств.” Он предостерегал его от умозрительных увлечений, от того “почти гностического” духа, которым можно было заразиться из немецких книг, — “но и крепко запустил в тебя когти волк немецкий.” Филарет учил Горского духу практической церковности и канонического послушания. Остерегал его подчинять веру доводам науки, остерегал и от самой книжной страсти, — опасной, как и всякая страсть. “Вкусите и видите, — вот способ знания христианской религии,” — таинства и молитва. Этот урок Горский твердо запомнил. Он принял священство впоследствии для укрепления себя в богословской работе, — и ради радости приносить бескровную Жертву...
Духовной тишины Горский достигал многими скорбями. Родительский запрет помешал ему последовать за Филаретом в иноческом пути. Он с горечью покорился. Вместо того ушел в ученый затвор. Позже и сам уже не хотел расставаться с академией, которой отдал всю свою любовь...
В Горском поражает его впечатлительность, его восприимчивость, прежде всего, — его ненасытная способность к познанию. Он много читал. Больше любил читать, чем писать. То не было пассивностью или вялостью мысли. Горский предпочитал работать по первоисточникам, чтобы из них строить самому. Он не только собирал материалы, но сразу же и строил, хотя бы для самого себя. Это была любознательность исследователя, не любопытство любителя...
Когда Горский занял в академии церковно-историческую кафедру, ему приходилось одному прочитывать слишком многое: от библейской истории до позднейших времен. Вскоре, впрочем, библейская история была отделена и поручена особому бакалавру. Но долгие годы Горскому приходилось одному читать сразу полный курс общей церковной истории, и истории Церкви русской. Много времени уходило на выработку курсов...
В истории всеобщей Горский всего больше пользовался Неандером и еще Гизелером. Но все было лично проработано им и по источникам. Очень ценил Горский и Мосгейма. У Неандера его привлекало это стремление и умение находить религиозный смысл происходивших событий, это умение изображать исторический процесс, “как одно целое, в стройной и тесной связи всех его частей.” В своих лекциях Горский и стремился, прежде всего, показать эту “внутреннюю связь фактов,” не довольствовался внешним прагматизмом, и говорил об органическом развитии. Всего больше он останавливался на истории догматов. Впоследствии и догматику он читал историческим методом. Из западных пособий по догматике он пользовался обычно курсами Штауденмайера и Куна, еще Каниса, Филиппи. Из лекций издана только часть, — история Евангельская и Апостольская. Это есть, собственно, философия Новозаветной истории, изложенная с редким проникновением, — показуется через всю историю, как Христос возбуждает веру, в учениках и в народе...
Следует отметить еще образцовые опыты отеческих жизнеописаний, — ученые жития Афанасия, Василия, Епифания, Феодорита. Его слушатели вспоминали еще его незабываемую характеристику Оригена...
Но главным предметом Горского была история русской Церкви. И, прежде всего, нужно отметить его работы по описанию славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, — ему помогал в этом К. И. Невоструев (†1872). [13] Плодом напряженной работы нескольких лет было “Описание” библиотеки в шести томах (I—V, 1855-1869; том VI-ой, отпечатанный в свое время, выпущен только в 1917-м году). Это не только описание рукописей в собственном смысле слова, это сразу и обоснованная оценка или характеристика памятников и их значения, как исторических источников. В том и был замысел митр. Филарета относительно Синодального книгохранилища, чтобы ввести весь этот новый рукописный материал в научный оборот сразу же с надлежащим толкованием. Потому и хотел он это поручить “своему,” и не любил вмешательства чужих, как Погодин [14] или Ундольский. [15] Горский выполнил задачу образцово. В том именно длящаяся ценность его работы, что вместо внешнего описания он дал исследование. В особенности это относится к описанию библейских рукописей; до сих пор оно сохраняет всю важность, как опыт по истории славянского текста Библии. Этот именно том и вызвал нарекания. Цензура затруднялась пропустить его. Рассматривал книгу Иоанн Соколов, тогда еще архимандрит. Он нашел здесь укоризну нашей Церкви, — “не имела Слова Божия в чистом целостном виде, а принимала и читала его в виде поврежденном,” до времен Геннадия. Иоанна смущало, что нет ни одного списка “точно” по Семидесяти, его смущали и подробности о Геннадиевом своде, образ Вениамина-доминиканца. Не лучше ли опустить весь комментарий, всю учено-критическую часть? С согласия Филарета, Горский составил “апологию” против отзыва цензора, защищая свободу исторической критики документов в ее собственной области. В этих вопросах у него не было колебаний...
Горский был не столько археографом, сколько историком в прямом смысле. Документы и памятники он воспринимал взглядом исследователя. И у него было продуманное историческое мировоззрение, своя философия русской истории. Всего сильнее впечатление на него сделал в свое время Полевой. С этим и связан его постоянный интерес ко внутренней жизни самого церковного народа, — как принималось христианское учение в быту и в жизни. Поэтому его интересовали не столько официальные документы, сколько памятники литературы, особенно жития и проповеди, приоткрывавшие доступ в этот внутренний мир. И именно к урокам Горского восходит у Гилярова-Платонова такое определение задачи русского церковного историка: “изложить жизнь Русского народа, как общества верующих.” В такой постановке и по сейчас история Русской Церкви еще не написана...
Всего больше такое понимание задач русской церковной истории в то время сказывалось у историков Казанской школы. Достаточно назвать имя А. П. Щапова [16] (1831-1876). Уже в его известной диссертации о русском расколе очень чувствуется это внимание к бытовой стороне церковной жизни. И в этом ценность этой книги, при всех ее пробелах и преувеличениях. Человек необузданный и страстный, Щапов творил силой какой-то вдохновенной импровизации, и к методическому труду не был способен, несмотря на все свое крайнее трудолюбие и работоспособность до самозабвения. Вступительную лекцию в академии он читал на тему: Православие и русская народность. Это была программа по истории народной веры. Этой программы он не исполнил, и слишком рано был потерян для науки. Удачно говорит о нем Знаменский в своей истории Казанской академии. “Щапов пронесся над академией каким-то мимолетным метеором, который блестел и освещал предметы фантастическим и, пожалуй, фальшивым светом; но свет от него все-таки был яркий и для людей внимательных успел осветить впереди длинную дорогу, которой прежде было не видно.” Ранние работы Щапова характерны, как симптом, как показатель пробудившейся потребности строить историю Церкви, как историю всего тела. Отчасти то было прямым отражением Московских академических веяний, отчасти объясняется влиянием славянофильства...
Горский был не только исследователем, не только мастером, но и учителем. Был учителем несравненным, учил же словом и житием, учил не только на кафедре, но и в библиотеке (он был библиотекарем в академии все время своей профессуры, до назначения ректором). Он умел пробуждать у студентов ученый энтузиазм, умел пробуждать в них историческое чувство, умел завлекать их в историческую работу, — и всегда по источникам. Он внимательно следил за своими и за чужими учениками, помогая им советами или учеными остережениями. Он любил работать для других. “В Московской духовной академии ходит предание, что поразительный блеск канонического и исторического обоснования в знаменитых резолюциях Филарета во многом обязан Горскому.” Много поработал Горский над русским Новым Заветом. Горский помагал Сергию, впоследствии архиепископу Владимирскому, в его работе над “Полным месяцесловом Востока.” О помощи Горского Филарету Гумилевскому уже было сказано. Влияние его чувствуется и во многом другом. Именно он навел Голубинского на мысль исходить в реконструкции устройства и быта древней русской Церкви из византийского материала, — образцы такого сравнительного анализа он и сам давал в своих лекциях. Горским подсказан и метод Каптерева [17] в его работах по истории патр. Никона и его времени, — Каптерев использовал и подобранные уже Горским материалы...
Горский сумел создать ученое движение в академии. Личным примером своим он свидетельствовал и напоминал, что наука есть подвиг и служение...
В Московской академии создалась школа историков. Прежде всего нужно назвать Е.Е. Голубинского [18] (1834-1912). Он не любил признаваться, сколь многим он обязан в своей работе Горскому. Он был совсем другого духа. Голубинский принадлежал к тому поколению, из которого выходили вожди нигилизма. Есть что-то от этого неисторического обличительства и у него, в самом его историческом методе, в самой психологии его исторической работы. Это, прежде всего, его мнительная недоверчивость, почти подозрительность в отношении к источникам. Он точно удивляется всякий раз, когда убеждается в надежности и достоверности своих источников или памятников. Он всюду ожидает встретить подделки, подлоги, искажения, недостоверные сказания, сyeверные слухи, поверия, легенды. Он всегда предполагает возможность намеренного обмана. Это у него очень яркая черточка от просветительства...
Житейскую недоверчивость и подозрительность Голубинский превращает в исторический метод. “Истории лгущей,” которая других обманывает, сама не обманываясь, он хочет противопоставить “историю настоящую,” правдивую и трезвую...
Голубинский поставил себе задачей написать историю Русской Церкви “критическим” методом. Это означало, прежде всего, критику источников. Но Голубинский никогда не разделял критики источников от критики самой жизни, событий и порядков. “Критический” для него означало “обличительный.” И в первом томе своей “Истории” он и занимается, собственно, некоторым разоблачением недостоверности исторических преданий и принятых мнений о первых временах русского христианства. Впрочем, это только одна сторона его работы. С исключительной аккуратностью Голубинский подбирает и распределяет по категориям все сохранившиеся до нас известия и факты, и в итоге получается, хотя и мозаическая и с пробелами, картина внутреннего быта и строя древней русской Церкви...
Философских обобщений в истории Голубинский не любил, законов развития тоже не отыскивал, не было у него и социологического анализа. Это был историк-публицист. И во всем чувствовалось его “воинствующее резонерство,” как метко выразился об исторической манере Голубинского академик В. Г. Васильевский...
У Голубинского был свой церковно-практический идеал, очень типический для его времени. Это было своеобразное сочетание самого острого западничества с духом бытового провинциализма. Крайнее приятие Петровской реформы сочетается с почитанием церковной древности, довизантийской. Он ждал реформ в быте русской Церкви, прежде всего. Нужно поднять культурный уровень духовенства, усилить его учительную деятельность, — отвлечь от сохи к книге. Это предполагало изменение социальных условий. Этот личный идеал Голубинского всегда чувствуется в его исторических оценках и характеристиках. Он считал, что историку дано право судить, казнить и славить. В истории хотел он видеть, прежде всего, живых людей, — “поскольку в истории, подобно действительной жизни, которую она воспроизводит, всякий человек имеет значение только, как живая нравственная личность, и поскольку наше нравственное чувство ищет находиться в живом общении с историческими людьми и хочет знать, должны ли мы воздавать им почести или произносить над ними строгий, т. наз. исторический суд...”
Голубинскому удалось издать только первый том своей “Истории,” “период домонгольский,” в двух половинах. И это оказалось возможно только при горячем содействии Макария, тогда уже митрополита Московского, который помог и деньгами на издание, и своим иерархическим авторитетом, когда поднялись толки о неблагонадежности Голубинского. После смерти Макария у Голубинского не оставалось влиятельных покровителей, его критический метод казался опасным, ему пришлось слишком рано оставить и преподавание в академии. И только в старости смог он издать первую половину второго тома, приготовленную к печати за много лет до того. Вскоре после того он потерял зрение. Вторая половина второго тома издана была уже после его смерти, в черновом тексте... Голубинский не был мастером исторического синтеза. Его сила в подробностях, в испытании и собирании фактов. Но не осталась без влияния в русской историографии и его публицистическая возбужденность. Он напоминал, что история есть самая творимая жизнь. В Московской академии совместное преподавание Голубинского и Ключевского подняло внимание к разработке русской церковной истории...
С не меньшей напряженностью продолжалась работа и в области древней истории Церкви. Следует упомянуть имя П. С. Казанского (1819-1878), писавшего по истории монашества, древнего и русского, — он принадлежит еще к старшему поколению и к “старой манере” истории. Большим влиянием пользовался А. П. Лебедев [19] (1845-1908), занимавший много лет кафедру в академии и затем ушедший в Московский университет, где он заменил прот. Иванцова-Платонова. Лебедев привлекал к себе учеников. На темы, им заданные, было написано и издано много ценных исторических и патрологических монографий. Достаточно назвать имена А. П. Доброклонского [20] и Н. Н. Глубоковского. [21] Но сам Лебедев не был самостоятельным исследователем. Он больше следил за западной литературой своего предмета, чем изучал сам предмет. Он был того мнения, что прежде всего нужно “догнать” западную науку. С ней он и старался познакомить своих слушателей покороче. И в этом его бесспорная заслуга. Лебедев любил писать, писал он легко и живо, с публицистической остротой и даже задором, и с неизбежным при том упрощением. Всего больше это заметно в истории догматических движений. Лебедев совсем не был богословом, и о богословских спорах рассказывает без всякого внутреннего в них соучастия, как сторонний наблюдатель, — именно безучастно, но не бесстрастно. И в лучшей из его книг, в его известной диссертации о первых вселенских соборах (1879), не достает именно этого сочувственного проникновения в смысл описываемых и обсуждаемых событий. Это в свое время хорошо показал о. Иванцов-Платонов в своем обстоятельном разборе этой книги...
В своих позднейших работах Лебедев оставался только популяризатором, часто и очень небрежным. Однако, именно своей доступностью и своей публицистической манерой Лебедев много сумел заинтересовать в исторической работе. И в истории русской науки его имя должно быть помянуто с уважением...
К тому же публицистическому направлению в церковной историографии принадлежал Ф. А. Терновский (1838-1884), профессор в Киевской академии и университете, работавший тоже больше по пособиям... Эта публицистическая манера в историографии очень характерна для той эпохи...
Совсем другого стиля были созидатели церковно-исторической школы в Санкт-Петербургской академии, И. Е. Троицкий (1832-1902) и В. В. Болотов (1853-1900)...
Троицкий всего больше работал по истории Византии. Это был исследователь вдумчивый и осторожный, у которого можно было учиться методу и историческому чутью. Это был историк с очень широким богословским и практическим кругозором. В прошлом он умел видеть живых людей, умел показать психологию событий. Его самая значительная книга посвящена вопросу об отношениях Церкви и государства в Византии (“Арсений, патрииарх Никейский и Константинопольский, и арсениты,” СПб. 1873, из “Христианского Чтения”). Решающим фактором Троицкий считает рознь “белого” и “черного” духовенства в Византии, спор “икономистов” и “акривистов.” Эта рознь помогла государству одолеть влияние духовенства, разделенного, а не сплоченного, как то было на Западе. В Византии побеждает сперва строгая монашеская группа, но вскоре и она подпадает под верховенство государства. Троицкий интересовался также и внутренней борьбой между сторонниками восточной традиции и новаторами западнического типа, в эпоху Лионской унии и позже. Со вниманием он следил и за жизнью современного православного Востока...
Болотов соединял в себе дар историка и проникновение богослова. Это чувствуется всего более в его первой и молодой книге об Оригене (1879). Это — исчерпывающий и образцовый анализ учения Оригена о Святой Троице, проведенный по текстам, которые автор умеет оживлять. И оживает образ самого Оригена, как бы рассуждающего вслух. Этот образ показан на живом историческом фоне, в живой череде древних писателей и богословов. Очень тонко прознализирован и сложный вопрос об отношении арианства и оригенизма. Это есть исторический анализ, сделанный богословом. И богословская чуткость делает сам анализ особенно убедительным. Книга Болотова вышла в один год с диссертацией Лебедева. Сравнение этих двух книг очень поучительно в методологическом отношении...
Эта первая книга Болотова осталась и самой значительной в его литературном наследстве. Второй книги он уже не написал. В 80-х годах он работал над источниками по истории несторианства, но в это время было запрещено писать о “ересях” и об “еретиках,” и он не довел своих исследований до конца. Умер Болотов не в старые годы. Остался от него ряд очень тонких этюдов на частные темы, преимущественно по истории негреческого Востока, — и в них сказывается весь его блестящий дар аналитика. Особо нужно отметить его “тезисы” о Filioque, составленные для Синодальной комиссии по старокатолическому вопросу. Болотов приходит к заключению, что это западное учение может быть допущено и терпимо в качестве частного богословского мнения, во внимание к авторитету блаженного Августина, хотя оно и не совпадает по смыслу с основным восточным (или каппадокийским) “теологуменом, [22]” — “чрез Сына.” Разногласие в богословском учении об исхождении Святого Духа не было главным или решающим поводом к разрыву Византии и Рима. “Разделением Церквей” Болотов интересовался не только, как историк. И в молодости он перевел один из трактатов Г. Овербека о романизме и православии, с примечаниями, показывающими личный интерес (в “Христианском Чтении” 1882 и 1883 годов)...
О Болотове, как историке, всего больше свидетельствует его академический курс, изданный по студенческим записям после его смерти. Особенно важен IV том, посвященный истории богословской мысли в период вселенских соборов. Здесь сказывается в полной мере дар исторической композициии проникновение богослова, и сразу чувствуется, что все построение методически проверено во всех частностях и подробностях. У Болотова всегда чувствуется эта особая надежность и достоверность...
У Болотова всегда было много занимающихся, он любил и умел руководить работами начинающих. Темы выбирал он для них всегда с методологическим расчетом и, прежде всего, старался научить обращаться с источниками. Это была школа исторического метода и опыта...
Исторический метод открывает в церковном прошлом многообразие и изменчивость. И на прошлое уже не приходится глухо ссылаться в доказательство “постоянства.” В жизни Церкви на протяжении веков мы наблюдаем, во всяком случае, не только “постоянство,” но еще и рост, и творчество, и развитие. Канонический строй, богословское самосознание, богослужебный чин и устав, быт и подвиг, и многое другое в жизни Церкви оказывается величиной исторической, переменной, растущей и живой, слагающейся во времени. От изменчивости в прошлом естественно заключить и к изменяемости в настоящем. Археологические розыскания приобретают практическую остроту. И спрашивается, как верность преданию согласовать с потребностями творимой жизни. Этот вопрос всегда слышится или подразумевается у всех русских церковных историков уже с пятидесятых годов...
Литургика становится исторической наукой. Наука о “древностях церковных” в стиле старинных эрудитов перестает удовлетворять. Внимание исследователей обращается к позднейшей, византийской и древнерусской, истории богослужебного строя. И становится необходимым привлечение нового и часто неизданного материала. Это живо чувствовал уже о. А. В. Горский при описании литургических рукописей Синодальной библиотеки. Из специальных исследований нужно отметить работы И. Д. Мансветова, Н.Ф. Красносельцева, прот. К. Т. Никольского, А. А. Дмитриевского. Уже позже, в 90-х годах, Дмитриевскому во время его поездок на Ближний Восток удалось собрать исключительно богатый и почти нетронутый материал по истории византийского богослужения и привлечь к его разработке своих учеников в Киевской академии. Инициатива рукописных разведок на Востоке принадлежит епископу Порфирию Успенскому (1804-1885). Ему пришлось немало лет провести в Константинополе, на Афоне и в Палестине с официальной миссией. Вернувшись в Россию, он привез с собой богатое собрание греческих рукописей, древних икон и других древностей, до сих пор еще не использованное исследователями вполне. Скорее антикварий и эрудит, чем исследователь, человек острого и скорее беспокойного ума, но без критической школы, Порфирий, тем не менее, в своих многочисленных исторических книгах заложил твердый фактический фундамент для последующей разработки византийской церковной истории. Следует назвать еще имена архим. Антонина Капустина (1818-1894), епископа Арсения Иващенко (1830-1903), епископа Амфилохия Казанского (1818-1893), архиепископа Макария Миролюбова (1817-1894), архиепископа Сергия Спасского (1830-1904), — это были скорее собиратели, чем исследователи, но вклад их в историю русской науки не следует умалять...
Особый интерес возбуждала история русского “старого обряда,” так торопливо и неосторожно в свое время осужденного. Исторически этот “обряд” оказывался теперь скорее оправданным. Но тем очевиднее становилось, что действительная острота русского “старообрядчества” не столько в этом “старом” обряде, сколько в болезненном и ложном чувстве церковности... Нужно упомянуть еще о работах по истории церковного искусства, византийского и древнерусского. Это была новая дисциплина, взамен старой “археологии,” созданная всего больше трудами русских исследователей: Ф. И. Буслаева, Н. П. Кондакова, Н. В. Покровского и других...
Методологически важен был прием постоянного сопоставления памятников вещественных и литературных...
Исторический метод был перенесен и в науку церковного права. Отчасти это чувствовалось уже у Иоанна Смоленского, в его анализе канонических источников. Гораздо сильнее это сказывается у его продолжателей. Особенный интерес возбуждали вопросы по истории покаянной дисциплины. Следует назвать имена А. С. Павлова, прот. М. И. Горчакова, Н. С. Суворова, Н. А. Заозерского, Т. В. Барсова, В. Ф. Кипарисова, И. С. Бердникова. И не раз поднимался вопрос об “изменяемости” канонической дисциплины и о “каноничности” существующего Синодального строя...
Так в исторической школе перерабатывается церковное самосознание. И богослову оставалось сделать свои выводы из нового опыта.
7. Исторический метод систематического богословия.
Развитие церковно-исторических интересов сразу же отражается и на разработке догматического или систематического богословия. Уже с тридцатых или сороковых годов входит в привычку “исторический метод.” Впрочем, строго говоря, далеко не всегда это был метод “исторический” в собственном смысле. Обыкновенно то был скорее метод т. наз. “положительного богословия,” — внимательный подбор и пересмотр всех текстов и свидетельств в хронологической последовательности. Так и у Макария в его догматике. Не всякое применение “исторического” материала есть уже тем самым и историческое исследование. “Историзм” привходит только тогда, когда показания источников воспринимаются не только как догматический довод, но и как историческое свидетельство, во всем их временном своеобразии и на живом историческом фоне. Иначе сказать, “историзм” в богословском методе связан с понятием “развития.” Еще мало научиться воспринимать и различать исторический колорит текстов. Нужно научиться еще и тому, чтобы видеть их в органической связи, в единстве раскрывающейся жизни. В этом отношении очень характерен вопрос о “правоверии” доникейских писателей, апологетов, в частности, который смущал и тревожил эрудитов XVII-го века (срв. спор между Петавием и Буллем о смысле доникейского словоупотребления), и в позднейшее время потерял эту остроту с пробуждением подлинного исторического чувства...
В русской богословской литературе вопрос об “историческом методе” впервые поднялся под видом вопроса об “авторитете святых отцов,” о догматической значимости отеческих свидетельств. В Санкт-Петербургской академии при графе Пратасове были склонны каждую отеческую систему в целом принимать, как догматическое свидетельство, как выражение Священного Предания (срв. записку об этом бакалавра И. И. Лобовикова). Против этого именно из Московской школы раздавались предостерегающие голоса. Митр. Филарет настаивал, что отеческие свидетельства должны быть приемлемы только в связи с библейской основой, а не в самодовлеющем качестве. Филарет Гумилевский подчеркивал, что творения отцов суть, прежде всего, живое исповедание их веры и опыта, но еще не догматический памятник. С этой точки зрения в Московской академии опасались превращения патрологии в богословскую науку. При этом, однако, оттенялся скорее момент исторической относительности и субъективности, нежели момент развития. Но уже Горский в своих лекциях по догматике отмечал и факт развития.
“Как же смотреть на христианскую догматику? Ужели она всегда была одна и та же по количеству объясненных истин, и по определенности этих истин? Когда рассматривается догмат, как мысль Божественная, он един и неизменен, сам в себе полон, ясен, определен. Но когда рассматривается догмат, как мысль Божественная, усвоенная или еще усвояемая умом человеческим, то его внешняя массивность необходимо с течением времени возрастает. Он прилагается к разным отношениям человека, встречается с теми или другими мыслями его, и, соприкасаясь, объясняет их и сам объясняется, противоречия, возражения выводят его из спокойного состояния, заставляют раскрывать свою Божественную энергию. Иногда века, народы его не понимают, отвергают; наконец, он берет верх. Правда, он не был побежден и тогда, когда ложь над ним торжествовала...
Новые открытия ума человеческого в области истины, постепенно возрастающая опытность его, прибавляют ему ясность. В чем прежде можно было еще сомневаться, то теперь было уже несомненным, делом решенным. Таким образом, каждый догмат имеет свою сферу, которая с течением времени возрастает, теснее и теснее соприкасается с прочими частями догматики христианской и с другими началами, лежащими в уме человеческом; все это срастается, воплощается в одно тело, оживляется одним духом; вся область ума от того просветляется; все науки, чем более которая соприкосновенна догматике, от того выигрывают в точности, положительности; с течением времени все более и более становится возможной полная строгая система знания. Вот ход развития догмата, вот жизнь его. Это звезда небесная!” (запись в дневнике Горского)...
С шестидесятых годов “историческое” веяние в преподавании догматики становится особенно чувствительным. В уставе 1869-го года было прямо указано, что догматическое богословие должно преподаваться “с историческим изложением догматов” (внесено в устав по настоянию протоиереев Янышева и И. Васильева). В Санкт-Петербургской академии догматику много лет преподавал А. Л. Катанский (1836-1919). Воспитанник Санкт-Петербургской академии, он в начале своей академической карьеры провел несколько лет бакалавром в Московской академии, по церковной археологии и литургике, и здесь приобщился исторической атмосфере занятий. В своих “воспоминаниях” он сам отмечает влияние Горского. От Горского он получил и напутственные советы, когда был переведен в Петербург на догматику. Из инославных догматистов он всего больше следовал Клее и Канису.
Катанский открыто ставил вопрос об исторической стороне догмата. Историю имеет “форма” или “внешняя схема” догмата, и при неизменяемости догмата, как откровенной истины, есть рост по формальной стороне, — первоначально данная форма или формула бывала слишком тесна для явленной в ней истины и потому с неизбежностью расширялась. Это был рост или выработка более совершенного языка и словоупотребления, “работа догматико-филологическая.” И к этому делается сразу же вряд ли осторожное примечание: “вполне точных выражений не может дать несовершенный язык человеческий.” И еще резче: “церковно-историческая формула догмата и его доказательства в догматике — дело второстепенное.” Для догматического богословия важна не буква, а смысл этой буквы, “тот смысл который соединялся с известной истиной и тогда, когда еще не существовала известная формула.” Все историческое слишком поспешно отодвигается в область несущественного.
Для своего времени статья Катанского “Об историческом изложении догматов” (в “Христианском Чтении” 1871-го года) была смелым манифестом. Однако, “исторического” в его преподавании было мало. Историзм ограничивался тем, что он тщательно разграничивал свидетельства по эпохам, отделял “библейское богословие” от “церковного” или “отеческого,” не умаляя, впрочем, их органической и неразрывной связи и т. д., — методологически это было очень полезно. Это приучало читать в каждом свидетельстве только то, что в нем есть, и не вкладывать в него по аналогии в нем самом вряд ли подразумеваемый смысл. Такой именно характер имели и книги Катанского, — диссертация о таинствах по учению отцов и писателей первых трех веков (1879, — в особом приложении Катанский отмечает, что седмиричный счет таинств — западного средневекового происхождения, и сравнительно поздно был перенят на Востоке) и особенно его поздняя книга о благодати (1903, из “Христианского Чтения” за предшествующие годы). Ценность этих работ в том, что с большим вниманием пересматриваются и сопоставляются отдельные отеческие тексты, по авторам, — такой “догматико-филологический” анализ, во всяком случае, облегчает последующий синтез, хотя бы сам аналитик и ограничивался только “сводом” своих данных. Катанский был убежден, что святоотеческие творения есть “единственное средство, чтобы оживить нашу вялую и скудную богословскую мысль.” Первоначально он хотел было заняться разработкой “библейского богословия,” написать “библейскую догматику” (срв. его статью “Об изучении библейского новозаветного периода в историко-догматическом отношении” в “Христианском Чтении” 1872-го года); но побоялся прослыть “протестантом...”
В Киевской академии при новом уставе догматику преподавал архим. Сильвестр Малеванский (1828-1908, позже епископ и ректор академии). Свои лекции он издал и в самом заглавии оттенил: “Опыт православного догматического богословия с историческим изложением догматов” (1878-1891, пять томов). По-видимому, под влиянием Хомякова, Сильвестр исходит из догматического опыта Церкви, из “общего религиозного сознания вселенской Церкви.” И задачей историка становится проследить и показать, как этот опыт отвердевает в догматических определениях и богословских формулировках. Догмат в таком понимании оказывается уже не только внешним данным, но и внутренним заданием церковной мысли. Догматист должен идти дальше простых подтверждающих ссылок на прошлое, на исторические тексты и свидетельства. Он должен изобразить сам процесс опознания откровенной истины, в его внутренней диалектике, на конкретном историческом фоне. Истина открывается человеку не для того, чтобы он ее лишь внешне признал и охранял, как некий недвижимый клад, не прикасаясь к ней своей мыслительной силой. И верность апостольскому преданию не означает, что его следует хранить “только в мертвенной неподвижности.” Догмат дан, как откровение, и приемлется верой. Но еще недостаточно простого согласия или приятия догматов, как данных извне. Спасает только живая вера, усвоение откровенной истины “религиозным чувством” и сознанием, “претворяющее догмат веры в природу нашего духа.” И только через такое усвоение сознанием догмат и становится тем, чем он должен быть для человека, “становится для него истинным светом, просвещающим темные его глубины, и новым жизненным началом, вносящим в его природу новую истинную жизнь, для передачи ее всему духовному составу человеческому.” Иначе догмат уподобится семени доброму, падшему на камени. Догмат должен быть внутренне усвоен и освоен сознанием или мышлением. “Разум не может созидать новых догматов, но силою своей самодеятельности может готовые, данные догматы вполне усвоять себе, обращая их в свое собственное достояние, в свою природу и жизнь.” И разум “возводит на степень знания,” что непосредственно принято верой. Свидетельствует догмат Церковь, облекая истину откровения в самую точную и соответственную форму, и этим “возводит ее на степень несомненной, непререкаемой истины.” Божественная полнота истины от самого начала содержится в данном догмате, но она должна быть явлена, раскрыта, признана. И в этом вся важность исторической действенности мысли. “Догматы пред изучающим их разумом являются теперь не в чистом, первоначальном виде, в каком заключены они в божественном откровении, а в виде более или менее развитом и сформированном, как перешедшие уже чрез длинный и многосложный процесс сознания столько веков существовавшей Церкви…”
Догматист и должен понять или показать догмат во внутренней “диалектике” этого церковного “процесса сознания...”
Своей программы Сильвестр до конца не осуществил. Его исторический анализ часто недостаточно глубок. С большим вниманием у него собран и обработан святоотеческий материал. Но библейской истории догмата почти нет, и переход от “апостольского проповедания” к “догматам отцов” остается не объясненным. Во всяком случае, это был очень значительный шаг вперед, “от Макария.” “Точно бы в удушливую комнату ворвалась струя свежего воздуха и повеяло бодростью и простором” (Алексей И. Введенский)...
Новый повод поставить вопрос о смысле догматического развития в догматике и богословии был подан сношениями со “старокатоликами.” Отдельные представители русской Церкви участвовали на первых старокатолических конференциях в Кельне, Констанце, Фрейбурге и в Бонне, в 1872-1875 гг. Обсуждение условий возможного “воссоединения” старокатоликов с православной Церковью естественно приводило к историко-богословскому вопросу о развитии, хотя бы под видом вопроса о пределах и мерилах “обязательного” и “допустимого” в Церкви. Предстояло определить состав и содержание “вселенского сознания Церкви” и найти способ уверенно различать и разграничивать в предании “местное” и “вселенское.” Мерилом исповедания было принято учение отцов. Правда, сразу же обратились к исследованию отдельных случаев доктринального расхождения или несогласия, и Боннская конференция 1875-го года была посвящена преимущественно вопросу об исхождении Духа Святого. Но все время подразумевается этот основной вопрос о смысле и границах “изменяемого” или “изменчивого” и “неизменного” в вероучении, о хранении преданий и о праве богословского толкования. В русской литературе эта богословская встреча с Западом отразилась довольно живо. Сближению со старокатоликами особенно сочувствовали и содействовали о. И. Л. Янышев, тогда уже ректор Санкт-Петербургской академии, бывший перед тем при русской церкви в Висбадене, проф. И.Т. Осинин, перед тем псаломщик в Копенгагене, и А. А. Киреев. Характерно, что общее мнение было тогда скорее против начала развития в догматике. Это было отталкивание от “Ватиканского догмата.” Под свежим впечатлением Ватиканского собора принцип развития и в догматике воспринимался скорее, как средство раздвигать рамки “обязательного” в вере и обращать “местные” или частные мнения во “вселенский” догмат. И принципу развития настойчиво противопоставлялось начало предания, хранение и охранение “древней веры,” какой она была раскрыта в эпоху вселенских соборов, в “неразделенной Церкви,” до разделения церквей...
С новой остротой вопрос о “догматическом развитии” был поднять уже в 80-х годах Влад. Соловьевым. И снова в том же “римском” контексте, как средство оправдать догматическое развитие Римской церкви. Это многим помешало разглядеть само существо вопроса. Правда Соловьева была в том, что он живо чувствовал священную реальность истории в Церкви.
“Исходя из понятия Церкви, как тела Христова (не в смысле метафоры, а метафизической формулы), мы должны помнить, что это тело необходимо растет и развивается, следовательно изменяется и совершенствуется. Будучи телом Христовым, Церковь доселе еще не есть Его прославленное, всецело обожествленное тело...
Но и теперь она, как живое тело Христово, уже обладает начатками будущей совершенной жизни...
И в историческом бытии видимой Церкви это божественное тело уже с самого начала дано все, но не все обнаружено или открыто, а лишь постепенно открывается или обнаруживается. Согласно евангельскому сравнению, это вселенское тело (царствие Божие) дано нам, как божественное семя. Семя не есть часть или отдельный орган живого тела; оно есть все тело, только в возможности или потенции, т. е. в скрытом для нас и нечленораздельном состоянии, постепенно раскрывающемся. При этом раскрытии и обнаруживается в вещественном явлении лишь то, что само по себе, как образующая форма и живая сила, уже сначала заключалась в семени.”
Развитие не разрушает, но предполагает торжество развивающегося. Развитие есть раскрытие внутренней идеи. И скорее исполнение, чем изменение. Организм живет не сменой, а взаимосохранением своих частей. И эта органическая цельность, или кафоличность, в особенности характерна для церковного развития...
Так Соловьев говорит о Церкви уже в “Религиозных основах жизни” и без всякого отношения к вопросу о соединении церквей (глава о Церкви первоначально была напечатана в “Руси” 1882-го года, т. е. раньше статей о “Великом споре”). О “догматическом развитии” он здесь особо не упоминает. И только устанавливает общий принцип.
“Если непременное условие церковности есть то, чтобы ничто новое не противоречило старому, то это не во имя того, что оно старо, а во имя того, что оно есть произведение и выражение того же Духа Божия, который непрерывно действует в Церкви и который не может себе противоречить...
Мы принимаем и почитаем преданное в Церкви не потому только, что оно предано (ибо бывают и худые предания), а потому, что признаем в преданном не произведение известного только времени, места или каких- либо лиц, а произведение того Духа Божия, который нераздельно всегда и везде присутствует и все наполняет, который и в нас самих свидетельствует о том, что некогда Им же создано в древней Церкви, так что мы выраженную прежде, но всегда единую истину познаем благодатной силой того же самого Духа, который ее тогда выразил. Поэтому всякая форма и всякое постановление, хотя бы и выраженная в известное время и через известных лиц, но если эти лица действовали при этом не от себя и не в свое имя, а от всей и во имя всей Церкви прошедшей, настоящей и будущей, видимой и невидимой, — такая форма и такое их постановление по вере нашей исходит от присущего и действующего во всей Церкви Духа Христова и должно быть поэтому признано святым и неизменным, как поистине исходящее не от каких- либо частей Церкви и по месту и времени, не от отдельных членов ее в их частности и отдельности, а от всей Церкви Божией в ее неразделенном единстве и целости, как вмещающей всю полноту божественной благодати.”
Здесь несомненна даже и словесная близость к Хомякову...
И в том же смысле Соловьев высказывается о догматическом развитии в своей загребской книге: “История и будущность теократии” (глава о догматическом развитии была первоначально напечатана в “Православном Обозрении,” 1885, декабрь, с одобрительной заметкой от редакции). Строго говоря, и здесь Соловьев идет не дальше Викентия Леринского [23] (см. его “Commonitorium,” главы 22 и 23)...
“Догматическое развитие” для Соловьева в том состоит, что “первоначальный “залог веры,” оставаясь о себе совершенно неприкосновенным и неизменяемым, все более раскрывается и уясняется для человеческого сознания.” Церковь ничего не прибавляла и не могла прибавить к внутренней истинности этих догматических положений, но “она делала их ясными и бесспорными для всех православных.” Против этого еще не стали бы спорить противники Соловьева. Только они представляют себе эту историческую усовершаемость церковных определений, как нечто вполне относительное и второстепенное, уже просто в силу их историчности. Для Соловьева был немыслим такой резкий разрыв двух сторон церковного бытия: человеческой и благодатной. Церковь растет и становится, как тело Христово, т. е. именно в своем двуединстве. “Ибо изменениям человеческой приемлемости неизбежно соответствуют относительные изменения и в действенности божественных сил, именно насколько эта действенность обусловлена человеческой приемлемостью.” Это есть простое приложение основной истины о “синэргизме” или содействии “природы” и “благодати...”
Вся подлинная острота спора с Соловьевым именно в вопросе о смысле церковной истории. У противников Соловьева все время сказывается уничижительное представление об истории, упрощенная и гуманистическая схема, — точно Божественное содействие не есть фактор исторической ткани. И с этим связано какое-то пониженное чувство церковности. Особенно в этом отношении характерна полемика с Соловьевым в Харьковском журнале “Вера и Разум.” Интерес этой полемики именно в том, что с Соловьевым здесь спорили люди без оригинальных взглядов, спорил здесь с ним как бы средний человек. И в стремлении оградить неприкосновенность изначального предания, т. е. Писания, противники Соловьева неизбежно приходили к пониженной оценке Вселенских соборов. С неожиданной резкостью они настаивали, что на соборах не было никакого “особого” содействия Духа Святого, и не было в том нужды. Соборы только охраняли предание и разъясняли его применительно “к случайным потребностям живущей во времена Церкви.” Соборные свидетельства имеют поэтому значение скорее только историческое и отрицательное, как осуждение и исключение определенных ересей или заблуждений. “Чрезвычайные действия” Духа прекратились, когда закончился и заключился Новозаветный канон. И святые апостолы передали Божественное учение своим преемникам в устном и письменном предании “всецело.” В понимании Соловьева Вселенские соборы определяли и описывали изначальную христианскую истину с новой точностью и с вяжущим авторитетом, и в этой точности и авторитете их важность и новизна, — новая ступень или степень определенности. Для его противников соборы только низлагали еретиков. Для них вся полнота почти буквально сосредоточивалась в первохристианстве, они почти решались говорить об апостольском “каталоге догматов.”
И во всей последующей истории Церкви не оказывалось никакого роста. Высказывалась даже еще более смелая догадка, что догматические определения показывают некое ослабление церковной жизни. “Справедливо ли видеть развитие истины в том, что у нас ее догматы записаны в точных определениях?” И не потому ли вообще понадобилось “записывать” и “определять,” что была утрачена первоначальная “наглядность” апостольского созерцания? Преемники апостолов, очевидно, “не могли усвоить Богооткровенную истину так же наглядно и отчетливо, как сами апостолы, потому что Господа они сами не видели и речей Его своими ушами не слышали; вместе с этим они утратили много мелких черт непосредственных свидетелей, которые бессознательно входят в душу очевидца и придают живость и силу его впечатлениям.” Процесс забывания продолжался и в дальнейшем. “Так пошло и дальше: конкретная живость истины терялась, от нее оставались формулы, слова, а слова, как известно, никогда не выражают полноты реального явления.” Единственный выход из этого неизбежного процесса и был в закреплении апостольских воспоминаний.
“Итак, наши догматы, т. е. наши догматические формулы не суть следы какого-нибудь развития, прогресса, скорее напротив, — они суть, свидетели регресса, свидетели того, что истина стала бледнеть в сознании верующих и ее пришлось закреплять словесными определениями” (см. статью Е. Л., “Развивается ли в догматическом смысле Церковь,” в журнале “Странник,” 1889 года).
Все это рассуждение есть вариация на типическую схему протестанской историографии: церковная история, как упадок. Противники Соловьева доказывали против него слишком много...
Правда Соловьева была в том, что он устаналивает метод для догматического богословия. Соловьев был ближе к еп. Сильвестру, чем его противники, и не так уж многим от него отличался. Их сближает и роднит единое чувство церковности, общее обращение к опыту Церкви. В этом опыте вся полнота истины дана сразу, но опознается и расчленяется постепенно, и описывается в обязательных определениях. Вся догматическая система и есть такое “раскрытие” единого перводогмата о Богочеловеке.
“Догматическое расчленение единой христианской истины есть господствующий факт церковной истории от начала четвертого и до конца осьмого века. Задача церковного вероучения состояла не в открытии новых истин, а в новом раскрытии одной и той же первоначальной истины.”
И значительность соборных вероопределений не столько в их старине (“напротив, в известном смысле оне были новы”), сколько в их истинности: “они принимались в силу своей внутренней связи с основным данным христианского откровения.” Соловьев сам отмечал, что у него с его противниками действительное разногласие в том, как понимать апостольское свидетельство о Церкви, как о теле Христове, — в прямом и реальном смысле, хотя и таинственном, или только в переносном. У противников Соловьева очень явно сказывается стремление ограничить власть церковного учительства; и, напротив, очевидно преувеличивается неподвижность и законченность древних преданий. Соловьев всегда старается привести богословское разумение к его первоисточникам: к опыту и к учительству Церкви. “Православие держится не одной только стариною, а вечно живым Духом Божьим.” И в этом Соловьев сходится с Хомяковым.
“Прямые и явные решения вселенской Церкви имеют для нас не одно формальное значение и не внешний только авторитет. Мы видим здесь реальное и живое проявление богоутвержденной власти, обусловленное реальным и живым действием Духа Святого...
Каждый истинный член Церкви сам нравственно участвует в ее решениях доверием и любовью к великому, богочеловеческому целому в его живых представителях. Без этого нравственного участия самой паствы, самого народа Божия в догматических актах вселенской Церкви и пастыри не могли бы проявить надлежащим образом свою духовную власть, и самый Дух Божий не нашел бы в Церкви того сочетания любви и свободы, коим привлекается Его действие. Всякое решение вселенской Церкви, будучи ее собственным действием, идущим извнутри от обитающего в ней Духа Божия, составляет положительный шаг на пути ее внутреннего развития, ее возрастания и совершенствования в полноту возраста Христова...
Развитие церковного вероучения (в связи с общим развитием Церкви) есть не теория, а факт, который нельзя серьезно отрицать, оставаясь на исторической почве...”
За Соловьевым остается бесспорная методологическая заслуга. Только историческим или “генетическим” методом и можно построить систему церковного богословия. У противников Соловьева не оказывалось именно метода. Об этой методической отсталости или беспомощности русских догматистов впоследствии очень резко говорил проф. Алексей Ив. Введенский. [24] Он указывал на совершенную недостаточность простых ссылок на тексты или свидетельства, на авторитет и послушание. Догматику нужно строить “генетическим” методом. За каждым догматом, прежде всего, нужно духовно расслышать тот вопрос, на который он отвечает: “это — аналитика естественных запросов духа относительно той или другой истины.” И затем уже нужно установить положительное свидетельство Церкви, от Писания и из предания: “и здесь отнюдь не мозаика текстов, но органический рост понятия...”
Тогда догмат оживет и откроется во всей своей умозрительной глубине. Откроется, как Божественный ответ на человеческий запрос, как некое Божественное “аминь,” во-первых. Откроется, как свидетельство Церкви, во-вторых. И, наконец, окажется “истиною самоочевидной,” которой противоречить духовно немыслимо и мучительно. “Догматика, идущая навстречу современным запросам, должна поэтому постоянно как бы заново создавать догматы, претворяя темный уголь традиционных формул в прозрачные и самосветящиеся камни истин веры...”
Так исторический метод должен сомкнуться с философским...
8. Влияние философского кризиса 60-х годов на богословие. Феофан Затворник и Иоанн Кронштадтский.
Философский кризис 60-х годов сказался и в богословии. Темы нравственные заслоняют темы метафизические...
“Сближение” Церкви “с жизнью,” о котором тогда так много говорили, можно было понимать совсем разно. Или как власть Церкви над миром, что впоследствии Вл. Соловьев называл “теократией,” стараясь воцерковить и тем обновить культуру. Или как приспособление Церкви к миру, приятие и усвоение светской и наличной культуры, как она исторически сложилась. У нас слишком часто и наивно решали этот вопрос во втором смысле. Так складывался русский церковный либерализм, более бытовой и житейский, чем богословский. То было наивное или “догматическое” приятие и оправдание мирского и даже житейского благополучия, “секулярная религия” в самом прямом смысле, без аскетического искуса.
И не трудно убедиться, что этот “секулярный” дух из немецкого источника, что это простое применение или приложение того патриархального пиетизма, того культа домашних добродетелей и уюта, какой был характерен для протестантской Германии в сороковых и даже в шестидесятых годах. Сколько “добродетельных” книг было тогда переведено по-русски или приспособлено с немецкого. “Христианскую мораль” у нас в те годы вычитывали именно из немецких книжек. Семинарская программа по нравственному богословию при уставе 1867-го года была составлена применительно к “системе” Хр. Пальмера, и, кроме того, рекомендовалась очень “Богословская этика” Р. Роте. В Московской академии придерживались Зайлера (еще под влиянием о. Ф. Голубинского). В Казанской академии Филарет Филаретов читал нравственное богословие по Де-Ветте. [25] Учебник нравственного богословия Платона Фивейского (впосл. архиепископа Костромского), вышедший в 1854-м году, был составлен преимущественно по католической системе Штапфа, изданной в сороковых годах сразу по-немецки и по-латыни. Тот же Платон перевел с латинского “Памятную книжку для священника,” изданную в Вене мехитаристами [26] (1857, р. пер. М. 1860; не было указано, что это перевод).
Изданный в 60-х годах учебник прот. П. Ф. Солярского [27] был тоже скомпилирован по немецким пособиям, сразу протестантским и католическим (“Записки по Нравственному православному богословию,” 3 тома, 1860, 1862, 1863; срв. его же “Нравственное православное богословие,” 1869, 6-ое издание 1901 года). Впоследствии была переведена с датского известная система Мартенсена [28] (переведена была и его догматика). Такое же влияние иностранных пособий чувствовалось в русской литературе по пастырскому богословию.
Очень характерна обычная переоценка нравственного момента. “Пастырское Богословие” архим. Кирилла Наумова (1853) так и было построено, как “систематическое изложение нравственных обязанностей пастыря Церкви.” На неполноту и неточность такого определения тогда же было обращено внимание: есть у пастыря обязанности выше “нравственных,” именно тайнодействия. А. Кирилл писал не под иностранным влиянием, но он отражал в своей книге дух времени. И тоже повторяется в последующее время. В практическом пастырском журнале “Руководство для сельских пастырей” в 60-х и 70-х годах всего меньше статей о священнослужении, разве решение запутанных казусов “из пастырской практики,” а всего больше о церковном учительстве. С такой же тенденцией подбирался и святоотеческий материал.
Очень характерно, что по уставу 1867-го года в семинариях Пастырское Богословие (введенное в программу, как отдельный предмет, при Пратасове, в 1838-м году) было упразднено и заменено “Практическим руководством для пастырей.” В академиях Пастырское Богословие тоже не получало развития. Любопытно, что очень нередко преподавали его миряне (как, напр., проф. Киевской академии В. Ф. Певницкий, [29] занимавший кафедру очень долгие годы)...
В академическом преподавании самым типическим представителем этого морализованного христианства и этой обмирщенной религиозности был прот. И. Л. Янышев (1826-1910), назначенный ректором Санкт-Петербургской академии после преобразования, впоследствии придворный протопресвитер и духовник. Перед тем он был заграничным священником, одно время читал богословие и философию в Петербургском Университете. Его идеалом были богословские факультеты немецких университетов. В академии для своего преподавания он выбрал нравственное богословие и педагогику, и сам выбор этот был достаточно показателен, — ибо принято было до тех пор, чтобы ректор читал догматику.
Начал Янышев свое преподавание лекцией о своих предшественниках, на текст: “На седалищи Моисеови седоша книжницы и фарисеи.” Слушатели поняли, что он имел в виду Макария и Иоанна...
Преподавание Янышева показалось неожиданным и слишком смелым. Академический совет затруднился одобрить к напечатанию докторское сочинение своего ректора, представленное в 1872-м году в рукописи, под заглавием: “Состояние учения о совести, свободе и благодати в православной системе богословия и попытка к разъяснению этого учения.” Сочинение Янышева было написано в виде критического разбора догматических определений обсуждаемых понятий в патриарших граматах, в Православном Исповедании и Катихизисе, у Дамаскина и в “известных” русских руководствах (у Макария). Янышев не находит в этих книгах “достаточно определенного учения” и предпочитает искать этой определенности другим методом, психолого-философским. Официальные рецензенты его рукописи нашли, что его воззрения “иногда, по крайней мере по видимости, не совпадают с изложением учения о сих предметах в наших богословских системах и символических книгах.” Поэтому Совет академии и затруднился под своей ответственностью пропустить к изданию книгу, исходной точкой которой служит обсуждение и критика “таких изложений веры, которые авторизованы благословением Святейшего Синода” (Протокол Совета от 14 окт. 1872). Сочинение в Синоде было и вовсе остановлено в виду “значительного несходства” развиваемого в нем учения с общепринятым и с символическими книгами (указ 19 марта 1873 г.). Заключение о книге Янышева в Синоде давал Макарий...
Свои лекции Янышев смог издать только в конце 80-х годов, и очень интересно сравнить его курс с изложением нравственного богословия у еп. Феофана Говорова, который преподавал в Санкт-Петербурской академии перед Янышевым, — см. его “Путь ко спасению.” Это книги совсем о разном, и различие это очень типично. Янышев излагает, в сущности, естественную мораль, и в очень оптимистическом духе, и ее выдает за православную нравственность. Это есть, прежде всего, оправдание мира. “Земные блага” приемлются, как необходимая среда, вне которой невозможно нравственное возрастание, — “то, без чего невозможна добродетель.” Сюда относится не только собственность или имущество во всех его видах, но и само “удовольствие,” сопряженное с приобретением и обладанием, и все “земные радости.” Монашество и аскетика с этой точки зрения не могут быть одобрены. В созерцательной мистике аскетов Янышев находил один только квиетизм. “Аскетизмом” он называл трудовую власть разума и воли над всем внешним и невольным, иначе — выработку характера (срв. die innerweltliche Askese в протестантизме). И в таком истолковании “аскетизм” оказывается почти тожественным с “житейским благоразумием...”
Взгляды Янышева совсем не были оригинальны, он только продолжал традицию того “облегченного православия,” которого в предыдущем поколении самым ярким представителем был прот. Павский. Впоследствии и пришлось перестраивать нравстненное богословие заново, как учение о духовной жизни...
С начала прошлого столетия вновь оживает в России созерцательное монашество, всего больше под влиянием учеников великого старца Паисия, расселяющихся теперь по различным русским обителям и скитам. Восстанавливается умное делание и старчество. И это отвечало какой-то глубокой потребности. Искание духовной жизни захватывает очень многих, и в самых разных социальных пластах русского общества и народа. Очень остро и резко ставится вопрос о личном пути, о христианской личности. И новое веяние очень скоро становится во всем чувствительно и заметно. “Русский инок” в синтезе Достоевского появляется не случайно. И не случайно в Оптиной пустыни перекрещиваются пути Гоголя и старших славянофилов, К. Леонтьева, Достоевского, Влад. Соловьева и Страхова, и даже Льва Толстого, приходившего сюда в час немой предсмертной тоски и непонятого томления...
Оптина пустынь была не единственным духовным очагом, как и “молдавское влияние” не было единственным, не было и решающим. Были и тайные посещения Духа. Во всяком случае, начало прошлого века в судьбах русской Церкви отмечено и ознаменовано каким-то внутренним и таинственным сдвигом. Об этом свидетельствует пророческий образ преподобного Серафима Саровского (1759-1833), его подвиг, его радость, его учение. Образ вновь явленной святости оставался долго неразгаданными В этом образе так дивно смыкаются подвиг и радость, тягота молитвенной брани и райская уже светлость, предображение уже нездешнего света. Старец немощный и притрудный, “убогий Серафим” с неожиданным дерзновением свидетельствует о тайнах Духа. Он был именно свидетелем, скорее чем учителем. И еще больше: его образ и вся его жизнь есть уже явление Духа. Есть внутреннее сходство между преподобным Серафимом и святителем Тихоном. Но преподобный Серафим еще более напоминает древних тайновидцев, преподобного Симеона больше других, с его дерзновенным призывом искать даров Духа. Преподобный Серафим был начитан в отцах...
В его опыте обновляется исконная традиция взыскания Духа. Святость преподобного Серафима сразу и древняя и новая. “Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего.” И нет других целей, и быть не может, все другoe должно быть только средством. Под елеем, которогo не достало у юродивых дев Евангельской притчи, преподобный Серафим разумел не добрые дела, но именно благодать Всесвятого Духа. “Творя добродетели, девы эти, по духовному своему неразумию, полагали, что в том то и дело лишь христианское, чтобы одне добродетели делать,… а до того, получена ли была ими благодать духа Божия, достигли ли оне ее, им и дела не было...”
Так со властью противопоставляется морализму — духовность. Смысл и исполнение христианской жизни в том, что Дух вселяется в душе человеческой, и претворяет ее “в храм Божества, в пресветлый чертог вечного радования.” Все это почти, что слова преподобного Симеона, ибо опыт все тот же (и не нужно предполагать литературное влияние)...
Дух подается, но и взыскуется. Требуется подвиг, стяжание. И подаваемая благодать открывается в некоем неизреченном свете (срв. описание Мотовилова в его известной записке о преподобном Серафиме)...
Преподобный Серафим внутренно принадлежит византийской традиции. И в нем она вновь становится вполне живой...
В русском церковном развитии святость и ученость оказались разомкнуты. В традиции старца Паисия приоткрывалась возможность нового смыкания и замыкания. Всего важнее было творческое восстановление перерванной когда-то византийской созерцательной и аскетической традиции. Это вскоре сказалось и в литературе. В сороковых годах в “Оптиной Пустыни” было предпринято издание святоотеческих переводов старца Паисия и его учеников, все еще остававшихся в рукописи, хотя и достаточно распространенных в самодельных списках. Инициатива издания принадлежала оптинскому старцу о. Макарию (1788-1860) и И. В. Киреевскому. Намерение это было поддержано о. Ф. А. Голубинским, который мог быть очень полезен по своему званию и должности духовного цензора, и проф. С. П. Шевыревым. Очень сочувственно отнесся и Филарет Московский, хотя его впоследствии несколько смущало: “уж не слишком ли много вдруг Оптинцы хотят издавать.” Голубинский объяснил, что они торопятся воспользоваться его участием и помощью, “без чего, вероятно, ничего не было бы издано.” Первым было издано “Житие” старца Паисия, с приложением его некоторых писем и писаний его и его друга, старца Василия Поляномерульского (1847); еще раньше в “Москвитянине” появилась статья о ст. Паисии (в 1845 году, декабрь). Затем были изданы в переводе старца Паисия и других лиц: Никифора Феотокия слова огласительные (писатель XVIII-го века, издатель Исаака Сирина в греческом переводе, архиепископ Астраханский), Нила Сорского предание учеником, Варсонофия и Иоанна вопросоответы, Симеона Нового Богослова слова, Феодора Студита оглашения, Максима Исповедника слово о любви (перевод Тертия Филиппова), Исаака Сирина творения, аввы Фалласия, аввы Дорофея (перевод о. Климента Зедергольма), Марка Подвижника слова, Орсисия слова (с латинского переводил о. Климент), житие препподобного Григория Синаита и др. Кроме названных лиц в переводе участвовали из монастырской братии: о. Климент Зедергольм, о. Леонид Кавелин (впоследствии наместник Троицкой Лавры), о. Ювеналий Половцов (скончался в сане архиепископа Литовского), о. Амвросий Гренков (1812-1891), впоследствии знаменитый оптинский старец. Под смотрением о. Амвросия был издан “полуславянский” перевод Лествицы, из русских — две книги святителя Иоанна Максимовича: “Царский путь Креста Господня” и “Илиотропион,” кроме того, “Письма и жизнеописание старца Макария” и т. д. Оптинское издательство было неким повторением дела самого старца Паисия, собравшего вокруг себя переводческий кружок. И в короткий срок в русский читательский обиход был введен ряд образцовых книг для духовного чтения и размышлений. Духовный спрос на эти книги уже существовал...
К старым и переводным книгам присоединялись новые и самостоятельные опыты. Прежде всего нужно назвать епископа Игнатия Брянчанинова (1807-1867). Поступив в молодые годы в монастырь, он довольно быстро прошел обычную лествицу монашеских послушаний и много лет был настоятелем Сергиевской пустыни, неподалеку от Петербурга, потом епископом Кавказским (в Ставрополе). Это был очень строгий ревнитель аскетической традиции. Он тоже примыкает к традиции старца Паисия, через учеников известного о. Леонида, впоследствии Оптинского старца. “Аскетические опыты” епископа Игнатия написаны с большим вдохновением и очень выразительно. Начертывается идеал духовной трезвости, с особенным предостережением против мечтательности. Но аскетическое приготовление, смирение и самоотречение, не заслоняет таинственной цели всего пути: стяжание мира Христова, встреча с небесным Странником и Гостем ищущих душ. “Ты приходишь! — я не вижу образа пришествия Твоего, вижу Твое пришествие...”
У Игнатия всегда чувствуется противоборство с мистическими влияниями Александровской эпохи, которые были сильны и в его время. Для него это была прелестная и мнимая духовность, не трезвая, отравленная гордыней, слишком торопливая и он не одобрял вовсе чтения инославных мистических книг, в особенности же “Imitation.” Есть некая жесткость и в том, как он говорит о светской культуре. “Ученость — светильник ветхого человека.” И он приходит почти что к агностицизму. Есть всегда оттенок какого-то разочарования, почти надрыва, в его словах об отречении. Странным образом, в его личном облике нетрудно найти черты все той же Александровской эпохи. Этим, может быть, и объясняется вся резкость его отрицаний, борьба с самим собой. В записках У. Пальмера о его русской поездке есть очень интересный рассказ о Сергиевской пустыни, где Игнатий тогда был настоятелем, — по-видимому, именно с Игнатием Пальмер всего больше и говорил (это было в 1840 году). С неожиданной откровенностью Пальмеру рассказывали здесь о внутреннем кризисе русского духовенства.
“Наше духовенство чрезвычайно легко поддается новым и странным мнениям, читает книги неправославных и даже неверующих сочинителей, лютеран и других. Духовная академия заражена новшественными началами и даже “Христианское Чтение” заражено ими, хотя в нем и печатаются многие переводы из древних отцов. Россия пожалуй, находится недалеко от взрыва в ней еретического либерализма. У нас есть хорошая внешность: мы сохранили все обряды и символ первобытной Церкви; но все это мертвое тело, в нем мало жизни. Белое духовенство насильно сдерживается в лицемерном православии только боязнью народа...”
Эта характеристика интересна по той резкости, которой она окрашена. В ней чувствуется вся мера расхождения, если и не разрыва, двух традиций церковных, монашеской и мирской. “белой” и “черной.” И в такой перспективе образ еп. Игнатия становится понятнее, со всей его недоверчивостью и отчуждением...
И, однако, он оставался вполне современным человеком по своей психологии и умственным привычкам. Всего резче это сказалось в его известном споре со святителем Феофаном о природе духов и ангелов. Игнатий решительно отвергал всякую возможность что-либо из тварного бытия считать невещественным вполне. Вполне невещественным можно считать только Божество, и не подобает в этом отношении уравнивать или приравнивать тварь и Бога. Ограниченность предполагает известную вещественность, связь с пространством и временем. И, наконец, душа связана и сораспростерта телу, — вряд ли можно и саму душу считать совсем невещественной. Отчасти в этих доводах повторяются некоторые отеческие мотивы, но еще сильнее чувствуется влияние идеалистической философии. Сам Игнатий ссылается на относительность понятия вещества по учению современной науки и отожествляет душевное с эфирным. “Душа эфирное весьма тонкое летучее тело, имеющее весь вид нашего грубого тела, все его члены, даже волосы, его характер лица, словом, полное сходство с ним.” Это, во всяком случае, гораздо больше напоминает романтическую натурфилософию, чем отеческую традицию. Демоны входят и выходят из человека, как воздух при дыхании...
Феофан в своих возражениях подчеркивал, всего больше, простоту души, — и вряд ли возможно считать сознание или совесть только чем-то “эфирным!” Для объяснения связи души и тела нет повода овеществлять душу, — достаточно допустить их динамическое сродство. Впрочем, Феофан соглашался допустить, что душа, как бы одета некой “оболочкой, тонкой, эфирной.” Ссылки на химию и математику вряд ли убедительны в богословском рассуждении. Доводы Феофана вполне исчерпывают вопрос...
Не менее характерно и то, что у Игнатия учение о воскресении тела остается недосказанным. То верно, что он во всей природе видел какое-то тайное знамение или символ “воскресения мертвых.” Но все его известное “Слово о смерти” (1863 года) построено так, как если бы не было воскресения. Развоплощение души изображается почти в платонических чертах. Смерть есть высвобождение души из уз грубой телесности. Если припомнить, что для Игнатия уже сама душа тонко вещественна по природе, то воскресение оказывается невозможным и ненужным, разве в виде нового огрубления жизни...
Верным и типическим продолжателем отеческой традиции в аскетике и в богословии был Феофан Говоров (1815-1894), одно время епископ Тамбовский, позже Владимирский. Правящим архиереем он пробыл недолго, и затем жил на покое в Вышенской пустыне, Тамбовской епархии, почти двадцать восемь полных лет. Образ его жизни в пустыни был очень строг, и через несколько лет пребывания в монастыре он замкнулся почти в безусловное уединение, никого к себе не принимая. Поэтому его обыкновенно и называют Затворником. Но сам Феофан очень не любил, когда говорили о его “затворе.” “Из моего уединения сделали затвор. Ничего тут затворнического нет. Я заперся, чтобы не мешали, но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества.” Он всегда подчеркивал, что заперся “для книжных занятий,” — “так выходит, что я книжник и больше ничего.” Характерно, что еще в Академии в своем прошении о допущении к постригу он упоминал о богословских занятиях: “имея постоянное усердие к занятию богословскими предметами и к уединенной жизни, я, чтобы соединить то и другое на предлежащем мне служении Церкви, положил обет посвятить жизнь свою монашескому званию.” И с епископской кафедры он сходит впоследствии снова ради уединенной жизни и богословия. Но при этом он не прерывает письменного общения с миром, продолжает свой пастырский и миссионерский подвиг, как писатель. Его личная переписка была тоже очень обширной. Для очень многих он стал заочным духовником. Значения внешнего затвора Феофан не преувеличивал. Напротив, и другим советовал не торопиться с затвором. “Когда молитва твоя до того укрепится, что все будет держать тебя в сердце пред Богом, тогда у тебя и без затвора будет затвор...
Этого затвора ищи, а о том не хлопочи. Можно и при затворенных дверях по миру шататься, или целый мир напустить в свою комнату...”
Феофан окончил Киевскую академию в один год с Макарием Булгаковым, и оба были пострижены почти одновременно. Почти одновременно они были переведены в Петербургскую академию, Феофан в звании бакалавра по нравственному и пастырскому богословию. С этого времени и начинается его систематическая работа над аскетическими памятниками. Феофан старался все учение о “христианской жизни” перестроить по началам святоотеческой аскетики. Свои тогдашние лекции в Академии он впоследствии обработал и издал; так составилась его известная киига: “Путь ко спасению” (первое издание в 3 вып., 1868-1869 гг.). Феофан отмечает помощь и одобрение Игнатия Брянчанинова, тогда Сергиевского архимандрита...
В Академии, при Пратасове и ректоре Афанасии, Феофану было очень неуютно. Ученой должностью он стал болезненно тяготиться. Несколько ободрился он только с назначением в должность ректора Евсевия Орлинского, из Московской академии, близкого друга А. В. Горского. Но вскоре он с радостью принял назначение в Иерусалим, в состав духовной миссии, образованной тогда под начальством Порфирия Успенского, еще архимандрита. Впоследствии Феофан еще дважды возвращался на службу в Петербурскую академию: сперва бакалавром по каноническому праву, совсем ненадолго, и, наконец, — ректором. Поездка на Восток была событием в жизни Феофана. Его церковный кругозор очень раздвинулся. В мировоззрении Феофана есть какая-то вселенская смелость, большая духовная свобода и гибкость, свобода от быта. В то же время Феофан овладел вполне греческим языком...
Литературная деятельность Феофана развивается особенно в годы затвора. Он сразу же намечает целую систему работ. Во-первых, он принимается за толкование Нового Завета. Во-вторых, он решает перевести по-русски “Добротолюбие.” Этой работы хватило на двадцать лет...
Феофан успел истолковать только послания aпостола Павла (без послания к Евреям). Евангелие, думал он, нужно не столько толковать, сколько размышлять над ним; так составилась его “Евангельская история о Боге Слове.” Феофан всегда опирается на святоотеческие толкования, всего больше на Златоуста, Феодорита. Но он очень охотно пользовался и новыми западными комментариями, запасал себе книги и “самых крутоголовых,” но особенно любил комментарии английские. В его библиотеке было много иностранных книг, в частности, собрания Миня, и не только его “Патрология,” но и другие его серии, словари, проповедники, курс богословия. Из церковных историков он любил всего больше Флери и очень не любил Неандера. Его эрудиция была скорее старомодной. Но это вполне возмещалось его чуткостью и умением схватывать дух первоисточников. Толкования Феофана были его вкладом в русское библейское дело, были важным дополнением к русскому переводу Нового Завета...
Уже с 1873-го года Феофан начинает работать над переводом аскетических книг. В 1876-м году вышел I-ый том русского “Добротолюбия;” работа над продолжением растянулась на много лет, и V-й, последний, том вышел уже только в 1890-м. За ним через два года последовал еще сборник “Древних иноческих уставов,” как бы VI-ой том. Русское “Добротолюбие” Феофана не совпадает с греческой “Филокалией,” а потому расходится и со славянским “Добротолюбием” старца Паисия, вполне воспроизводившего греческий образец. Феофан же кое-что из греческого сборника опустил, очень многое прибавил совсем заново, иное оставил только в сокращении или пересказе. Он ведь переводил книгу для чтения и руководства. Кроме того, были переведены “Слова” преподобного Симеона Нового Богослова, с новогреческого (два выпуска, перв. изд. 1879 и 1881). Еще следует упомянуть его перевод “Невидимой брани” Никодима святогорца, тоже с новогреческого...
Книги и переводы Феофана издавали обыкновенно афонцы. Впрочем, иные на Святой Горе считали его слишком ученым: “по богатству ума не давалось сокровище простоты сердечной...”
Феофан участвовал и во многих русских духовных журналах, особенно в “Душеполезном Чтении,” одно время и в “Домашней Беседе” Аскоченского (там были напечатаны, напр., его статьи против Игнатия Брянчанинова)...
Очень много времени уходило у Феофана на переписку, и нередко его письма разрастались в статью или проповедь. Одна из его главных книг так и составилась из частных писем: “Письма о христианской жизни” были писаны первоначально кн. П. С. Лукомской и затем уже приспособлены для издания (перв. изд. 1860 г.). Таких сборников своих писем сам Феофан издал несколько. До своего ухода в монастырь Феофан много проповедовал, всегда также на темы духовной жизни, “и как на нее настроиться...”
Из своего затвора Феофан очень внимательно и беспокойно следил за внешней жизнью Церкви. Его очень смущало молчание и какое-то бездействие духовных властей. Он боялся: “того и гляди, что вера испарится,” и в обществе и в народе; “попы всюду спят.” “Через поколение, много через два иссякнет наше православие...” И он недоумевал, почему другие не тревожатся и не смущаются вместе с ним. “Следовало бы завести целое общество апологетов, — и писать, и писать...”
В действенность официальных миссий и даже миссионерских обществ он совсем не верил. Он мечтал о подлинном апостольском хождении в народ. “Поджигатели должны сами гореть. Горя, ходить повсюду, — и в устной беседе зажигать сердца...”
Особенно настаивал Феофан на пересмотре и даже переработке богослужебных книг. О непонятности и ошибках принятого перевода он не раз говорит очень резко: “иные службы у нас такие, что ничего не разберешь;” “наши иерархи не скучают от нелепости потому, что не слышат, сидя в алтаре,... потому не знают, какой мрак в книгах, и это не по чему другому, как по причине отжившего век перевода.” Всего лучше было бы предпринять заново полный перевод всего круга, “упрощенный и уясненный,” и надо бы приступить к работе сегодня-завтра. Празднование 900-летия Крещения Руси в 1887-м году казалось ему подходящим и достаточным поводом. “Новый перевод книг богослужебных неотложно необходим.” И ничего не было сделано. Конечно, в Синоде было некогда об этом думать, все дела. Между тем, именно от неисправности богослужения растет сектанство. Феофан идет и дальше.
“Книги богослужебные по своему назначению должны быть изменяемы... У греков ведь идет постоянное поновление Богослужебных книг... Я сличаю октоих... Очень, очень много у греков новенького...”
И такая же творческая свобода постоянно сказывается в отдельных советах Феофана: “Настоящего иночества вам хочется? Но где же вы его найдете? Оно скрыто и невидимо: видимы только всякие послабления. Иной раз приходит на мысль, что лучше не видеть монахов, а уединившись жить строго по примеру древних иноков.” Ведь и старец Паисий не нашел “настоящего руководителя.” Лучше жить общим советом, вдвоем или втроем, и искать руководства в книгах, в Слове Божием и у отцов святых. Важно только одно: стяжать духовную жизнь. “Один Бог, да душа, — вот монах.” “Келлия его окно на небо.” “Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское будь или не будь все равно.” Важно сознательное стояние перед Богом, “умное предстояние Богу в сердце.” Это и есть молитва, даже без слов. “Хоть никогда не берите в руки молитвенника... Своя из сердца молитва делает ненужной молитву читательную.” Не нужно чужих слов, когда есть свои...
В 70-х годах у Феофана вышло разногласие с о. Иоанном Кронштадтским о молитве Иисусовой и о призывании имени Иисусова. Феофан написал об этом особую книгу, но издана она не была...
Религиозный идеал Феофана всего меньше можно назвать бытовым. И не в прикладных примечаниях об “относительных обязанностях” христиан разных состояний можно распознать его замысел. Это всего прежде идеал духовной жизни...
Тема Феофана всегда о душе, стоящей перед Богом, в сокрушении, и в покаянии, или в молитве. “Вся надежда тогда Спаситель, а отсюда непрестанное: Господи помилуй...”
Христианин восходит к Богу, через раскаяние и покаяние, и живет в Нем, “и в изумлении погружается в Его непостижимой беспредельности, и пребывает в Божественном порядке,” благоговейно чтит и созерцает этот Божественный порядок бытия и жизни...
Отеческую аскетику Феофан сочетает с романтической психологией и натурфилософией. В свое время, в студенческие годы в Kиeвской академии, он был слушателем Феофана Авсенева, и его лекций по психологии (по Шуберту, “История души”) не забывал и в своем “уединении.” В одном из своих писем, и с прямой ссылкой на Авсенева и Шуберта, Феофан развивает очень любопытные мысли о всеобщей одушевленности мира, о “лествице невещественных сил” в природе. Это — силы, “строящие вещи,” в пределах промыслительного порядка. И “всякая вещь имеет свою невещественную силу, которая ее образует и держит, как ей положено при создании.” Эти силы “душевного свойства,” вещам присуща некая “способность инстинктуального чутья.” Совокупность этих сил образует “душу мира.” Это их общий субстрат. Мировая душа и есть единственный объект прямого воздействия Божия, на отдельные вещи и “силы” Бог воздействует “не непосредственно.” “Идеи всех тварей” вложены в мировую душу при ее создании, и она их “инстинктивно” осуществляет, в надлежащие сроки, или “выделывает их,” “по мановению и возбуждению Божию.” Есть в природе некая отзывчивая и творческая мощь. “Когда Бог говорил: да изведет земля былие травное, то ему внимала душа мира и исполняла повеленное...”
Мир двойствен в своем составе: “душа” и “стихия,” т. е. материя. Из этой “стихии” мировая душа и “выделывает” отдельные вещи. “В этой душе есть инстинктивно чуемый образ того, что надо сделать из стихии...”
Есть градация душ: “некая химическая душа,” и выше — растительная, затем — животная. Все эти души, низшие духа, в свой черед “погружаются в душу мира,” растворяются в своем первичном субстрате. “А душа человека не может туда погрузиться, но духом увлекается горе, — это по смерти.” Дух отделяет человека от природы, — и в духе даны человеку сознание и свобода ...
“Когда надлежало сотворить человека, то не земле дается повеление: да изведет, а в тайне Пресвятой Троицы произносится: “Сотворим.” Когда Бог творил человека, то образовал прежде тело из персти. Это тело что было? Оно было живое тело, было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него дух Свой, и из животного стал человек ангел в образе человека.” Эта двойственность человеческого состава, естественного и духовного, предопределяет задачу человеческой жизни: дух должен овладеть естеством...
Феофан отмечает сходство изложенной теории с учением Лейбница о монадах. Эта романтическая теория объясняла для него явления внушения и ясновидения, которыми он очень интересовался. “С этим удобно мирится и падение и искупление.” Однако, Феофан подчеркивает, что это только догадка. И о материальном мире мы меньше знаем, чем о духовном, и навсегда останемся “на поверхности,” ибо нам не нужно знать больше и идти вглубь.
“Владение стихиями и силами, действующими на земле, будет расширяться; но это не ведение, а только умение пользоваться тем, что открывается само собою. Суть дела навсегда сокрыта для нас.”
Впрочем, разум духовный и прозревший может проникнуть до “сокровенной мысли,” вложенной в каждую вещь, как “животворная ее сущность.” Это ведение доступно только человеку облагодатствованному: ибо та область “есть собственно область Божественного ума, где лежат умственные сокровища Бога-Царя.” Да не надеется кто туда вторгнуться насилием и самовольно...
Феофан не строил системы, ни догматической, ни нравоучительной. Он хотел только очертить образ христианской жизни, показать направление духовного пути. И в этом его несравненное историческое значение. Он продолжил и докончил подвиг старца Паисия. Он осуществил русское Добротолюбие и сумел свое живое мировоззрение построить вполне в отеческом стиле и духе. Тем резче обозначался с тех пор этот трагический раскол в русском церковном обществе: раскол и расхождение “аскетического” и “облегченного” православия, духовной аскетики и морализма...
В этой связи нужно назвать здесь имя о. Иоанна Сергиева (Кронштадтского) (1829-1908). Его значение для русского богословия еще до сих пор вполне не опознано. Сложилась даже привычка видеть в о. Иоанне Кронштадтском только практического пастыря, благотворителя и молитвенника. И редко кто читает его замечательный дневник: “Моя жизнь во Христе,” как богословскую книгу. Конечно, в ней нет богословской системы, но есть богословский опыт и о нем свидетельство. Это дневник созерцателя, а не моралиста. И молитва не лирика, не только устремление души, но именно ее встреча с Богом, веяние Духа, духовная реальность (срв. суждение о. Иоанна о молитве Иисусовой и имени Божием). С дерзновением и властью о. Иоанн свидетельствует о тайне Церкви, как единого тела, и том, как она жива и действительна во Святейшей Евхаристии.
“Мы одно тело Любви... Тверди все — одно. Мы, говори: одно...”
О. Иоанна можно сопоставлять с вождями современного т. наз. “литургического движения” на Западе. Евхаристия утверждается вновь, как средоточие христианского бытия. Оживает и восстанавливается таинственное или сакраментальное восприятие Церкви, так ослабевшее за последние столетия, и всего больше от моралистических соблазнов. И в этом закладывается вновь основание для богословия теоцентрического, в преодоление искушений богословского гуманизма. “Все Божие, ничего нашего...”
У о. Иоанна вновь открывается “забытый путь опытного богопознания...” И в этом “опыте,” духовном и евхаристическом, преодолевается всякий богословский “психологизм.” Духовная жизнь и опыт таинств, таков единственный надежный путь к догматическому реализму. Это возвращение к духу святых отцов (срв. связь о. Иоанна в его молодые годы с Сергиевой пустынью и учениками еп. Игнатия). И возвращение не в исторической симпатии только, и не в подражании, но в обновлении или возрождении самого святоотеческого духа. “Церковь есть вечная истина...”
Но еще предстояла борьба с приражениями морализм.
9. Религиозный кризис 60-70 годов. Лев Толстой, как зеркало русской интеллигенции.
Семидесятые годы были временем острого религиозно-моралистического возбуждения, на верхах и в низах сразу. “Хождение в народ,” это была одна из вспышек. И еще с 60-х годов усиливается сектантское движение в народе. Два мотива скрещиваются. Во-первых, “искание правды,” тревога о неправде окружающей и собственной жизни; и к этому часто присоединяется еще какое-то апокалиптическое беспокойство, испуг или надежда, страх перед Антихристом или чаяние Грядущего (срв. секту “странников” и адвентистов). И, во-вторых, жажда какого-то “обращения,” или “пробуждения,” какого-то решающего поворота или перелома жизни к лучшему. То была новая волна пиетизма, разливающаяся теперь в новых социальных слоях. Южнорусский штундизм в значительной мере развивается под прямым влиянием сходных движений в немецких колониях, где ведь селились именно сектанты {между прочим, “пробужденные” из Баварии и Вюртемберга уже в 20-х годах). Любопытно, что “Победная повесть” Юнга-Штиллинга получила большое распространение у молокан.
Для всех сект того времени характерна эта нравственная чувствительность, повышенная впечатлительность совести. Это был рецидив сентиментализма, новый пароксизм этого упрощающего душевного утопизма, слишком однозначно разрешающего трагические противоречия и столкновения жизни добрыми чувствами и советами...
Подобное же движение наблюдаем и на светских верхах. Таков, прежде всего, “великосветский раскол,” вызванный в Петербурге в 70-х годах проповедью лорда Г. В. Редстока [30] (срв. еще пропаганду ирвингиан [31] в те же годы). Это была типичная проповедь “обращения” или “возрождения” (“revival”), “пробуждение” сердца, “оправдание верою,” возбуждение добрых христианских чувств. Сам Редсток всего больше сочувствовал, кажется, Plymouth-Brothers. [32] Очень ценил Гион и Юнга-Штиллинга, имел апокалиптические предчувствия. Интересен отзыв о нем графа А. А. Толстого. Она пишет о нем Льву Толстому скорее с сочувствием: “милейший, добрейший сектант.” Но сразу же открывает его слабое место: “Природу человеческую он вовсе не знал, и даже не обращает на нее внимания, потому что при его системе каждый человек может в секунду развязаться со своими страстями и дурными наклонностями только по одному желанию идти за Спасителем... Не was a complete unbeliever. I spoke with him in the garden, we prayed together and he went away a christian.” Это слова самого Редстока...
Русские последователи Редстока основали в 1876-м году “Общество поощрения духовно-нравственного чтения” (главные деятели: В. А. Пашков, бар. М. М. Корф, гр. А. А. Бобринской, кн. М. М. Дондукова-Корсакова, Ф. Г. Тернер, отчасти Н. С. Лесков). Это было в стиле прежних “библейских обществ,” но кое-что привзошло сюда и от “хождения в народ,” и очень ярко был выражен филантропический мотив (напр, посещение тюрем и чтение Священного Писания заключенным). Не случайно были теперь переизданы для распространения разные брошюры, русские и переводные, изданные в Александровское время. Сперва новые проповедники не отделялись от Церкви открыто. Но очень скоро начинает расти сектантская исключительность, завязывается связь с другими сектами (с духоборами, баптистами и т. д.). Власти вмешиваются. Молитвенные собрания “пашковцев” были запрещены и главным деятелям в 1884-м году пришлось уехать из России...
В такой исторической обстановке религиозный кризис и “обращение” Льва Толстого в конце 70-х годов перестает казаться обособленным и единичным эпизодом. И становится понятной психологическая влиятельность Толстого...
В своей “Исповеди” Толстой сам рассказал свою жизнь по типической схеме “обращения,” хотя и не внезапного. Он был развратен и зол, и вот — прозрел, очнулся, и понял. Это уже истолкование, не рассказ...
Обыкновенно вся жизнь Толстого и представляется под знаком такого решительного перелома. Из “язычника” он стал “христианином,” и вместо художника превратился в проповедника и моралиста...
Эта привычная схема очень и очень неточна. И, прежде всего, сама “Исповедь” есть художественное произведение, а не наивное признание, и в манере давно уже свойственной Толстому, начиная с его дневников молодости, с его “Франклинова журнала,” “журнала для слабостей...”
Конечно, в конце 70-х годов он пережил очень значительное потрясение. Это и был его “религиозный кризис.” Но это был уже не первый “кризис” в жизни Толстого. И это бурное душевное потрясение не означало еще перемены в мировоззрении. То была точно судорога в неразмыкаемом психическом круге. То был мучительный опыт. Но круг так и не разомкнулся...
В кризисе Толстого два слагаемых. Первое есть некое недоумение. “На меня стали находить минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще, и все в той самой форме. Эти остановки выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?” Это был острый приступ рефлексии, навязчивое самовопрошание о смысле жизни, о смысле отдельных поступков. И всегда был одинаковый ответ. “Истина была та, что жизнь есть бессмыслица...”
Второе слагаемое глубже. То была тяга к смерти, именно тяга, влечение, роковая и влекущая сила. “Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотения. Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее, и между тем чего-то еще надеялся от нее, — и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни.” Здесь так характерен этот двойной аффект страха, аффект метафизического отчаяния. “Я не могу видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно истина. Остальное все ложь. А истина одна смерть.” То был страх перед конечным исчезновением или уничтожением: “есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежной, предстоящей мне смертью?” Это делало и саму жизнь невозможной, — зачем? Ибо “придет смерть, которая уничтожит все.” То был ужас небытия. То был испуг оставленности, покинутости в мире. “Это было чувство страха сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежда на чью-то помощь...”
И кризис разрешился тогда, когда родилось новое чувство жизни, когда вернулась уверенность, что в мире человек не один. “И странно, что та сила жизни, которая возратилась ко мне, была не новая, а самая старая, — та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни...”
Это последнее признание особенно важно. Толстой сам признает и свидетельствует, что нового ничего не родилось, что сам он не переменился. Изменилось только самочувствие. Здесь не было встречи, не было мистического опыта, откровения, восторжения. Просто стало вдруг ясно: “Знать Бога и жить одно и то же. Бог и есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога…”
Это предел “самой свирепой имманенции,” [33] — никакого просвета, никакого разрыва, все сплошно...
В опыте Толстого есть одно решительное противоречие. У него несомненно был темперамент проповедника или моралиста, но религиозного опыта у него вовсе не было. Толстой вовсе не был религиозен, он был религиозно бездарен. В свое время это очень смело отметил Овсянико-Куликовский. [34] В учении Толстого он видел только суррогат религии, годный разве “для группы образованных сектантов” Овсянико-Куликовский судил, как безрелигиозный гуманист, но наблюдал он верно. “Его учение сухое, рассудочное, рационалистическое. Это религия не души, а силлогизмов...”
Учение Толстого есть скорее особого рода моральный позитивизм, отчасти напоминающей стоиков. И Толстой действительно ценил и Эпиктета, и Сенеку. “Это азбука христианской истины...”
И когда, после своего “кризиса,” Толстой продолжал искать веру, он в действительности не столько искал, сколько испытывал верования других, исходя из своих давних и не менявшихся предпосылок. Свое “христианское” мировоззрение Толстой извлек вовсе не из Евангелия. Евангелие он уже сверяет со своим воззрением, и потому так легко он его урезывает и приспособляет. Евангелие для него есть книга, составленная много веков тому назад “людьми малообразованными и суеверными,” и его нельзя принимать все целиком. Но Толстой имеет в виду не научную критику, а просто личный выбор или отбор.
В одной из позднейших статей он предлагает очень характерный метод. Пусть каждый читает Евангелие с карандашами в руке, и отмечает, что ему понятно, — красным слова Христа, синим другие места. Только отмеченное существенно в Евангелии, — “что вполне просто и понятно.” В таком отборе все должны приблизительно совпасть по силе единства разума. “Прежде всего, надо верить в разум, а потом отбирать из писаний, — и еврейских, и христианских, и магометанских, и буддийских, и китайских, и светских современных, — все, что согласно с разумом, и откидывать все, что несогласно с ним...”
Здесь удивляет это наивное доверие к здравому смыслу. “Ошибка может быть во всем, но только не в разуме. И разойтись люди могут только тогда, когда они будут верить разным преданиям человеческим, а не единому, у всех одинаковому, и всем непосредственно от Бога данному разуму.” У Толстого было несомненное искание духовной жизни, но отравленное сразу же и искаженное его безудержной рассудочностью. Толстой умел угадать в “Невидимой брани” Никодима Святогорца “прекрасную книгу,” но мерил ее насильственным мерилом “понятности” и решал, что нужно “выпустить лишнее и неверное.” Толстой читал и жития святых, и творения отцов и аскетов — и снова все отбирал и подбирал, опуская догматы и чудеса. Это именно система переделанного христианства...
Характерна одна из записей в дневнике Толстого еще в 1852-м году. “Верую во единого, непостижимого, доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие за дела наши. Не понимаю тайны Троицы и рождения Сына Божия, но уважаю и не отвергаю веру отцов моих.” Впоследствии именно этим “непониманием” Толстой и разлагает “веру отцов.” Это его основной и повторяющийся довод...
Любопытно, что его основной религиозный замысел определился очень задолго до “кризиса.” Очень важна запись в дневнике, под 5 марта 1855 г. “Разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать эту мысль следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соблазнению людей религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня.” Неясно, под каким впечатлением сделана эта запись. Есть здесь некоторое сходство с утопическим социализмом французским, но вряд ли Толстой им когда-нибудь занимался.
Еще неожиданнее отметка в дневнике 1860 года (по случаю смерти брата), — “пришла мне мысль написать материалистическое евангелие, жизнь Христа-материалиста...”
Во всяком случае, религиозная тема привлекала Толстого уже задолго до его последнего “обращения.” И вся его душевная жизнь развертывается в смене каких-то полузамкнутых кругов, разделенных “переворотами” или “остановками жизни...”
Толстой был писатель очень личный, “эгоцентрический.” Показательно, что к литературе он приходит от дневника, и первый его литературный опыт имеет автобиографический характер (“Детство”). И уже сами его “дневники молодости” есть литературное произведение. “Переход к литературе совершается у Толстого непосредственно через дневник и наоборот — дневник тем самым должен рассматриваться не только как обычная тетрадь записей, но и как сборник литературных упражнений и литературного сырья” (Эйхенбаум). [35] Для понимания Толстого это очень важный источник. В этих его молодых дневниках чувствуется даже не влияние, но сам дух XVIII-гo века, дух Просвещения и сентиментализма, точно писал их какой-нибудь сверстник Жуковского или самого Карамзина. Толстой каким-то странным образом точно запоздал душевно в ХVIII-м веке, и потому оказался вне истории и современности. И он сознательно уходит из современности в какое-то надуманное прошлое. Все его творчество есть в этом отношении какая-то непрерывная моралистическая робинзонада. Еще Анненков называл ум Толстого сектантским.
“Он искал пояснений всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских пояснений, ни признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других.”
Для Толстого очень характерно это нечувствие исторического, потому он и приходит к отрицанию культуры, как именно исторической формации и преемства, как связанности преемством опыта. Эго преемство для него и загадочно. “Весь смысл его позиции и системы был в том, чтобы преодолеть натиск истории,” верно отмечает новейший исследователь. Толстой борется “с историей, как таковою, — с самым фактом исторического процесса,” он “не хочет с ним согласиться, не допускает его возможности,” он протестует против самого существования истории. И постольку он последовательный нигилист. Это очень своеобразный “нигилизм,” нигилизм здравого смысла, — “здравый смысл,” против “истории” (Эйхенбаум). Всеми симпатиями своими Толстой в XVIII-м веке. Это, прежде всего, Руссо, Стерн, Бернарден де С. Пьер и даже Vicar of Wakefield (любопытно, что Толстой впоследствии предлагал “Посреднику” переиздать “Векфильдского священника” для народа), потом Стендаль, Кс. Де-Местр, Тёпфер, писавшие именно во вкусе Стерна, еще Прудон. О Руссо сам Толстой отмечал: “Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста.” И в юности он носил его портрет на груди вместо нательного креста. Удачно самого Толстого называли: un Emil realise.
В годы юности он литературно и психологически упражняется в сентиментализме, пишет подражания Стерну, письма в жанре m-me Жанлис. Из русских его всего больше привлекает Карамзин, еще Новиков, Радищев. Уже в 50-х годах он читает Карамзина и нравоучительные журналы прошлого века, как напр. “Утренний свет.” Характерна его ремарка в дневнике 1853 г. — “а право не худо бы как в басне при каждом литературном сочинении писать нравоучение.” В дневниках молодости у Толстого очень резко сказывается его потребность и склонность к нравственной peгламентации, своего рода моралистическая казуистика, непрестанный самоанализ и недовольство собой, проектирование планов и расписаний. И здесь уже есть эта стилизация своих недостатков, что потом в “Исповеди.” Можно сказать, “Исповедь” и написана в моралистическом жанре XVIII-го века, вся разработана в категориях сентиментализма.
В творчестве Толстого сентиментализм вновь прорывается в верхние исторические пласты русской культуры.
Но сентиментализм есть только обмирщенный пиетизм, эта вариация того же психологического типа. Религиозно-моралистическая влиятельность и популярность Толстого свидетельствует о всей силе этих пиетических соблазнов в русской душе, совсем не изжитых и не исчерпанных в свое время. Не случайно Толстой занимался Александровской эпохой, с ней во многом он чувствовал за одно. И если Пьера в “Войне и мире” он стилизовал под своего современника, то разве не хотел он еще больше саму современность и самого себя стилизовать под пиетиста и моралиста давних времен. Любопытно, что Толстой любил читать Фенелона, читал в свое время и Ангела Силезия (ср. и в “На каждый день”)...
В пределах того же XVIII-го века и близость Толстого к Канту, близость в том именно, что у самого Канта было от ограниченности его времени. Здесь не столько влияние, сколько прямое совпадение в одиноком замысле “религии в границах одного только разума,” innerhalb des bloszen Vernunft, с изгнанием всего “таинственного” и “чудесного,” с мертвящей “регламентацией” и законничеством. Под категорией закона у Толстого исчезает и само добро. “Делай не доброе, но законное. Это одно удовлетворяет. Это одно нужно, и важно, и радостно.” И Бог для Толстого не столько Отец, сколько Хозяин, и человек работник у него. Это шаг назад, от сыновства возврат к рабству...
Сила Толстого — в его обличительной откровенности, в его моральной тревоге. У него услышали призыв к покаянию, точно некий набат совести. Но в этой же именно точке всего острее чувствуется и вся его ограниченность и немочь. Толстой не умеет объяснить происхождение этой жизненной нечистоты и неправды. Он точно не замечает всей радикальности эмпирического зла. И наивно пытается свести все к одному непониманию или безрассудству, все объяснить “глупостью” или “обманом,” или “злонамеренностью” и “сознательной ложью.” Все это характерные черточки просвещения. Толстой знает о скверне в человеке, и говорит о ней с брезгливостью и гнушением (срв. “Крейцерову сонату”). Но чувства греха у него не было. И стыд еще не есть раскаяние...
Есть разительное несоответствие между агрессивным максимализмом социально-этических обличений и отрицаний Толстого и крайней бедностью его положительного нравственного учения. Вся мораль сводится у него к здравому смыслу и к житейскому благоразумию. “Христос учит нас именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо.” И к этому сводится все Евангелие! Здесь нечувствие Толстого становится жутким, и “здравый смысл” оборачивается безумством...
Основное противоречие Толстого в том именно, что для него жизненная неправда преодолевается, строго говоря, только отказом от истории, только выходом из культуры и опрощением, то есть — через снятие вопросов и отказ от задач. Морализм у Толстого оборачивается историческим нигилизмом. В этом психологический корень и его религиозного отступничества, его отпадения от Церкви...
Толстой уходил из истории не раз. В первый раз это было в конце 50-х годов, когда Толстой замкнулся в Ясной Поляне и отдался своим педагогическим экспериментам. Это был именно исход из культуры. Всего менее Толстой думал тогда о влиянии на народ. Напротив, нужно узнать волю народа, и ее исполнить. В самом “противодействии народа нашему образованию” он усматривал только справедливый суд над этой бесполезной культурой. Ведь мужику действительно не нужна ни техника, ни изящная литература, ни само книгопечатание. Народничество Толстого приобретает почти что погромный оттенок. Несколько позже Толстой убеждается, что и вся философия и всякая наука есть только бесполезное пустословие. И от него он ищет укрытия в трудовой жизни простого народа.
В статье: “Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят” (1862) Толстой уже предвосхищает в основном свой будущий памфлет об искусстве. И тот же замысел в “Войне и мире.” Овсянико-Куликовский очень удачно определял этот жанр, как “нигилистический эпос.” Большая история для Толстого есть только игра. И в этой игре нет героев, нет действующих лиц, есть только незримый рок и поступь безликих событий. Все точно снится. Все распадается и разложено в систему сцен и ситуаций. Это скорее маска жизни. В истории ничего не достигается. Из истории нужно укрыться...
И последним приступом нигилистической борьбы Толстого был его религиозный кризис. Он отверг Церковь, ибо отрицал человека. Он хотел остаться наедине со здравым смыслом...
Гордость и самоуничтожение странно смыкаются в этом нигилизме от здравого смысла. И даже такой наблюдатель, как М. Горький, сумел за этим “злейшим нигилизмом” распознать и различить “бесконечное, ничем не устранимое отчаяние и одиночество...”
У последователей Толстого сказывалась такая же потребность уйти из истории, и поселиться в благочестивой Утопии, точно уже по ту сторону истории. В этом весь замысел толстовских “колоний.” То был приступ своеобразного аскетизма, бегство из грешного мира, но сразу же и надежда создать новый мир. Острый привкус апокалиптики в этом движении очевиден. Движение не удалось. “Культурные скиты” слишком скоро запустели, умерли от внутреннего бессилия. Но не случайно для многих, в их личной, судьбе, “толстовство” оказалось путем возрата в Церковь (достаточно назвать М. А. Новоселова и позже кн. Дм. А. Хилкова). Здесь же следует упомянуть и о православном Крестовоздвиженском трудовом братстве, основанном Н. Н. Неплюевым в его черниговском имении...
Влияние Толстого характерно, как веяние и симптом...
“Не мудрена система переделанного Евангелия, ее также просто опровергнуть, как и многие другие заблуждения, но все они будут страшно заманчивы и заразительны, пока истина, пока Православие будет существовать только в книгах, да в проповедях, а осуществляться лишь в деревенской глуши, да в пустынях Валаама или Афона” (митр. Антоний Храповицкий).
Политический поворот с начала 80-х годов сразу же сказался и в церковных делах. Главным идеологом и вдохновителем нового “обратного хода,” новой охранительной политики, “главным ретроградом” и был на этот раз обер-прокурор Святейшего Синода, незадолго перед 1-м марта назначенный К. П. Победоносцев (1827-1907). Его имя — символ эпохи...
Есть что-то призрачное и загадочное во всем духовном образе Победоносцева. “И только тень огромных крыл,” очень удачно о нем сказал Блок. Он был очень скрытен, в словах и в действиях, и в его “пергаментных речах” было трудно расслышать его подлинный голос. Он всегда говорил точно за кого-то другого, укрывался в условном благозвучии и благообразии очень и очень размеренных слов. Свои книжечки и книги он имел обыкновение издавать безымянно, точно он их издает или составляет, точно в них он передает или излагает чьи-то чужие мнения и мысли. Эта условная псевдонимность для него очень характерна. Он был враг личного творчества...
Победоносцев по-своему был народником или почвенником. Это сблизило его с Достоевским. “У меня был для него отведен час, в субботу после всенощной, и он нередко ходил ко мне, и мы говорили долго и много за полночь...”
Но вдохновение Достоевского было Победоносцеву духовно чуждо. И образ пророка скоро померк в его холодной памяти...
Народником Победоносцев был не в стиле романтиков или славянофилов, скорее в духе Эдм. Бёрка, [36] и без всякой метафизической перспективы. Очень многое в его критике западной цивилизации и прямо напоминает контрреволюционные апострофы Бёрка. Победоносцев верил в прочность патриархального быта, в растительную мудрость народной стихии, и не доверял личной инициативе. Он верил в простой народ, в силу народной простоты и первобытности, и не хотел разлагать эту наивную целостность чувства ядовитой прививкой рассудочной западной цивилизации. “Народ чует душой.” И это чутье воплощается в преданиях и обрядах. К ним Победоносцев не хотел бы прикасаться испытующим сомнением мысли, — в представлении Победоносцева мысль всегда сомневается, всегда разлагает, никогда не творит. И лучше молчать, и хранить даже суеверие, ибо в них есть эта первичная энергия жизни. Победоносцева радовало и удовлетворяло вполне, что “во всех этих невоспитанных умах воздвигнут неизвестно кем алтарь Неведомому Богу.” Он любил растворяться в народной толпе, “исчезать со своим я в этой массе молящегося народа.” И его совсем не смущало, что слишком многие в этой молящейся толпе не могут сознательно следить за словами церковной службы.
“Народ не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в “Отче наш,” повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы.”
Но ведь истина постигается не разумом, но верой, “стоящею выше всех теоретических формул и выводов разума.” “Самые драгоценные понятия,” настаивает Победоносцев, “находятся в самой глубине воли и в полумраке...”
Есть что-то от позитивизма в этом непримиримом отталкивании Победоносцева от всякого рассуждения. Умозаключениям он всегда противопоставляет “факты.” Обобщений он избегает не без иронии, и отвлеченных идей боится. Мысль убивает, замораживает жизнь. Его ученый курс гражданского права очень удачно называли “межевым планом” X-го тома. Так называемой “общей части” в нем почти нет. Нет и системы. Победоносцев избегает и “опасается вводить мысль в построение институтов...”
И здесь основная двусмысленность его воззрения. Вся эта защита непосредственного чувства у Победоносцева построена от противного. Сам он всего меньше был человеком непосредственным или наивным. Всего меньше сам он жил инстинктом. Сам он весь насквозь отвлеченность. Это был человек острого и надменного ума, “нигилистического по природе,” как о нем говорил Витте. [37] Это был безочарованный скептик. И в самом себе он ощущал весь этот холод отвлеченной мысли. От него он ищет противоядия в народной простоте. От собственной безбытности он хочет укрыться в быте, вернуться к “почве...”
И когда он говорит о вере, он всегда разумеет веру народа, не столько веру Церкви. Не догматическую веру, не учение веры, но именно “простую веру,” т. е. чутье или чувство, некий инстинкт, пресловутую “веру угольщика.” И сама Церковь для него есть, прежде всего, “живое, всенародное учреждение...”
В православной традиции он дорожил не тем, чем она действительно жива и сильна, не дерзновением подвига, но только ее привычными, обычными формами. Он был уверен, что вера крепка и крепится нерассуждением, а искуса мысли и рефлексии выдержать не сможет. Он дорожит исконным и коренным больше, чем истинным. “Старое учреждение тем драгоценно, потому незаменимо, что оно не придумано, а создано жизнью.” И этого органического авторитета, очевидно, ничем нельзя заменить: “потому что корни его в той части бытия, где всего крепче и глубже утверждаются нравственные узы, — именно в бессознательной части бытия” (срв. у Бёрка его теорию “давности,” prejudice and prescription). Поэтому и легендарный образ надежнее ясного понятия. В легенде есть сила жизни, а понятие бессильно...
Безотчетное чувство правдивее и надежнее, чем любознательный разум...
Богословия Победоносцев решительно не любил и боялся, и об “искании истины” отзывался всегда с недоброй и презрительной усмешкой. Духовной жизни не понимал, но пугался ее просторов. Отсюда вся двойственность его церковной политики. Он ценил сельское духовенство, немудреных пастырей наивного стада, и не любил действительных вождей. Он боялся их дерзновения и свободы, боялся и не признавал пророческого духа. Его смущали не только Влад. Соловьев или Толстой. Еще больше его тревожили такие подвижники и учителя духовного делания, как Феофан Затворник и даже о. Иоанн Кронштадтский. Победоносцев не хотел общественной и культурной влиятельности иерархии и клира, и властно следил за выбором епископов, не только по политическим мотивам, не только ради охраны правительственного суверенитета. Это расходилось и с его личным религиозным опытом и идеалом. За Победоносцевым остаются его заслуги: основание церковно-приходских школ, строительство благообразных сельских храмов, издательство благочестивых книг и молитвенников дли народа, забота о благочинном пении в церквах, материальная помощь духовенству, усиление церковной благотворительности. Он сумел понять и оценить С. А. Рачинского [38] и его “сельскую школу.”
Но с Рачинским он разделял и его основную ошибку, что “сельская школа” должна быть окончательной школой, не следует внушать ученикам беспокойного и тщеславного желания идти дальше, искать высшего или другого, и тем колебать устои социальных группировок. Народной школе Победоносцев усваивал роль охранительного учреждения: “содержать людей в строгом подчинении порядку общественной жизни.” Школа должна не столько давать “общее развитие,” сколько развивать навыки и умения, в строгом соответствии наличной среде, — иначе сказать, она должна быть сословной и полупрофессиональной.
И Победоносцев никак не хотел идти дальше этих начатков прикладного полупросвещения, — “ограждать священные заветы предков,” и это все. Он не хотел религиозного пробуждения народа, он не хотел творческого обновления Церкви. Он боялся, что религиозное просвещение поведет к протестантизму. И, как замечает Н. П. Гиляров-Платонов, “опасение протестанства и вольномыслия повело к обскурантизму.” Победоносцев верил в охранительную прочность патриархальных устоев, но не верил в созидательную силу Христовой истины и правды. Он опасался всякого действия, всякого движения, — охранительное бездействие казалось ему надежнее даже подвига. Он не хотел усложнения жизни, — “что просто, только то право,” — и в этом пафосе исторического неделания он неожиданно встречается с Л. Толстым. При всем различии исторического настроения и темперамента они сближаются в исходных предпосылках, как близки были идейно Руссо и Бёрк...
Передают, “не надо,” это был привычный ответ Победоносцева. Ему приписывают этот пронзительный афоризм о России: “ледяная пустыня, и в ней ходит лихой человек.” Россия потому и представлялась ему пустыней, что он не умел узнавать добрых людей. Он не верил людям, он не верил в человека. Он страдал “историческим унынием,” подозрительностью и маловерием. И сам он был ледяной человек. Ив. Аксаков [39] остроумно писал ему еще в 1882 г. “Если бы в те времена спросили тебя: созывать ли вселенские соборы, которые мы признаем теперь святыми, ты представил бы столько основательных критических резонов против из созыва, что они бы, пожалуй, и не состоялись...
Исторгая плевелы, не следует исторгать и пшеницу, и лучше не исторгать плевел, чтобы не исторгнуть хотя бы один колос пшеницы...
Так и во всем. Твоя душа слишком болезненно чувствительна ко всему ложному, нечистому, и потому ты стал отрицательно относиться ко всему живому, усматривая в нем примесь нечистоты и фальши. Но без этого ничто живое в мире и не живет, и нужно верить в силу добра, которое преизбудет лишь в свободе... А если дать силу унынию, то нечем будет и осолиться...”
Так показательно, что Победоносцев не сумел почувствовать серафической святости преподобного Серафима Саровского. Здесь он расходился и с самым благочестивым “чутьем” народа...
Он веровал не от исполнения сердца, а от испуга. У него было больше презрения к человеку, чем даже негодования. Розанов верно назвал его известный “Московский Сборник” грешной книгой, — это грех уныния, безверия и печали...
В том парадокс, что сам Победоносцев был не так далек от своеобразного протестантизма. Он всем сердцем принимал Петровскую реформу. И при всем своем отвращении к современной западной цивилизации, либеральной и демократической, он оставался западным человеком. Характерно, что он переводил все западные книги: А. Тирша, Христианские основы семейной жизни (1861), Фому Кемпийского (1869), Ле Пле (1893). Характерен и его выбор авторитетов в его известном “Московском сборнике” (перв. изд. 1896), — Карлайль, Эмерсон, Гладстон, и даже Герберт Спенсер, [40] и из романтиков — Карус [41] с его книгой о душе.
Победоносцева остроумно сравнивали с “круглоголовыми,” — тот же дух законничества и нетерпимого морализма. И, подобно суровому английскому Протектору, Победоносцев хотел властвовать в Церкви, ради народного блага. Мистической реальности Церкви он как-то не чувствовал. Он был типичным “эрастианцем” [42] в своей деятельности. И вселенских перспектив у него не было. Всего характернее в этом отношении его опыт “усовершенствовать” русский текст Нового Завета на основе “славянского подлинника,” и без обращения к греческому (этот опыт совсем не удался, даже стилистически)...
Победоносцев был бесчувственно нетерпим не только к инославным. Еще деспотичнее был он в “господствующей” Церкви. И ему почти что удалось создать вокруг себя эту жуткую иллюзию ледяного покоя. Конечно, далеко не все в Церкви поддавалось его энергичной регуляции. Но правительствующее значение обер-прокурорской власти в “ведомстве православного исповедания” при нем еще возросло. Настойчивость Победоносцева часто объясняется его страхом перед надвигающейся революцией, и его сравнивают с Конст. Леонтьевым. Сравнение неточно.
Леонтьев в одном из своих писем 80-х годов осудил со всей беспощадностью все это “бездарное безмолвие” испуганных охранителей. Он ясно видел, что ограничить всю жизнь Церкви одним охранением “значило бы обрекать Церковь почти что и на полное бессилие.” Запрет не есть средство убеждения. “Положим, что нам сказано: “под конец” останется мало “избранных,” но так как нам сказано тоже, что верного срока этому концу мы знать не будем до самой последней минуты, то зачем же нам преждевременно опускать руки и лишать Церковь всех тех обновляющих реформ, которыми она обладала в ее лучшие времена, от сошествия Святого Духа до великой победы иконопочитания над иконоборством и т. д., и т. д.” И Леонтьев настаивает, что теперь время богословствовать, в особенности же мирянам. Личную жизнь нужно связать послушанием, и вполне подчинить воле избранного старца. Но ум должен оставаться свободным, конечно, в пределах догмата и предания. Ведь есть новые вопросы, и о них подобает писать мирянам, исследуя пути...
Для Победоносцева не было таких “новых вопросов,” которые бы стоило решать. Вопрошать опасно. Он избирал именно то “бездарное безмолвие,” которое Леонтьев осуждал. Победоносцев не хотел, чтобы о вере размышляли и говорили. Он был не только пессимист, но и скептик, — он соблазнялся не только о неправде, но и о самой истине христианской...
Первой пробой новой церковной политики было снова преобразование духовной школы. Толстовская реформа 60-х годов и действительно не была вполне удачной. Ревизия духовных академий преосв. Макарием в 1874-м году обнаружила и в академической жизни значительные пробелы и недочеты. В 1881-м году при Святейшем Синоде была образована комиссия для нового пересмотра уставов под председательством Сергия Ляпидевского, впосл. митрополита Московского, с участием представителей от академий и от Учебного Комитета. Предлагалось вернуться к прежней, ведомственной или служилой, точке зрения на духовную школу. Раздавались голоса и в пользу простого восстановления прежнего устава. Организация IV-го курса с его чрезмерной специализацией была признана неудачной. Решено было отменить приват-доцентуру и вместо того “оставлять при академии” лучших кандидатов для научных занятий..
Любопытно, что преподавание патристики снова объявлялось излишним. Но было признано желательным восстановить преподавание естественно-научной апологетики. В. Д. Кудрявцев предлагал еще ввести преподавание нравственной философии и философии права. Важным решением была отмена публичности академических диспутов, несмотря на голоса в пользу гласности.
“Предметы веры делаются поприщем словопрения,” говорил арх. Сергий.
Комиссия имела 32 заседания и заканчивала работы уже в неполном составе, без иногородних. Проект был внесен в Синод в марте 1883 года. Для его рассмотрения было образовано особое совещание из трех синодальных архиереев: митр. Иоанникия, Леонтия, впосл. тоже митрополита, и арх. Саввы. Комиссия работала негласно, до конца работ не довела. Окончательный “Устав” был разработан в строжайшей тайне, по-видимому, в канцелярии Обер-Прокурора, и проведен через Синод с крайней поспешностью, без всякого обсуждения. “Митрополиты Исидор и Платон подписали, не заглянувши даже в переписанную набело тетрадь, преосвящ. Ионафан, не участвовавший в нашей комиссии, хотел было прочитать этот проект, но это ему не удалось.” Так рассказывает арх. Савва. Он сам не со всем соглашался в комиссии и просил дать ему возможность представить свои соображения на усмотрение Синода, — это желание не было уважено, а вскоре арх. Савва и вовсе был освобожден от присутствия в Синоде. Академический Устав был утвержден 20 апреля 1884 г., и подлежал введению уже с осени того же года.
Академический строй был очень серьезно изменен. Усиливалась власть Епархиального епископа над академией и ректору возвращалось его начальственное положение, он не должен был читать больше двух лекций в неделю. Отделения были упразднены и только второстепенные предметы были сведены в группы, которые предлагались на выбор. Специализация на IV-м курсе отменялась. Выпускное сочинение нужно было писать на тему богословского содержания (правило это, впрочем, на деле не соблюдалось слишком строго).
Очень характерно, что отменялась публичность академических диспутов. Степень доктора и вообще присуждалась теперь без защиты диссертации, по одному только отзыву рецензентов; вводилось различение докторской степени: богословия, церковной истории или канонического права. Магистерскую диссертацию предоставлялось защищать на “коллоквиуме” в заседании академического Совета расширенного состава, с участием “и приглашенных Советом сторонних лиц,” но не на публичном диспуте. Нужно было избегать открытого спора, разногласия, напрасной гласности. И открытым возражением ведь только привлечешь излишнее внимание к противнику. Победоносцев боялся привлекать внимание к религиозным вопросам, он боялся споров и несогласий. Он сомневался, готова ли Церковь к самозащите. Он предпочитал ее ограждать извне государственной опекой и силой. Победоносцева скорее беспокоило пробуждение религиозных интересов в русском обществе. Он ценил религию, как быт, но не как искание...
Впрочем, в 70-х годах он и сам принимал довольно деятельное участие в работах “Петербургского отдела” уже раньше существовавшего в Москве “Общества любителей духовного просвещения.” Этот “отдел” был открыт в 1872-м году, всего больше в связи со старокатолическим движением. Связь с Москвой была скорее только по имени. Почетным председателем отдела был вел. кн. Константин Николаевич, среди членов преобладали миряне, все больше из высшего круга. Из духовных лиц нужно назвать протоиереев Янышева, Васильева, П. Е. Покровского. “Отдел” при самом открытии получил важное преимущество: дозволение “в своей среде,” т. е. в непубличных заседаниях, свободно рассуждать о делах Церкви. Первым обсуждался старокатолический вопрос. “Отдел” издавал свои протоколы по-русски и во французской редакции. В 70-х годах это был очень значительный очаг богословских интересов. Своим правом “свободного” обсуждения отдел пользовался широко и касался на своих собраниях вопросов, действительно, сложных и тонких. И, кроме того, устраивались публичные чтения. Нужно отметить выступление Т. Филиппова на тему “о нуждах единоверия” и его спор с И. Нильским (в 1873 и 1874 г.г.), тезисы Ф. Г. Тёрнера о свободе совести и воспитания (в начале 1876 г.), чтения о. И. Л. Янышева о свободе совести и “о сущности христианства с нравственной точки зрения,” чтения Ф.Г. Тёрнера о христианском и новых философских воззрениях на жизнь (в 1878 и 1879 г.г.). Это были религиозно-философские собрания своего времени. К этому кругу в конце 70-х годов был близок и Влад. Соловьев, переселившийся тогда в Петербург. Нужно отметить и его известные “Чтения о богочеловечестве” (в 1878-м году)...
В 80-х годах, при Победоносцеве, такие собрания стали уже невозможны...
Победоносцев не сочувствовал и свободе богословской печати. Лучшие из богословских изданий под давлением духовной цензуры в начале 90-х годов прекращаются: “Православное Обозрение,” “Чтения Московского общества любителей духовного просвещения,” даже “Прибавления” Московской академии. Правда, основываются и новые журналы: “Вера и Разум” в Харькове с 1884 года (инициатива арх. Амвросия Ключарева), “Богословский Вестник,” при Московской академии (с 1892), “Вера и Церковь” в Москве (с 1899). Но чувствуется принужденная осторожность во всем. Победоносцев сочувствовал развитию изданий для народа. Возникает ряд журналов: “Воскресный день” (издавал свящ. С. Уваров), “Кормчий,” “Пастырский собеседник” (изд. Маврицкого), “Русский Паломник” (под ред. А. И. Поповицкого, несколько неожиданная замена “Церковно-общественного Вестника”), — сюда же примыкают и непериодические “Троицкие Листки,” издаваемые архимандритом Никоном, впоследствии епископом Вологодским. Значение этих изданий не следует принижать. Однако, жанр богословской литературы несомненно снижается, до уровня простой назидательности. В действительности это было отступление Церкви из культуры. Спорные вопросы, во всяком случае, снимались. И естественно, что на них искали ответов на стороне. Влиятельность Церкви этим несомненно подрывалась. Только под знаком “назидательности” и могло развиваться в Петербурге “Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви,” основанное уже в 1881-м году (по почину петербургских протоиереев Д. Я. Никитина и М. И. Соколова). Следует отметить еще новые миссионерские журналы: “Братское Слово,” под ред. Н. И. Субботина (возобновляется в 1883), “Православный Благовестник” (с 1893 г.), “Миссионерское Обозрение” (с 1896-го года). Выдвигались всего больше нравственные темы. И все сильнее чувствовалось желание на всякий вопрос давать готовый ответ, внушать впечатление совершенной законченности православного мировоззрения, устранять всякую возможность “недоуменных вопросов.” “От настоящей серьезной борьбы за Православие мы избавлены государственной опекой,” справедливо говорил Влад. Соловьев...
Победоносцева смущал усиленный приток учащихся в духовные академии, усилившийся в особенности после того, как семинаристам был закрыть доступ в университеты. Своекоштные студенты жили по частным квартирам, что затрудняло инспекторский надзор и наблюдение. Было издано новое распоряжение, предоставлявшее своекоштным студентам жить только в академических общежитиях, поскольку то дозволяет “вместимость зданий.” Но и вообще многолюдство студентов в академиях казалось напрасным и беспокойным: для замещения освобождающихся учительских должностей в семинариях и духовных училищах кандидатов и так слишком достаточно. Любопытно, что о желательности высшего богословского образования для пастырского служения упомянуть забыли. Это был прямой возврат к служилой точке зрения на богословскую школу. В 1887-м году было сокращено и число казенных стипендий в академиях. Общее количество учащихся вскоре упало почти вдвое...
В 1889-м году были изданы особые “Правила для рассмотрения сочинений, представленных на соискание ученых богословских степеней.” Это очень любопытный документ. Для мировоззрения Победоносцева он в особенности характерен. Все предполагается решенным. И главная задача полагается в предупреждении и пресечении богословской неблагонамеренности. Предлагалось обращать внимание не только на ученые достоинства сочинений, “но и на соответствие общего направления их с духом и достоинством Православной Церкви.” Требовалось при этом, “чтобы сочинения заключали бы в себе такую полноту и определенность изложения по данному предмету или вопросу, при которой не оставалось бы сомнения в истинности православного учения, а также такую точность выражений, которые устраняли бы всякий повод к ложным вопросам.” Запрещалось принимать на соискание ученых степеней сочинения о еретиках и “ложных учениях,” так как вредно слишком долго задерживаться вниманием на подобных темах. В особенности же недозволительно усматривать в ересях какое-то “единство идеи” (срв. напр., попытку Влад. Соловьева в “Великом Споре” вывести все ереси из одного начала); наоборот, следует вскрывать нелепость и бессвязность ересей, — точно не может быть последовательности ложного принципа.
“Не могут быть признаны соответствующими требованию ученого богословского сочинения такие труды, в которых отрицается, хотя бы и с видимостью научных оснований, достоверность таких событий, к которым церковное предание и народное верование привыкли относиться, как к достоверным событиям.” Здесь имелось в виду, прежде всего, известное сказание о хождении апостола Андрея на Руси, совершенная недостоверность которого была показана Голубинским, и его же критика летописного рассказа о крещении князя Владимира.
Запрещалось “неблагонамеренно выставлять в ложном свете какие-либо учреждения и установления отечественной Церкви,” — здесь имелись в виду исследования о происхождении старообрядческого раскола, о старом обряде, о Петровской реформе. Запрещалось объяснять церковно-исторические события игрой естественных только причин, человеческими побуждениями и стремлениями, часто темными, влиянием школ и направлений, находить черты благородства у еретиков и язычников и темные пятна у людей благочестивых и т. д. В результате Голубинский должен был отказаться от печатания II-го тома своей истории и даже выйти из академии, Каптерев должен был остановить свои статьи о п. Никоне, С.Н. Трубецкой подвергся очень резким нападкам за свою диссертацию о “Метафизике в древней Греции,” где он довольно осторожно и сдержанно говорил о “евангельском приготовлении” в эллинизме...
Мерило ограждения предлагалось, во всяком случае очень растяжимое: нужно было считаться не только с церковным преданием, но и с народным верованием. И всегда можно было сказать, что та или другая книга имеет не “строго-богословский характер,” или “не вполне точно выражает учение православной церкви,” и что то или другое рассуждение “по своей неясности и неопределенности” может быть, особенно несведущими читателями, понято превратно. О всей двусмысленности подобных опасений еще в свое время резко сказал Филарет Гумилевский. “Боятся крика невежд! их не заставишь молчать тем, что будешь кричать неправду; правда сама себе защита, а подмостки человеческие годны только на то, что бы их сломало время...” Но Победоносцев в том именно и не был уверен, что “правда сама себе защита.” Она ему всегда представлялась скорее беззащитной...
“Правила 1889 года,” это был больше акт государственного и бытового охранения, чем церковного консерватизма. Это был акт Синодальной бюрократии, — не иерархии...
Особенно характерно было осложнение с магистерской диссертацией Е.П. Аквилонова, [43] тогда доцента Петербургской академии, впоследствии протопресвитера военного и морского духовенства. В 1894-м году он представил на соискание степени магистра исследование о Церкви: “Церковь, Научные определения Церкви и апостольское учение о ней, как о теле Христовом.” По-видимому, тема эта была подсказана Аквилонову его руководителем, Катанским, и он только развивал мысли учителя. Рецензируя представленную диссертацию, Катанский оценил ее высоко и отметил, между прочим, что “автору удалось доказать несостоятельность обычного определения Церкви.” Разумеется катихизическое определение Церкви, как “общества человеков” (в “Православном Исповедании” определения Церкви нет, как нет и в “Послании восточных патриархов”). Аквилонов показывает недостаточность этого позднего и школьного определения. Вернее сказать, это и не определение, но только описание, и очень неполное. Ибо Церковь есть не только общество, но и организм, или “тело,” и к ее составу кроме человеков принадлежит и сам Христос, ее Глава, в котором Церковь и едина. “Тело Христово,” этот апостольский образ или имя есть лучшее определение. Это вполне подтверждается и свидетельством отцов. Аквилонов удачно подобрал в своей книге важнейшие тексты. Из русских авторов он всего ближе к Филарету (по его проповедям) и к Хомякову. Выковать полное определение Церкви Аквилонову не удалось. Он дал только многословный пересказ этого основного имени: “тело.” И вообще, его книга написана языком вялым. Но она могла послужить надежным введением в дальнейшее исследование. Смущало только, что в первой же главе Аквилонова слишком решительно ниспровергает “принятое” определение Церкви, как “общества.” Показалось спорным и то, что в состав Церкви он включал и ангелов. Иное в книге и действительно было недосказано...
В ученых степенях утверждал Святейший Синод и обычно кому-нибудь из епархиальных архиереев поручалось рассмотреть диссертацию со стороны вероучительной благонадежности. Книга Аквилонова была передана на заключение Виссариона Нечаева, епископа Костромского, бывшего перед тем долгие годы издателем “Душеполезного Чтения.” Виссарион присоединился к отзыву академических рецензентов и высказал пожелание об исправлении определения Церкви в Катихизисе. Это пожелание вызвало в Синоде беспокойство. И в тоже время против книги Аквилонова резко выступили единоверческий архимандрит Павел Прусский и проф. Н. И. Субботин, доверенный корреспондент Победоносцева. Они говорили от лица “простых верующих.” Еп. Виссарион настаивал на своем заключении. Победоносцев охранял “народные верования.” Вопрос разрешился тем, что московский митрополит Сергий (при неожиданной поддержке епископа Сильвестра) отыскал в книге Аквилонова самый опасный рационализм. Автору пришлось писать вторую диссертацию...
В этом эпизоде характерно искривление перспектив: более охранялась неприкосновенность катихизиса, чем верность действительному отеческому преданию, и всего более во внимание принимались настроения ревнителей из простецов. Из этих соображений, очевидно, книгу в “правила 1889-го года” был внесен и тот параграф, чтобы богословские книги писались таким образом, чтобы быть доступными и лицам, вовсе не знающих по-гречески (это было против цитат из отцов в подлиннике)...
Запретительная политика Победоносцева оказалась вдвойне бесплодной. Внутреннего успокоения он не достиг. Ему удалось создать иллюзию покоя. Но это было достигнуто дорогой ценой. Создавалась привычка лукавого умолчания. Непринятых мнений держались про себя. В духовной школе и в богословской литературе устанавливается неискренний и неживой стиль. Основная неправда запретительного режима в этой неискренности и коренится. И в духовных школах система запрещений и приказов создала только дух запирательства и двуличия. “Либерализма” и “сомнений” из духовной школы, конечно, Победоносцев cовсем не вывел, но приучил учащихся и учащих скрывать свои действительные мысли. А насильственное удержание духовных воспитанников в духовном ведомстве отравляло той же неискренностью и само священство. Это, конечно, общая характеристика, и исключений всегда бывало достаточно. Но, несмотря на все запретительный меры, “неблагонадежные” богословские взгляды все-таки распространялись, а невозможность публичного обсуждения означала ведь и невозможность открытого опровержения.
Блестящая книга московского профессора М. Д. Муретова против Ренана была остановлена цензурой, так как для опровержения ему нужно было “изложить” опровергаемое “лжеучение,” что не представлялось благонадежным. Ренана продолжали читать втайне, а книга против Ренана опоздала лет на 15. И создалось впечатление, что причина запретов в бессилии защищаться К тому же, слишком часто пробовали защищать то, чего нельзя было защитить. Это очень подрывало доверие. Падал дух, когда призвание учителя подменялась должностью стража.
Но и этого мало. Вся система была изнутри отравлена едким скептицизмом. В свое время граф Пратасов уже пробовал приспособить духовное образование к сельским нуждам. Но Пратасов был в Синоде только “добрый офицер” и руководился соображениями государственной пользы или ненужности. Победоносцев же был скептиком и интеллигентом. Задание сельского “опрощения” для него означало совсем иное. Если он и говорил обычно о пользе или нужде, то в действительности он всегда думал об опасности “чрезмерного” образования. И к идее упрощения он приходил даже и не от пафоса власти, но от самого ядовитого безверия. Поэтому он хотел ослабить “общеобразовательный” элемент в духовной школе, — зачем для священника какая-нибудь алгебра и геометрия...
Опасности образования он хотел предотвратить внешним запретом, не расчитывая победить или преодолеть их открыто и изнутри. И таким образом полусознательно он оттеснял живые вопросы из церковного кругозора, оттеснял их у спрашивающих под порог сознания, отравлял их горечью запрета. Для этого маловерного консерватизма так характерна реплика Розанова в одной из его статей 90-х годов.
“Допустить обсуждение истин своей веры Церковь не может, — не по боязни их колебания, но по отвращению к подобному обсуждению,.. отступающий от Церкви для нее презрен, до невыносимости его видеть...”
Здесь Церкви навязываются совсем не евангельские чувства и мотивы. И предполагается, что она действует скорее как карательная власть, чем как врач и учитель. И такое исступление принималось и выдавалось за ревность о вере. Но оно обречено было на бесплодие. Ненависть не рождает, но только любовь. И как часто ненависть только прикрывает страх и бессилие...
Совсем был забыт образ Доброго Пастыря: “оставляет девяносто девять...” [44]
Однако, охранительный яд проникал еще глубже. И здесь было сознательное снижение религиозного уровня, “опрощение” самого православия... Победоносцеву удалось внушить русскому духовенству, что “богословие” не принадлежит к существу православия, “русского православия,” во всяком случае, т. е. русской “простой” и народной веры, ибо ведь массы этого “простого народа” спасаются без всякого богословия, и без всяких размышлений и культуры, и “спасаются” вряд ли не надежнее, чем умствующие и пытливые чрез меру интеллигенты. Вера сдвигалась таким образом и снижалась до уровня безотчетных чувств и благочестивых настроений. Догматы же воспринимались скорее в каноническом, чем в богословском порядке, как ограждающие слова, не как животворящая истина. И, строго говоря, это было только своеобразным приложением типических доводов Льва Толстого в новой области церковной культуры.
Толстой отрицал всякую значимость культурных благ именно на том основании, что они совсем не нужны сельскому обывателю, — ни техника, ни Шекспир, ни само книгопечатание. И отсюда заключал, что вся эта культура есть очевидный излишек, даже излишество, созданное праздностью человека, ибо для жизни она не необходима, без нее вполне можно прожить, а в ней жить трудно и сложно...
Почти те же доводы теперь и приводятся в защиту “простой веры.” Ведь баба-богомолка, или мужик-начетчик, или благочестивый странник, или монах “из простых,” все они совсем не нуждаются в “ученом” богословии или какой-то философии, или в исторических исследованиях, которых не понимают и знать не хотят, и без них живут правильно и честно. Не приходится ли заключить, что вся эта богословская и философская “проблематика” есть только плод напрасной искательности и любопытства умов праздных и беспокойных. “Для спасения” она не требуется...
Победоносцеву удалось внушить это подозрение к “богословствующему разуму” тем легче, что оно отвечало упадочным и нигилистическим настроениям эпохи. Позитивизм подорвал доверие к сверхопытной метафизике, “агностицизм” стал привычной умственной позой для среднего человека, и под такое же агностическое воздержание подпадали и догматические истины. С мирским агностицизмом перекрещивается теперь и аскетический. Под предлогом смирения и непостижимости внимание верующих от догматов отвлекается, — как постичь их слабым разумом!...
Но смирение так часто только прикрывает равнодушие или даже маловерие. И непостижимость божественных истин преувеличивается вряд ли не с лукавым умыслом, с расчетом уклониться от догматической акривии и неправо младенчествовать умом. Внутренним итогом такого двоякого агностицизма неизбежно оказывается догматическая растерянность и нестойкость, искушение морализмом. Сердце отвыкает жить и питаться догматом, напрасно огражденным, и догмат оказывается духовно как бы ненужным. Так с 80-х годов в нашем церковном сознании подымается новая волна морализма, сентиментализма, пиетизма. Обличение рассудочности и рационализма в своей чрезмерности оказывалось не безопасным и для самого учения веры. Больше ценились добрые чувства и еще дела. Слишком многое в учении веры начинало казаться каким-то напрасным тонкословием. Пусть лучше душа останется в полусвете, но соблазнам беспокойного ума не будет дано лишнего повода. Вера истолковывается скорее, как доверие, чем как опыт духовной жизни...
И к этому присоединяется еще один и очень важный фактор. Духовенство оставалось сословным и в большинстве выходило именно из рядов “сельских обывателей,” и для них деревенская нищета и простота слишком часто оставались и потом самой привычной и самой понятной средой. Отсюда и своеобразная несвобода в обращении с культурными ценностями: наивная склонность к внешней цивилизации и внутренняя непривычка жить “в культуре,” в обстановке творческого напряжения. Не у всех развивалась и сама потребность в культуре. Из этого общего уклона было не мало исключений. Однако, общий стиль несомненно был сниженным. Сословное обособление духовенства всего более отделяло и отделяло Церковь от культуры...
Так складывался этот сниженный тип православной церковности, упрощенный, и очень обессиленный. Это было к тому же и очень опасным анахронизмом, было совсем несовременным в эпоху, когда уже начиналось возвращение интеллигенции в Церковь, когда религиозная пытливость становилась все острее. “Со страхом и стыдом пойдем мы отдавать отчет в нашей лености, в нашем нерадении, в том, что сдали свою веру в Синод, да и сидим сложа руки,” так резко писал в 80-х годах А. А. Киреев. И оговаривался, что к “народу” это не относится. “Народ наш ни в какую канцелярию, ни в какой синод своей веры не сдавал...”
Попытка обойти вопрос запретами окончился трагическим срывом, — оттесненные страсти и сомнения в свой час неистово прорвались из темных глубин. То было точно возмездие...
И к этому вполне приложимо слово Тютчева, сказанное по другому поводу: “Его погубит роковое слово: свобода совести есть бред”...
11. Проблематика христианской совести. Антоний Храповицкий.
Восьмидесятые годы были не только временем общественной усталости и угнетения, не только временем “малых дел” и “уравновешенных душ.” Современникам могло казаться тогда: “живые притаились в могилах, мертвые самочинно встали из гробов” (слова Салтыкова). Но это не вся правда. За полвека назад теперь нам уже очевидно, как многое тогда зачиналось из позднейшего расцвета. То было время уже начинающейся мистической тоски и тревоги, хотя бы сама себя еще не узнающей, и в нарастающем нравственном беспокойстве все определеннее обозначаются метафизические мотивы, все резче выступает вопрос о последнем смысле. То был и тайный возврат к вере, часто болезненный, половинчатый, немощный: “слишком ранние предтечи слишком медленной весны” (известный стих Мережковского, “Дети ночи”)...
Для восьмидесятых годов очень характерна религиозная публицистика Вл. Соловьева, часто слишком хлесткая, слишком часто совсем несправедливая и духовно близорукая, но всегда внушенная подлинным волнением о правде. В тогдашней полемике Соловьева со славянофилами теперь уже только удивляет его напряженный задор, торопливость в суждениях и осуждениях, совсем неожиданная нечуткость, какая-то странная укороченность перспектив. Этим не умаляется значимость поднятых Соловьевым тем. Он делал очевидной всю живость и жизненность этих тем, свидетельствовал об исторической правде, делах и силе Церкви, и в этом апологическая ценность его сочинений, и не только для того времени. Он показывал, что именно в христианстве сплетаются в один живой узел все творческие возможности и потребности человеческой жизни. В этом психологическая значительность и его известного “реферата” в Московском Психологическом Обществе, “Об упадке средневекового миросозерцания” (1892). Это все та же проблематика христианской совести...
И та же тема все время выдвигается в работах этого замечательного Московского Общества...
Показательна уже программная статья Н. Я. Грота в первой же книжке “Вопросов философии и психологии” (1889). Нужно открыть или построить новое “учение о жизни,” как ее оправдание. И, казалось, не в том ли будет русский вклад в круговое общение философских исканий, что заново будет выдвинут именно нравственный вопрос. “Не состоит ли историческая задача русских мыслителей в синтезе идеалов с точки зрения высших интересов блага?” И не об этом ли свидетельствует нравственная обращенность всей русской художественной литературы? “Философия спасения мира от зла, его нравственного совершенствования, не будет ли именно нашей особой философией? От самой красоты мы ждем “спасения,” от истины тоже.” И в такой перспективе философия Шопенгауэра не есть ли “пророчество и указание на будущее?...”
Эти догадки Грота очень точно отражают настроение того времени, всю эту беспокойную вопросительность, тревожность сердца и совести... И в такой психологической обстановке с новой силой выдвигалась пастырская задача Церкви.
“Современный пастырь должен быть хозяином в воззрениях века на все стороны бытия и жизни, должен ясно сознавать их согласие или несогласие с учением христианским, должен уметь дать оценку всякой философской идее, хотя бы вскользь брошенной в модной повести или журнальной статье, и потому не сетуйте, если ему подробно раскрывают системы Канта и Конта. Верьте, что и этого мало для его дальнейшей деятельности...
Как приблизить к Церкви жизнь и занятия богословских студентов? Должно возбудить в них религиозную и богословскую самостоятельность... Вот, пусть бы радетели церковности, вместо поругания академии, ее профессоров и студентов, вместо усиленного отыскивания ересей в их сочинениях и проступков в их поведении, указали способы ко введению этого условия...
Но жизнь не изучается в духовной школе! Напротив, юношество, и без того отделенное от жизни сословностью, еще более закупоривается от нее семинарской педагогикой. Естественно, что не борцы жизни, ревнители правды, но сухие теоретики, искусственно выращенные резонеры будут выходить из школы: им ли благовестить для жизни, исцелять сокрушенных сердцем, отпускать измученных на свободу!” (Преосв. Антоний Храповицкий)...
Правда, эти слова сказаны немного позже, в 1896 г., но они могли быть сказаны и раньше...
Здесь пастырская ревность резко сталкивается и расходится с официозным и официальным неверием... С середины 80-х годов уже очень заметно это пастырское пробуждение, обновление пастырского идеала... Раньше всего это сказалось в Петербургской академии, когда Янышев был заменен в должности ректора Арсением Брянцевым, впосл. архиепископом Харьковским. Инспектором академии был переведен из Казани, тогда еще архимандрит, Антоний Вадковский (1846-1912), впосл. митрополит Санкт-Петербургский. Это был человек большой сердечной отзывчивости и благожелательства. Вокруг него собирается кружок ревнителей иноческого подвига, т. наз. “дружина.” После двадцатилетнего перерыва вновь начинаются пострижения в студенческой среде. Аскетический идеал при этом внутренне срастается с пастырским призванием, это было новой чертой. В этом порядке и могло быть оправдываемо монашество “ученое,” внемонастырское (срв. статью Антония Храповицкого, “О монашестве ученом,” 1889 г.)...
Первое пострижение в Петербургской академии относится к 1884-му году. Пострижен был Михаил Грибановский (1856-1898), впосл. епископ Таврический. Теперь его назвали бы “белым иноком.” Это в особенности относится к его книге “Над Евангелием.” В ней так много какого-то весеннего света. Очень живое и острое чувство соборности. Она не снизу, от человеческого соглашения, но сверху, как отблеск Триединства.
“Отсюда ее безусловный авторитет: не сама по себе соборная внешняя форма, но Дух Святой, ясно в ней проявляющейся Своими дарами и внушениями. Соборность есть высший безусловный авторитет после Христа, как форма проявления и средство проявления Святого Духа.”
И еще характерно для Михаила его религиозное восприятие природы. Вера открывает в природе новое совершенство, не улавливаемое внешним рассеянным сознанием. “Земля прейдет в своей грубой материальности, но ее формы жизни, отражающие вечную красоту Бога, останутся, чтобы в своем обновленном расцвете еще громче и гармоничнее славить Господа и услаждать наши духовные очи и сердца. Природа есть та обновленная земля, в которую мы войдем владыками с победителем Иисусом, — войдем воскресшими и обновленными, как Ангелы Божии...”
В семинарские годы Михаил перешел нигилистический кризис, “скалу всевозможных отрицаний.” К вере вернулся через философию. В академии занимался у Каринского и писал ему диссертацию о Гераклите, который ему напоминал Шеллинга. “Осмыслить философски христианство, — вот величайшая цель настоящего времени, намеченная Шеллингом. Не должно быть разлада. Догматы величайшей абсолютной религии должны быть величайшей истиннейшей философией. Нужно только понять их и проникнуть философским анализом и синтезом. Нет еще христианской философии. Ее нужно создать. По ней тоска, ее жаждет человечество, неудовлетворяющееся одной верой” (запись в дневнике). Рождается мысль о философском призвании Церкви...
Магистерское сочинение Михаил написал под характерным заголовком: “Опыт уяснения основных христианских истин естественной человеческой мыслью” (1888); вышел только один первый выпуск: Истина бытия Божия...
К тому же поколению петербургских академических иноков принадлежит и Антоний Храповицкий (род. 1864), теперешний митрополит. В духовную академию он пришел из светской школы, в настроениях религиозного славянофильства, под влиянием Достоевского, и с уже сложившимся решением встать на пастырский путь. Преобладающим и для него был интерес философский. Для Антония тоже прежде всего стояла задача сомкнуть веру и философию. Магистерскую диссертацию и он писал по философии: “Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности” (1887), и это была единственная книга им написанная. У него был темперамент публициста и писал он обычно только очерки или статьи. В очень молодые годы Антоний был назначен ректором Московской академии. Он не был исследователем, не был ученым. Но у него всегда были свои мысли и мысли живые, и у него был особый дар их передавать или внушать. Он был почти что сверстником своих учеников, и это сразу же вводило какую-то совсем особую интимность в его педагогическое обращение и действие. И у него был свой целостный замысел и план церковного действия или воздействия. О пастырском призвании Церкви он прежде всего и свидетельствовал, и о нем учил. В его пастырском идеале очень чувствуется влияние пророческих книг Ветхого Завета. Пастырь и есть пророк, или “руководитель совести.”
В своем пастырском делании Церковь строит народную совесть. И здесь есть только один путь, путь любви сострадающей и духовной взаимности. “Богословие наше должно разъяснять, что жизнь земная представляет море страданий, горя и слез. Время ли, место ли заниматься бездеятельным созерцанием наличных своих сил и способностей и уклоняться от служения ближнему под предлогом собственного несовершенства”...
Лекции и статьи Антония по пастырскому богословию до сих пор сохраняют все не потускневшее очарование убежденности и вдохновения. И легко понять былую завлекательность его академического преподавания. “Мы жили, согретые его любовью и лаской. Он, впервые, может быть, для многих из нас раскрыл нам смысл православного пастырства, как любовного и самоотверженного приятия в свою душу своей паствы, переживания с нею вместе всех ее горестей и радостей, всех испытаний, искушений и падений своих духовных чад, и их духовного возрождения и восстания силою сострадательной Пастырской любви и молитвы” (из воспоминаний ученика)...
Пастырство для Антония есть, прежде всего, путь любви, и любви деятельной, действенной. В самом таинстве священства преподается именно некая сугубая благодать любви, “дар сострадательной любви.” Этот дар, конечно, может окрепнуть и раскрыться только в личном подвиге, в действительном стяжании любви к людям. Но самое это стяжание становится возможным только через благодать духовной любви, внутренне перерождающей и расширяющей пастырское сердце. Это есть способность “духовного отожествления” пастыря с пасомыми. У него как бы исчезает его личное “я,” а всегда и во всем заменяется “мы”...
И пастырское влияние основывается на таинственном общении душ.
“Человек, на которого обращается это влияние, чувствует, как самый дух проповедника входит в его душу, как будто бы некто другой проникает в его сердце...” Но действует пастырская воля на чужую свободу и в свободе, — здесь обоюдное общение: действие и усвоение...
Возможность такого “таинственного общения душ” обстановка в реальности Церкви. От психологии Антоний восходит к онтологии. Взаимное общение дано нам в опыте. “По каким же законам душевной жизни часть одного существа переходит в душу другого и сливается с нею?” И спрашивается, действительно ли человеческие существа так разделены одно от другого?
“Для разъяснения этого явления нужно отвергнуть представления о каждой личности, как законченном, самозамкнутом целом (микрокосме), и поискать, нет ли у всех людей одного общего корня, в котором бы сохранялось единство нашей природы и по отношению к которому каждая отдельная душа является разветвлением, хотя бы обладающим и самостоятельностью, и свободой. Человеческое “я” в полной своей обособленности, в полной противоположности “не я,” как оно представляется в курсах психологии, есть в значительной степени самообман. Обман этот поддерживается нашим самочувствием, развившимся на почве греховного себялюбия, свойственного падшему человечеству.”
Антоний настаивает: “единая природа” человеков не есть только абстракция, “отвлеченное понятие,” но именно “реальная сущность.” Антоний здесь вдается в неожиданный волюнтаризм, почти что по Шопенгауэру (“мир, как воля,” и воля безликая, темная, слепая).
“Природа всех людей одна: это безличная, но сильная воля, с которою каждая человеческая личность принуждена считаться, в какую бы сторону ни обратилась ее личная свободная воля.”
Это “общечеловеческое естество” двусмысленно.
“Мы не можем не замечать в себе проявлений общечеловеческой коллективной воли, которая не от меня, но во мне, от которой не могу отказаться вполне, а лишь отчасти, и то с трудом и борьбой.”
Сюда принадлежит, прежде всего, совесть, но сюда же принадлежат темные склонности, похоть и т. д. Это не очень ясно и не легко понять, как соотносится личная и ответственная воля человека с этой подпочвенной и безличной волей. Сейчас, во всяком случае, это единство природы разбито и искажено. Оно восстанавливается в Церкви, восстанавливается все больше и “в будущей жизни единство это выразиться сильнее, чем множественность человеческих личностей.” Первосвященническая молитва Спасителя прямо свидетельствует “о соединении всех спасенных в грядущем веке, не в смысле единодушия только, а в смысле существенного, реального единства, подобно единству лиц Пресвятой Троицы...”
Есть некоторый просвет и в этом мире разделения. Такова материнская любовь, иногда и супружеская: “вдруг потерять всякий вкус к личной своей жизни,” “своей отдельной личной жизни мать почти не чувствует, не имеет.” Это прообраз пастырской любви, что есть высшая ступень “такого расширения своей индивидуальности.” Апостол Павел “теряет свою личную жизнь,” чтобы в нем жил Христос. “Это единство пастыря со Христом и с паствою не есть нечто умопредставляемое только, но единство действительное, существенное.” Антоний подчеркивает с неожиданной резкостью. “Это не единодушие, но единство по существу, ибо подобие ему — единство Отца с Сыном.” Это есть некое единство родового бытия, — расстроенное или ослабленное в грехопадении, оно вновь явлено и восстановлено в Новом Адаме В Нем люди вновь становятся открытыми друг для друга; и кто соединяется со Христом, тот может “входить и в природу ближних,” сообщая им “часть своего содержания.” Пастырство и есть строение этого таинственного единства, Тела Христова.
В подтверждение своей интересной мысли о единстве рода человеческого Антоний ссылается на Григория Нисского, “О том, что не три бога,” приводит характерную цитату из “Подвижнических уставов” Василия Великого, (гл. 18), еще цитату из Златоуста. Он скорее бросает, чем развивает свои мысли, не досказывает, точно обрубает их. И оставляются без решительного и точного определения термины и понятия, так легко поддающиеся многим толкованиям, как напр, “единство естества,” “единство рода,” “воля,” “личность” и т. д. Есть достаточно поводов сомневаться, так ли применяет Антоний свои отеческие ссылки, как того требует целостная связь воззрений данного отца...
Учение Антония о пастырстве органически связано с пониманием догмата искупления.
“Вопреки школьным богословским системам, Божественное искупление заключается, главным образом, именно в восстановлении сего новоблагодатного единения любви и послушания людей с Богом, со Спасителем и между собой.” И основным в этом искупительном деле нужно признать Гефсиманское борение. В своем позднейшем “катихизисе” Антоний так определяет: “Почему эти душевные муки Христа о человеческой греховности явились нашим искуплением? Потому, что сострадательная любовь таинственно объединила Его дух с нашими душами и мы почерпаем для них от Духа Христова как бы источник святости, и тем побеждаем грех.” Антоний связывает Гефсиманское борение с “преестественной молитвой” в XVII гл. Иоаннова Евангелия. Крестная смерть оставляется таким толкованием как-то в тени...
У Антония от начала привлекает его нравственная возбужденность и чуткость, его впечатлительность и внимание к нравственным исканиям современного общества и народа. К этим исканиям он относит слова Спасителя: “не далек ты от царствия Божия.” Он имеет в виду и нравственный подъем в образованном обществе, отраженный в литературе, и “мистико-моральное одушевление народа,” которым так умело пользуются сектанты. “Итак, от него недалеки все почти мирские течения нашей общественной и народной жизни: это есть вызревшая жатва, которая только ожидает делателей-сеятелей, чтобы стать пшеницей Божией...” Поэтому он так настаивает на необходимости для пастыря знать “жизнь и науку,” особенно “со стороны их заманчивости для современных характеров, а равно и их влияния на нравственную жизнь человека.” В особенности он подчеркивал значение литературы и Достоевского считал учителем жизни. С нескрываемой иронией он отзывается о тех ревнителях, которые хранят свою веру скорее просто по привычке, “и потому они все боятся читать мирские книги.” Они боятся за себя, за свою неосознанную веру.
“Отсюда исключительность и нетерпимость таких религиозных людей, отсюда же и бесконечные речи о противоположности знания и веры, о религии безотчетного чувства, о гибельности любознательного разума, опасение религиозных споров и даже несочувствие к принимающим православие иноверцам...”
У Антония всего было очень острое чувство внутренней независимости Церкви, как не от мира сего, и отсюда совершенное отличие всех форм церковного действия от жизни мирской. Пастырь всячески должен оберегаться от внутреннего или душевного обмирщения, от заражения формализмом или законничеством, и должен еще более остерегаться духовного насилия. Нужно действовать истиной слов, а не подавлять совесть своим авторитетом. Царствие Божие устрояется на земле только силой духовного возрождения. “Не из учреждений политических, но именно из подвига свободных душ идет очищение нравов...” Это приводит Антония к теоретическому столкновению с государством. Русская Церковь в плену у государства. “Лишена законного главы и отдана в порабощение мирским чиновникам.” И Синод есть учреждение вполне неканоническое, “неведомое святому православию и придуманное единственно для его расслабления и растления,” и совсем не есть соборное правление. “И этому учреждению отдана в порабощение Православная Церковь...”
Антоний верит в общественное призвание Церкви, — строить Царствие Божие. Но он слишком решительно размыкает Церковь и мир, и мир оказывается особенно беспокойным соперником, когда предоставляется своей особой судьбе. Антоний всегда боялся церковного вмешательства, как обмирщения, но принцип аскетического невмешательства означал практическое отступление перед миром, — пусть оно задумывалось, как победное выступление из мира...
Но не в этом и прикладном вопросе главная слабость церковно-практической схемы Антония. Гораздо важнее чрезмерность его морализма, его моралистической психологизм. Утомляет это постоянное подчеркивание, что христианство есть “религия совести.” И снова пастырством почти заслонено само священство. Сакраментальный момент в жизни Церкви и в пастырском делании остается совсем нераскрытыми В свое время Антоний, упрекал Влад. Соловьева именно за его сакраментализм.
“Мы не можем согласиться с тем что автор, по-видимому, уделяет на долю пастырей только священнодействование, на которое он опять же смотрит не как на акт моральный (“возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы”), но как на акт только “мистический,” т. е. как на какое-то священное волшебство. Любимая его речь — о таинствах, как материальных посредствах благодати, о духовно-мистическом теле Церкви и т. п..”
Антоний, очевидно, не заметил, что его упреки поражают не только Соловьева, но и весь сонм отцов, от Златоуста и даже от Игнатия Антиохийского с его “врачевством бессмертия,” и до Кавасилы и Симеона Солунского. Антоний же в пастырском действии выдвигает вперед не священство, но заботы об “общественном благе”…
Достаточно сравнить пасторологические статьи Антония с “дневником” о. Иоанна Кронштадтского, чтобы почувствовать всю неполноту и всю духовную нескладность этого одностороннего морализма. Строго говоря, это все тот же гуманистический идеал “общественного служения,” перенесенный в Церковь, идеал деятельного альтруизма. Антоний много говорить о молитве, и в ней справедливо усматривает основной устой пастырского действия. Но он слишком мало говорит о таинствах. И самую молитву он понимаете как-то психологически, как преодоление духовного одиночества. Характерно, что, “догматизм” богослужебного чина (у Дамаскина и др.) он считал уже “низшей ступенью,” по сравнению с целостным вдохновением первых веков, хотя в этой богослужебной поэзии все еще много духовного восторга и созерцаний. К позднейшему “византинизму” Антоний относится скорее сурово и сожалеет, что “наше религиозное сознание воспитано совершенно в направлении этого, исключительно отрицательного, склада духовного саморазвития, исчерпывающегося в одной борьбе со страстями и мало знающего о положительных плодах царствия Божия, о жизни радостной любви к людям.” Всегда чувствуется этот некоторый привкус гуманистического оптимизма...
Антоний возводит свое пастырское мировоззрение к святоотеческому источнику, и не без основания. Но еще сильнее в нем влияние современности. Психологически Антоний гораздо ближе к славянофильской публицистике, чем даже к русскому “Добротолюбию.” И при всем своем отталкивании от “западной эрудиции” Антоний остается с ней слишком связан. Отказаться от западных книг еще не значить освободиться от западного духа. Уже в свое время была отмечена близость пастырских идей Антония к воззрениям С. А. Соллертинского [45] в его книге: “Пастырство Христа Спасителя” (1887). И здесь мы, с полной очевидностью, возвращаемся на почву “западной эрудиции.” Для Соллертинского все пастырство и сводится к “христианскому учительству,” и самое Искупление истолковывается, как учительство: “сообщение людям истинных понятий и истинных целей для человеческой деятельности.” Об этом и говорит основное имя: Сын Человеческий. Нагорная Проповедь и есть для Соллертинского как бы “символ веры” первозданной Церкви, некая программа Царствия Божия. Антоний движется в том же кругу идей...
И еще острее его морализм чувствуется в его догматических опытах. К началу 90-х годов потребность в новом богословском синтезе становилась все более чувствительной. “Схоластическое” богословие давно уже не удовлетворяло, “исторический” метод не давал именно синтеза, не созидал системы. И выхода стали у нас искать в нравственном раскрытии догматов. Догматика перестраивается с нравственной точки зрения. Антоний был одним из самых ярких представителей этого тогда нового богословия. Всегда у него просвечивает апологетическая задача, он стремится оправдать догмат из нравственного сознания. Оправдание это не в том, что догматы имеют нравственное приложение, но в них заключается некая “нравственная истина,” и в них именно обосновывается. Так истина Триединства Божия есть прообраз человеческого единства и любви, когда снимается непроницаемость “я” и “не я.” И в этом же нравственная идея догмата о Церкви. Догмат Триединства дает “метафизическое обоснование нравственного долга любви,” как учение о загробном воздаянии обосновывает добродетель терпения. Добродетель не обоснована ни в индивидуализме, ни в пантеизме.
“Здесь то и является на помощь Святая Троица, то блаженнейшее и истиннейшее бытия, где свобода и вечность Лиц не сокрушает единства, где есть место и свободной личности, но где нет безусловной личной самозамкнутости. Учение любви там закон внутренний, а не внешний долг, и, однако, любовь лиц друг к другу не есть себялюбие, так что она вполне сохраняет значение любви нравственной.”
Было бы напрасно расчитывать победить разделения в бытии и в каждой душе человеческой, если бы не было откровения Святой Троицы. “Без этого святого догмата Евангельская заповедь о любви была бы. бессильна...” Антоний приводить догмат не к духовному созерцанию, но к “нравственному опыту.” Он гораздо более осторожен в метафизике, чем были святые отцы. В этом его слабость. И есть у него несомненное сходство с Кантом, с его методом во второй Критике. Не есть ли “нравственный опыт” Антония все тот же “практический разум”? И не в том ли оправдание догмата, что в нем осуществлены идеальные предпосылки добродетелей? Сам Антоний признает за Кантом: “он умел отвлечь почти без ошибок от каждой истины веры ее практическую идею...”
Вся недостаточность нравственного толкования догматов очень резко открывается в учении Антония об искуплении. За этим учением чувствуется живой и подлинный духовный опыт, некая личная встреча со Христом, как Спасителем...
“Эти Его страдания о моих грехах являются моим искуплением, это Его долготерпение моим спасением, не в смысле только ободряющего примера, а в том дёйствительном смысле, что, зная Иисуса Христа, оплакавшего мою греховность по любви ко мне, своим стремлением идти путем Его светлости делаю Его достоянием своего существа. Им живу, Им оживляю в себе нового человека...”
Но при всей подлинности этого опыта в нем есть непобежденный привкус психологизма или пиетизма. И не достает объективности, не достает метафизической перспективы. В этом митр. Антоний решительно уклоняется от святоотеческого предания и мерила. Он рассуждает просто в другом плане. И вопрос ведь не в том, чтобы заменить слишком “юридическое” понятие удовлетворения (“сатисфакции”) более богоприличным началом любви. Нужно понять и объяснить место Искупления в домостроительном плане, как он объективно осуществился... Очень резко и несдержанно Антоний отвергает “школьно-катихизическое” учение об искуплении, т. наз. “юридическую теорию,” действительно перенятую из западной схоластики, — “я никогда не назову его церковным.” Но он идет много дальше, находит неуместным и самое понятие “жертвы.” Апостольские тексты он толкует в переносном и описательном смысле. И впадает в самый нестерпимый импрессионизм, стараясь объяснить смысл Крестной Смерти. “Телесные муки и телесная смерть Христова нужна прежде всего для того, чтоб верующие оценили силу Его душевных страданий, как несравненно сильнейших, нежели телесные муки Его.” Но падший человек одержим нечувствием. Без чувственного потрясения он не смог бы проникнуть в эту тайну душевной скорби.
“Наша природа так груба, так порабощена телесным ощущением и страхом смерти, что проникнуться разумением чисто душевных мук, состоявших у Христа в оплакивании чужой греховности, ей очень трудно, если это не сопряжено с телесными страданиями и оскорблениями от ближних.”
Очистительная кровь, спасительный крест, живоносный гроб, — все это только образы, означающее “общее понятие” искупительной страсти: “здесь берутся наиболее впечатлительные для нас моменты Его подвига.” Антоний, впрочем, допускает, “что по связи души с телом здесь имеется и более глубокий таинственный смысл.” Однако, для спасаемого всего важнее именно это впечатление, то чувство умиления, которое в нем вызывают распятие и крест. “Скорбь Христа за нас соединила нас с Ним и эта самая скорбь, становясь предметом нашей надежды и любви, пересозидает нас...”
Последовательность мысли приводит Антония и к отрицанию первородного греха. Не в согласии со своим собственным учением о единстве человеческого естества он истолковывает человеческую греховность совсем атомистически. “Адам был не столько виновником нашей греховности, сколько первым по времени грешником, и если бы не были его сынами, то все равно согрешили бы.” Во всяком случае, “наше рождение от грешных предков не есть единственная причина нашего греховного состояния.” Здесь есть особое устроение Божие. “Зная заранее, что каждый из нас возымеет Адамово своеволие, Он при рождении облагает нас смертной и падшей природой, то есть наделенной греховными склонностями, от которых мы познаем свое ничтожество и смиряемся.”
И более того: “не потому мы все, даже при добром направлении воли, являемся грешниками, что мы внуки Адама, а потому Всеведущий дает нам жизнь в качестве людей (а не ангелов, напр.), что Он провидел волю каждого из нас, как подобную волю Адама и Евы, т. е. по существу не злую, но непослушную и горделивую, а следовательно требующую исправительной школы, которой и является наша земная жизнь в теле...”
В этой искусственной конструкции сразу же поражает рассудочность и примитивность доводов, какое-то богословствование от здравого смысла, который упрямо насилует свидетельства откровения. Сам Антоний определяет свою теорию, как “обращение всего богословия в нравственный монизм.” [46] Онтологических предпосылок своего учения он не проверяет. Он ими точно и не интересуется. Он никак не связывает своего толкования с Халкидонским догматом о двух природах и с оросом VI-го собора о двух волях. И образ Христа Спасителя остается в его изображении очень неясным. Антония все время занимает только один вопрос: “почему для нас спасительны Христово воплощение, страдания и воскресение,” почему и как нам сообщается, или вменяется, или усвояется Его жизнь, Его святость, Его победа. И на этот вопрос, ему кажется, удовлетворительно отвечает только “нравственный монизм.” Наше спасение есть возрождение. И вот возрождает нас “сострадательная любовь, принимающая падения ближнего с такою скорбью, будто грешит сам любящий.” Сострадание есть страдание за другого. От человеческого и мирского опыта Антоний восходит к опыту Спасителя. “Должно думать, что в ту Гефсиманскую ночь мысль и чувство Богочеловека объяло всех падших людей в числе их многих миллиардов и оплакало с любовной скорбью каждого в отдельности, что, конечно, было доступно только сердцу Божественному, всеведущему. В этом и состояло наше искупление...” В мировоззрении Антония, при всей недосказанности, есть большая цельность. Но синтез богословский ему не удался. “Нравственный монизм” не был для того достаточно прочной основой...
Склонность к “нравственному” толкованию догматов на время становится преобладающей в нашем богословии. Нужно отметить уже книгу А. Д. Беляева, Любовь Божественная, опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала любви Божественной (1880; 2 изд. 1884). Эта книга написана еще в старой манере. под решительным влиянием немецкого спекулятивного богословия, с неожиданным пренебрежением к отеческим творениям. Автор отмечает “скудость и незначительность” данных о любви у отцов, исключая только Августина, и отказывается считать творения отцов в числе своих источников. В книге немало свежих мыслей и наблюдений. Но поражает в ней рассудочный психологизм. Автор старается разгадать именно психологию жертвы и страданий Спасителя, его послушания и огорчения и т. д. И уже у него выдвигается слишком вперед момент Гефсиманского борения. “Все, что есть мучительного в духовной смерти всех людей, все это Он испытал, пережил и выстрадал Своим сердцем.” Христос прошел даже через состояние “вечной смерти,” т. е. Богооставленности, как наказания. Именно в этом, по-видимому, “необъятность крестной жертвы.” Так вопрос об уничижении, о “кенозисе,” [47] был впервые поставлен в русской догматике...
Более уравновешенной была книга П. Я. Светлова, “Значение Креста в деле Христовом” (1892; 2 изд. 1906). Светлов начинает внимательным пересмотром и анализом свято-отеческих текстов и свидетельств. Западной “юридической” теории он хочет противопоставить именно учение отцов, Но это отеческое учение он применяет с характерной односторонностью. У Светлова совсем иет учения о человеке, как нет его и у Антония. Вместо учения о человеке — нравственная психология, учение о грехе и возрождении. Здесь всего больше чувствуется психологическое влияние протестантизма и уход от патристики. Богословие нужно разрабатывать эмпирическим методом, как область фактов. Здесь нет места для метафизики...
Светлов все время занят психологическим анализом. До Христа человек не мог поверить в добро, в любовь и прощение, и не было у него доверия к самому себе. И вот во Христе открылось, что человек лучше, чем можно было думать до того, — “чрез Него мы полюбили человека, поверили в него, нашли смысл жизни.” Христос показует в себе истину человека. “Евангелие спасло наше уважение к человеку, веру в его способность к добру...”
Христос своим учением возбуждает в людях любовь к Себе, и эта любовь ведет к “симпатическому подражанию...”
Но Христос не только учитель истины. Он еще и “Страдателец за истину и добро;” и ведь в этом мире самое добро уже есть страдание, “добро есть крест.” До Христа страдание пугало человека, как наказание и знак гнева, но через Христа оно становится радостным, как жертва. “Христианская религия есть религия Креста, т. е. страдания добра для победы над злом.” И Крест нельзя понять вне идеи жертвы. Здесь Светлов решительно расходится с Антонием. Для него именно понятие жертвы есть ключ к догмату Искупления. Высшая жертва есть любовь, и в этой любви сила жертвы Христовой. “Удовлетворение” приносится Богу Любви, и приносимое есть самая любовь.
“Христос в Своем святом сострадании к человечеству переживает на Самом Себе суд над человечеством, всю судьбу, определенную грехом, и в этом сострадании к человечеству, сливая Себя с ним, выражает со всей полнотой и любовь к человечеству, и любовь к Богу Отцу... Христос страдает за людей, но не отдельно от людей, а вместе с ними... Его страдание было состраданием, и Сам Он не только Страдалец но и Сострадалец...”
Это соучастие в жертве Христовой дается нам в Святейшей Евхаристии, как жертве и таинстве, “без которого крестное жертвоприношение не было бы закончено.” Здесь снова Светлов расходится с Антонием...
Он подчеркивает искупительное значение сошествия в ад, воскресения и вознесения. И завершается наше спасение в основании Церкви...
Всего ближе к Антонию примыкает Сергий Страгородский, теперешний митрополит Московский (род. 1867). В своей книге “Православное учение о спасении” (1895) он останавливается на нравственно-субъективной стороне догмата. Православное учение раскрывается в противопоставлении западному. Это есть противоположность нравственного и правового воззрений. Сергий стремится исключить всякий гетерономизм из учения и спасении. Нельзя спрашивать, за что человек получает спасение, а нужно спрашивать, “как человек содевает спасение.” Очень убедительно Сергий показывает тожество блаженства и добродетели, спасения и совершенства, так что здесь и не может быть внешнего воздаяния. Вечная жизнь и есть благо, и она не только ожидает нас, как что-то потустороннее, но и стяжевается уже и теперь. Верно изображен у Сергия и процесс нравственного обращения, от греха к Богу. Но слишком в тени остается объективная сторона процесса. Даже Антоний в свое время указывал, что Сергий очень неосторожно говорит о таинствах, особенно о крещении (“или покаянии,” уже одно это “или” характерно). Получается впечатление, что решающим в таинстве и является нравственный переворот, решение “прекратить грехи.” Покаянием человек обновляется, “нить жизни как бы прерывается.” Содействие благодати только закрепляет решение воли, “дело свободы.” Поэтому не так безусловно нужно и само совершение таинства, “раз образовалось в ком это существо истинного христианина — желание царства Божия.” Мученичество, даже и без крови, по внутреннему смыслу тожественно крещению, — “как то, так и это происходят от бесповоротного решения служить Христу и отречения от своих греховных желаний.”
И еще резче: “сущность таинства в укреплении ревности человека к добру. Спасаемся мы по милости — через веру. Верой опознаем милость, узнаем любовь Божию. т. е. что грех прощен и не заграждает уже пути к Богу. Узнаем в Боге Отца, а не Грозного Владыку...”
Сергий ставил себе задачей богословствовать из опыта, из опыта духовной жизни. И в этом значительность его книги. Очень важно и принципиальное возвращение к учению отцов. Однако, совсем неверно все содержание отеческого богословия сводить к аскетике, истолкованной при том психологически. Для отцов не менее характерен их метафизический реализм. Морализм и психологизм всего менее можно оправдывать из патристики. Вряд ли приемлем также и преувеличенный волюнтаризм в самой аскетике. Созерцание ведь остается пределом восхождения. И, во всяком случае, догматику нельзя заменить аскетикой, и не следует в аскетике растворять. Такое искушение всегда бывает показателем богословского упадка. Есть упадочные черты и в русской школе “нравственного монизма.” В ней не было созерцательного вдохновения, и слишком много психологического самоанализа. Это был несомненный отзвук западных богословских настроений, чрезмерного внимания к проблеме оправдания. К отцам нужно было вернуться полнее и с большим смирением.
12. Морализм в русском богословии. Михаил Михайлович Тареев.
Самым крайним представителем морализма в русском богословии был М. М. Тареев (1866-1934). [48] В Московской академии он занимал кафедру нравственного богословия. Основные очертания его богословской системы определились уже в его первой книге.
“Мой первый труд “Искушение Богочеловека” представляет уже всю систему моей христианской философии, и можно поставить знак равенства между этим трудом и “Основами Христианства.” Все мои последующие сочинения представляют лишь дальнейшую разработку данных уже в нем тезисов”...
Все содержание христианства Тарееву открылось под знаком “религиозного искушения.” Это один из ключей его системы. “Религиозное” искушение строго различается от искушений “нравственных,” уже предполагаюших похоть и утрату невинности. “Религиозное искушение” есть искушение мысли, искушение жизненными противоречиями. Вернее сказать, здесь не столько противоречия, сколько несоответствие между идеалом человека, созданного по образу Божию, и его практической ограниченностью и утеснением. “Искушения религиозные возможны только для богоподобного ограниченного существа и постигают человека независимо от его нравственного состояния.” Иначе сказать, это и есть искушение богочеловеческое, по существу и содержанию. Острота искушения в намерении и желании “нарушить законы этой ограниченности во имя своего божественного начала, удовлетворить своим бесконечным стремлениям и таким образом утвердить свое божественное достоинство в своей данной ограниченной исключительности.” Это и есть религиозный грех самооправдания и самоутверждения, настроение “религиозного протеста.” Побеждается религиозное искушение верой и покорностью, — “верой в богосыновнее достоинство человека, неколеблемое ограниченностью данной действительности его жизни.” Эту ограниченность нужно принять и понести, ибо она не нарушает “божественного закона” личной внутренней жизни. В том и заключалась победа Христа, в этом Его “уничижении,” в Его кенозисе, в подчинении Божественной Жизни условиям и законам человеческого существования.
“Откровение Божественной жизни во Христе нужно так понимать, что полнота откровения стояла в зависимости от полноты человеческой жизни.”
Образ Христа в начертании Тареева остается очень неясен. Не отвергая догматов и догматических формул, Тареев очень ограничивает их смысл и приложимость, спешит их отодвинуть, чтобы вернуться к “евангельской истине,” которую они для многих почти заслоняют. Но и самое Евангелие для Тареева не есть исторический образ Христа, а скорее некая символика Его жизни, “религиозно творческое изображение,” “символическое облачение евангельской идеи.” Это есть откровение Божественной жизни в ограниченности исторического бытия. Вот эту “евангельскую идею” Тареев и старается вскрыть и показать.
“Евангельский Христос, это — единственный Человек, живший всецело для дела Божия, небесный человек, это — душа, исполненная одной религиозной идеей, это — только Сын Божий, почти не касающейся земли, почти без исторически бытовой окраски, без малейшей земной пыли... Сам Христос сознавал Свою жизнь в качестве откровения Отца. Это самосознание Христа не было Его самообманом или отвлеченной мыслью, выдумкой. В Нем это самосознание было непосредственно, природно, и оно было настолько реально, что определило всю Его жизнь...”
Евангелие раскрывает в символах религиозный опыт Христа, и в нем вся новизна христианства. То был опыт и (пример) блаженного самоотречения: “первый дошел до конца жертвы, первый всю жизнь построил на блаженстве самоотречения, первый насытился делом Божиим до полноты, до забвения о земной пище, о земных благах.” И в этом опыте Божественное открылось и было показано, как любовь. Этим откровением любви или Богосыновства, собственно, и исчерпывается все христианство. В нем и спасение, дар вечной духовной жизни.
“Любовь по существу божественна и только божественна.”
И во Христе любовь “была явлением жизни нечеловеческой.” И потому по человечески любовь и невозможна. Любовь упраздняет и отменяет всю эту внешнюю или объективную действительность. “Христианская любовь, как идеал, как заповедь, совершенно непонятна, немыслима, невозможна. Христианская любовь — духовное дарование, обладающее всего силой страсти, заключающее в себе все упоение мистической красоты...” Каждый христианин должен в себе и для себя как-то повторить кенотический подвиг Начальника жизни, в себе пережить опыт Христа, “опыт творческий.” Преодолеть “религиозное искушение” и смириться в богосыновней покорности...
“Евангелие учит, что человек может и в условиях временного существования жить божественно-духовной жизнью, — и это есть истинная и вечная жизнь человека.” Тареев подчеркивает: “во всем евангелии нет слова: надежда”...
Это значит, что все уже дано и доступно, и нет надобности ждать, ибо Царствие Божие от времени не зависит, “от внешней продолжающейся истории,” со временем не связано, но всегда открыто в “интимном опыте,” во “внутреннем переживании,” во внутренней абсолютности духа...
“Если внутренняя религиозная абсолютность ничего не приобретает и ничего не теряет в грядущих веках, то конечно и грядущая история не вытекает из евангельской идеи, не требуется ею, является лишь внешним случайным придатком к ней...”
Этот радикальный противоисторизм Тареева связан с его основной предпосылкой. Есть два вполне разомкнутых и разнозаконных мира, “и нет щелей, который прямо бы вели из одной области в другую.” Есть мир внешний и исторический, и в нем действуют свои законы, естественный “этический разум,” и для этого мира нет и не может быть евангельской или христианской нормы, и есть мир личной жизни, религиозной интимности, но этот мир и вообще не имеет исторической стороны. Иначе сказать: христианству в истории собственно нечего делать, ибо в истории и сделать ничего нельзя. Церковь из этого мира приобретает чад своих. Но всякое вмешательство во внешнюю жизнь будет уже нарушением естественной свободы мира. Историческое христианство символически освящает мирскую жизнь. Но для мира и это уже есть аскетическое утеснение, “аскетическое урезывание жизни” (напр, у Соловьева). Для христианства же это есть стеснение и подмена, подмена истины символами.
И не заменена ли в историческом православии духовная жизнь символикой богослужебного обряда?...
Христианство есть личный подвиг, а не исторический процесс. И этот подвиг есть снова “кенозис.” Христианин живет под двоякой нормировкой, религиозной и естественной, и он должен сочетать свою интимную религиозность с полнотою этой естественной жизни...
“Христианская история не есть прогресс христиавства...”
И не в истории прогресс христианства. Весь смысл исторического процесса ведь только в том, чтобы в “ничтожестве” или ограниченности плотской жизни просияла Божественная слава, явилась Божественная жизнь. О себе история беcцельна и лишена смысла...
Для Тареева церковь есть “второстепенная” или “производная реальность в христианстве,” “историческая форма христианства,” нравственная организация, “благочестивое общество.” Только в образе Церкви христианство приобретает природное и историческое значение, становится культурной силой. Но ведь и самая история уже вторична в порядке ценностей. И в истории самое христианство точно выцветает.
“Внутреннее христианство всецело божественно и неподвижно, как вечность; Церковь же имеет земной вид, носит черты человеческой условности, исторически развивается. В Церкви белое христианство личности покрывается земною пылью, сияет темными цветами, движется, развивается.”
И все это уже только внешний план, область условностей и символов. Существо же христианства в его интимности, “в религиозной абсолютности добра, в абсолютной ценности личности...” Тареев начал строить свою систему рядом с догматикой, подчеркивая, что строит свое личное мировоззрение, “личное понимание христианства, личное религиозное мировоззрение,” и оно просто несравнимо с общезначимым учением Церкви, как лежащее в другом плане. Но уже сразу привходит сюда некая оценка: “евангельская идея” выше всякого верования и догматических “символов,” и “религиозная интимность” выше всякого учения и правил, “подъем к чистой божественности.”
“Прошлое богословия было временем. безраздельного господства догматики..., будущее богословской науки станет под знамя субъективного метода религиозной философии, этико-мистического изучения христианства...” Однако, эта этика совсем особая: “евангельское учение не знает понятий совести, природной свободы и естественного нравственного закона...”
Своей системы Тареев не достроил и остановился на методологических вопросах. Он все христианство вновь хотел бы перевести “на язык духовного опыта.” Не совсем ясно, что это значит. Тареев выражается очень патетически, но вряд ли точно.
“Оценивающее верующее отношение, в противоположность объективному знанию, вот что здесь единственно важно. Здесь познающий весь в порыве, весь в движении, с протянутыми вперед руками, с устремленным вдаль взором, с горящим сердцем... Здесь задача в том, чтобы все христианские формулы, все богословские понятия пропитать ароматом опыта, благоуханием мистических переживаний?”... Строго говоря, здесь на место учения о бытии выдвигается учение о ценности: “это уже не перспектива действительного бытия, а перспектива истинного бытия, ценного бытия...” Или иначе: не мир знания, но оценки...
Гораздо яснее, чего Тареев не хочет, что он отвергает. Это, прежде всего, объективность: “духовная наука отвращается от объективных, логически принудительных суждений.” Тареев признается даже в “органическом отвращении” к объективизму. И, затем, мистицизм, — натуралистический “опыт экстаза, видений, фотизмов,” иначе сказать: “греко-восточный дух,” “философия дохлого эстетизма...”
Постепенно Тареев приходит к острому сомнению в приемлемости самой “греко-восточной концепции христианства.” Он имеет в виду не самое церковное учение, но “системы древних христианских мыслителей,” т. е. патристику.
“Нужно освободиться и от византийского ига...”
В своей последней книге, “Христианская философия” (1917), Тареев отвергает и опровергает самый “принцип отечества,” иначе сказать, начало Предания. Слово Божие и Предание в известном смысле равноценны, но вполне разнородны, друг друга заменять не могут, говорят о разном. Слово Божие содержит существо христианства. Предание же есть только уложение церковное, и имеет только условный смысл и значимость, ограничено социальной средой. Это относится и к самому догмату: “ценность догмата в единстве церковной жизни.” В интимном опыте догмат не значим (“призрачность догматизма”). “Догмат необходим, поскольку церковь едина, поскольку необходимо единство церковной жизни.” Однако, в силу своей формальности догмат не стесняет богословской свободы: “церковно-догматическое учение заключается в логически-абстрактных формулах, не внушающих никакого мистического, опытного содержания, и потому не стесняющих творческого пути христианской мысли.” Ее стесняют отеческие системы, когда им присваивают “догматическое достоинство.” И это бывает или в порядке иерархического произвола, или в порядке произвола догматических писателей. Тареев отвергает всякий интеллектуализм, унаследовааный патристикой от античной философии. Духовная философия есть философия сердца.
“Духовный мудрец,” подчеркиваем Тареев, “никогда не собъется на путь теоретического объективизма..., он мыслит исключительно и последовательно сердечными, нравственно-мистическими оценками.” Это именно прямая противоположность патристики.
“Святоотеческое учение есть сплошной гностицизм... Гностицизм и аскетизм, вот что подарила нам греческая традиция... Святоотеческая литература была проводником в нашу культуру чужого, национально-греческого, упадочного, гностико-аскетического миросозерцания и жизнепонимания... Гностицизм и аскетизм — заклятые враги русского гения... Византийский аскетизм огравил нашу волю и исказил всю нашу историю...”
Греческой традиции Тареев хотел противопоставить русскую. Он готовил книгу по истории русского богословия и в ней показывал эту русскую традицию, философию сердца, хотел связать Платона Левшина с Феофаном Затворником. Эта была волна подражательного пиетизма. К пиетизму возвращается собственно и сам Тареев, хотя и идет при этом долгим и обходным путем, через очень сложную теорию кеноза...
Не напрасно Тареев говорит обычно о духовной или христианской философии. Он именно философ, “мудрец,” больше чем богослов. И “евангельская идея” является у него уже в достаточно своеобразном философском одеянии. Философские мотивы у него вряд ли не сильнее “евангельских.” Только он вдохновляется не метафизикой, но “философией жизни.” И хотя он подчеркивает свое расхождение и с Лотце, и с позднейшими “теориями ценности,” и с прагматизмом, его концепция принадлежит к тому же типу учений...
Учеников у Тареева не было, не встретил он и сочувствия, он вызывал скорее сопротивление. Он остался одиноким, уединенным мыслителем, как того, собственно, требовал и самый его принцип. И именно в этом своем уединении он характерен для эпохи. “Воздержание от объективности,” это напоминает даже и русскую “субъективную школу” в социологии, о которой и сам Тареев упоминает. Принцип религиозной интимности вообще типичен для моралистического модернизма конца прошлого века на Западе, и это западное веяние вскоре распространилось и у нас. Этику противопоставляли догматике, и этикой пытались догматику заменить. Против этого в свое время решительно и удачно возражал кн. С. Н. Трубецкой. Тареев разделял настроения среднего человека своего времени. Догматика ему слишком мало говорила. Она не отвечает на запросы верующого сердца.
“Догматист не отзовется на его запрос. Его задача формулировать христианство в терминах философии. Он учит о том, что было, когда ничего не было, что происходит на небе и что будет за гробом, а о том, что происходит в христианской душе, здесь на земле, теперь, у него и терминов нет, слов нет. Язык его к таким темам совсем не приспособлен.” Это типические доводы обывателя против “отвлеченной” философии...
И вместе с тем, это есть выход из истории, еще один симптом упадочного утопизма, уводящего в личную жизнь от напрасной суеты исторического делания...
13. Опыт антропологического построения богословской системы. Виктор Иванович Несмелов.
В богословии возможен двоякий путь: сверху или снизу, — от Бога или от человека, — от Откровения или от опыта. Патристика и схоластика идут первым путем. “Новое богословие” предпочитает путь снизу. Морализм в богословии и есть один из видов этого антропологического уклона, но не единственный...
Очень своеобразный опыт антропологического построения богословской системы был сделан В. И. Несмеловым (род. 1863), [49] профессором Казанской духовной академии, в его двухтомной книге: “Наука о человеке” (1896 и 1903)...
В молодости Несмелов занимался патрологией и написал основательную книгу о святом Григории Нисском (1886). Но в его философском развитии еще больше сказалось его критическое разочарование. Он был некоторое время под сильным влиянием эмпиризма, отрицал возможность метафизики, выносил вопрос о Боге за пределы философии, как доступный только вере. Эти впечатления сильно сказываются и в его позднейших построениях...
Несмелов сознательно начинает от человека, исходить из данных внутреннего опыта или самосознания. “Загадка о человеке” и есть для него перводвигатель религиозного развития. Это единственная загадка в мире. Бердяев удачно говорит о Несмелове: “Основная мысль Фейербаха об антропологической тайне религии обращена им в орудие защиты христианства.” Несмелов и сам отмечает свою близость к Фейербаху. Загадочна в человеке его двойственность: “по самой природе своей личности человек необходимо изображает собою безусловную сущность и в тоже время действительно существует, как простая вещь физического мира.” Загадочно несоответствие и противоречие между “безусловным характером” личности человеческой и “условным бытием.” В самосознании человек выходит за пределы этого мира, и не только в своих желаниях или заданиях. Самая природа человека не умещается в гранях самого человека, вещного мира. И самым существованием своим, “как живой образ Бога,” человек свидетельствует о бытии Божием. Человеческая личность “самим фактом своей идеальной реальности непосредственно утверждает объективное существование Бога, как истинной Личности...”
Но противоречие свидетельствует и о вине (“ненормальное состояние мирового бытия”). И человеку свойственно стремление высвободиться из природного мира, ибо он призван к лучшей и истинной жизни, и богоподобному существу недостойно вести жизнь вещную или природную только...
Доказательством этой двойственности человеческого существа является и само грехопадение.
“Человек захотел сделаться богом... Он создал относительно себя необыкновеную иллюзию!.. Но уже одно то обстоятельства, что человек мог обольстить себя желанием божественной жизни, что он мог не удовлетвориться своим действительным положением в мире и отвергнуть это положение, одно уже это обстоятельство само по себе доказывает, что человек не случайное порождение земли и не прирожденный раб природы...”
Рабом природы человек стал, а не родился. В том весь трагизм грехопадения, что человвк сам себя включил в природу, “ввел свой дух в общую цепь мировых вещей.” Падение в том, что высшей цели первый человек захотел достигнуть не на пути духовной свободы и верности воле Божией, но на пути магизма и суеверия, из внешней природы. Эгим первые люди снизили и унизили себя “до положения простых вещей мира.” Человек введен в мир, как деятель, как осуществитель, не только как осуществление Божия замысла. И вот человек не то осуществил. Человек сам создал этот мир преступления, этот злой мир, в котором он теперь живет (именно, как “человек — вещь”), — “факт зла несомненно тожествен с фактом падения.” Этот мир есть создание человека. “Тот же мир, который действительно был создан Богом, человек уничтожил своим преступлением...”
Спасает человека Христос, и спасает его Своей Крестной смертью и воскресением. Несмелов очень резко отвергает всякое “юридическое” истолкование искупления и спасения, в терминах воздаяния, возмездия, выкупа или кары. Но смерть и воскресение есть “единственный” и действительный выход из греха и зла. Мир воссоздан и изменен Христом, но так, что условия его наличного существования еще остаются неприкосновенными. Смерть уничтожает и грех или вину. Но обычная смерть разрушает и самого человека. Поэтому недостаточна обыкновенная мученическая смерть, хотя она и уничтожает грех. Но вот Христос воскрес, и Его воскресение закрепляет освобождающий от греха смысл Его смерти. Смерть Христова есть жертва и самопожертвование. И Сын Божий умирает за людей.
“Христос принял смерть и принял именно мученическую смерть за истину своего нравственного служения Богу духом и истиною... Его мученическая смерть за верность Божию закону жизни действительно составляет величайшую победу над злом.”
У Несмелова здесь присоединяется своеобразный мотив. Только Сын Божий, как создатель мира, и может (“имеет основание,” как характерно говорит Несмелов) “взять” грех или принять на себя грех мира, все грехи мира.
“Ведь, если бы Он не создал мира, то не существовало бы никакого греха и не было бы никакой погибели от греха. И значит, — Он только один может отвечать за происхождение и существование мира и за действительность оснований и целей своего божественного творчества... Эта самая ответственность составила для Него достаточное основание, чтобы явить грешному миру чудо спасающей любви своей, потому что, на основании своих творческих отношений к миру, Он во всех преступлениях грешного мира благоизволил обвинить Себя самого, как Творца всего мира...” Так тонко рационализируется изнутри и самое движение Любви Божественной...
Однако, хотя грех перенесен (“на Первовиновника бытия”) и этим уничтожен, для спасения требуется личное соучастие, покаяние, подвиг, и вера в оправдание Христово. Спасаются только ищущие.
“Кто не признает нужды в искуплении, тот и не может, конечно, желать, чтобы грехи его были взяты с него Христом, а потому и он тоже остается в грехах своих. И кто признает нужду в искуплении, но не верит в искупительную силу крестной смерти Иисуса Христа, тот и не может, конечно, желать, чтобы грехи его были взяты с него Христом, а потому и он также остается в грехах своих.” Впрочем, есть надежда прощения и в будущей жизни, по милости Божией...
Исполнится спасение только в грядущем воскресении. И воскрешает один только Христос. До времени Второго Пришествия в царствии Христовом только сонм святых Ангелов. Праведные люди до тех пор все еще будут ожидать и только веровать...
У Несмелова очень своеобразная схема воскресения. В день воскресения Христос даст каждому “силу творчества жизни” и этою силою души умерших “мгновенно разовьют свою собственную творческую деятельность и сами образуют себе свои будущие тела.” Это будут новые тела, применительно к новым условиям мира, но личного тожества это не умаляет... И самый мир погибнет и изменится.
“Божественная сила Христа Спасителя мгновенно преобразует хаос разрозненных стихий погибшего (в страшном пламени мирового пожара) мира в новый славный мир Божия царства...” Воскресением Христовым, как выражается Несмелов, “введен закон воскресения умерших,” как грехопадением прародителей был введен “закон неминуемой смерти.” Ибо во Христе человеческая природа “стала собственным телом Бога, — и остается в нем вечным телом Бога.” В своем человечестве Христос и весь род человеческий приобщил вечности.
“После Христова воскресения из мертвых каждый человек является носителем вечной природы..., потому что каждый человек носит ту самую природу, которую Христос сделал вечной природой; так что по своей человеческой природе, как единосущный Христу, каждый человек необходимо является членом вечного тела Христова...”
О последних судьбах мира Несмелов говорит очень невнятно и неубедительно. Здесь слишком много рассудочных домыслов и гаданий. Он считает вероятным всеобщее прощение людей, “исключительно только по собственной милости спасающего Бога.” Грех может быть прощен человеку и в будущей жизни. Несмелов допускает что будут прощены и некоторые из падших духов, которые веруют и трепещут. Идея апокатастазиса ему представляется убедительной “в сфере рациональных соображений...”
Суд и последнее Воскресение будет восстановлением того мира, который разрушился в грехопадении. “Всемогущий Бог все-таки осуществит свою вечную мысль о бытии и действительно воцарится в мире.” Все доброе будет спасено, а злое не может перейти в вечность. Злые дела погибнут вместе с погибелью нынешнего мира, а в вечный мир воскресения перейдут только люди, виновные в зле, но не их злые дела...
Несмелов сводит всю “метафизику жизни” к некоему парадоксу, к парадоксу “неудачного откровения.” О мире сразу приходится утверждать двоякое. “Мир есть откровение Божие, и мир не служит откровением Бога.” Это есть та же двойственность, что и человек в себе открывает. И “неудача” от человека больше всего и зависит...
В построении Несмелова есть какая-то изначальная неувязка. Он резко подчеркивает иррациональность христианства, его соблазнительность для ума человеческого: “христианство явилось в мире, как невероятное учение и непонятное дело.” Но вместе с тем старается оправдать христианство доводами разума, “путем научного исследования всех данных в опыте несомненных фактов мировой действительности.”
И все дедукции Несмелова имеют рассудочный характер. Самая вера у него снижена до уровня здравого смысла, “есть признание за истину сообщения о таких фактах, которых мы сами не наблюдали и не можем наблюдать, но вероятную действительность которых мы все-таки можем утверждать.” В логике Несмелов остается на почве философского эмпиризма. Во всей его системе нет места для умозрения и слишком много каких-то житейских соображений и расчетов, доводов от возможности и вероятности (всего больше это сказывается в главе о падении, где Несмелов дает гадательную схему доводов и мотивов диавола, и о последних. судьбах). И есть в этом какое-то миссионерское упрощение самих истин. Он все время старается показать, “что апостолы могли так учить, как излагается их учение в содержании церковной веры, и что они даже не могли учить иначе, чем учит теперь Церковь” Он стремится все сделать в христианстве совершенно ясным.
“Ведь если бы я узнал, почему христианством утверждается догмат о Святой Троице, я бы мог обсудить основания этого догмата, и если бы я увидел, что не принять этих оснований я не могу, то я уж не мог бы подумать о Боге иначе, как только о Троичном”...
Принятие христианства есть по Несмелову какой-то рассудочный акт, акт рассудительности и благоразумия: “кто найдет в христианстве оправдание и разъяснение своих познаний, тот необходимо и примет христианство” И если бы удалось построить такую единую систему убедительных познаний, то сразу же прекратились бы все религиозные разногласия и споры, и все бы приняли правую веру. “Человек погибает только по невежеству своему,” это очень характерное признание Несмелова. И он хотел бы разъяснить человеку, что нет для ума никаких препятствий усвоить себе содержание проповеди, и есть все основания “принять христианство в качестве религии…”
Замысел Несмелова очень интересен. Он хотел бы показать тожество христианской истины с идеалом человеческого самосознания. Но всего у него слабее именно психологический анализ, всегда отравленный каким то нравственным прагматизмом. В его системе все как-то слишком расчитано и схематично. Рассуждений больше, чем опыта или интуиции. Несмелов притязает, что его мировоззрение построено на фактах, а не на понятиях (и как характерно такое противопоставление сразу для “прагматизма” и “позитивизма”!). Но самые факты представлены у него всегда только в чертеже или схеме, без плоти и красок. Поражает у Несмелова нечувствие истории. Человек, о котором он говорит живет не в истории, но наедине со своими тягучими мыслями. И когда Несмелову приходится говорить об исторических фактах, он больше о них рассуждает, чем изображает их. О Церкви он тоже говорит удивительно мало. О таинствах Несмелов говорит очень неточно, перетолковывает их психологистически (крещение, как некий “общий символический знак” вступления в состав исповедников и последователей Христа, и т. д.)...
Все в его построении слишком сдвинуто вперед, в будущее. Историческая реальность явно недооценивается. И недооценивается в такой решительной мере, что даже и не образуется никакого натяжения между настоящим и будущим, нет никакого становления. Ведь этот мир вообще должен упраздниться, он просто совсем не тот, который должен существовать. И пока этот мир еще не упразднен, и новый мир еще не воссоздан, человеческая судьба остается неразрешенной... Система Несмелова не удалась именно, как система. Вопросы подымаются в ней важные, но в какой-то очень неловкой постановке. И образ Христа остается бледным. Он точно заслонен рассудочною схемою Его дела. Проблем духовной жизни Несмелов почти не касается...
Его книга остается очень показательным памятником его эпохи, уже ищущей, но еще слишком недоверчивой, чтобы найти Очень чувствуется, что книга написана в тихом углу ...
В истории русского богословия резко проступает общее противоречие русского развития. Расходятся и вновь, сталкиваются два настроения: историзм и морализм. Это ясно сказывается уже с пятидесятых годов. Остро проявляется историческая любознательность, историческое чутье и внимание, любовь и умение возвращаться сочувственным воображением в прошедшие века. Эта новая чуткость сочетается нередко с тем философским проникновением в историю, которое осталось в наследство от романтической эпохи и от “сороковых годов.” Историческое направление в русской богословской науке было очень сильным и ярким. Но в те же годы начинается и какой-то неудержимый рецидив “отвлеченного морализма.” И в нем историческая нечуткость и даже прямое нечувствие скрещивается с пафосом безусловного долженствования. Психологически это был довольно неожиданный возврат в ХVIII-ый век, с его “просвещением” и с его “чувствительностью.” И этот рецидив с большой силой сказался в русском богословском творчестве.
Здесь были свои приобретения. Повысилась нравственная восприимчивость, иногда слишком нервная и болезненная. Усилилась личная заинтересованность в религиозной проблематике. Но с этим нераздельны и опасности. И всего сложнее опасность психологизма: точно уход с бурных просторов объективной действительности в некую теплицу чувствительного сердца. Это означало сразу и “отставку разума” в богословии, и некий надрыв в напрасном смирении, и прямое равнодушие к истине. Морализм в русском богословии имел все признаки упадочного движения. В обстановке общественного и политического испуга это настроение становилось особенно зловещим. В психологических соблазнах разлагалось и размягчалось самое чувство церковности, таинственная реальность Церкви становилась менее очевидной и убедительной, и отсюда только новые страхи. Именно в эту двусмысленную эпоху сложился наш недавний стиль церковной бедности и простоты.
“Морализм” или “нравственный монизм” в богословии означал кризис церковной культуры, самой церковной культурности. Как то было установлено, и слишком многими без доказательств, принято на веру, что Церковь исключает культуру, что церковность и должна быть вне культуры. Самые сильные доводы в защиту этого врядли доказуемого положения можно было привести от “аскетического” мировоззрения. Но вся острота этой притязаемой церковной “некультурности” была не в том, что налагался запрет на “светскую” культуру, но в том. что отвергалась к самая церковная культура, культура в Церкви. И этого не требовал “аскетический принцип,” если только прилагать его здраво и мудро.
Великие Василий и Григорий, при всем своем аскетическом самоотречении, всегда оставались людьми тонкой культурности, и это не было в них слабостью. И тоже можно повторить и о многих других, о Максиме Исповеднике, например, или об Иоанне Дамаскине, если и не упоминать об Оригене или о блаженном Августине. У нас же понижением культурного уровня Церкви ослаблялась ее духовная и историческая влиятельность. Это был кризис и надрыв. И здесь же еще раз нужно напомнить о болезненном разрыве и антагонизме “белого” и “черного” духовенства, которые все более углублялись. Здесь было в основе и действительное расхождение церковных идеалов и концепций. Борьба отбрасывала обе стороны в крайность. Примирение и синтез были психологически почти невозможны. И к тому же свобода обсуждения была слишком стеснена. А все эти противоречия и диссонансы обычно прикрывались или заслонялись искусно налаженными условными схемами...
Вторая половина прошлого века в истории русского богословия никак не может быть названа временем бессилия и упадка. За это время было сделано очень много. И темп событий был достаточно скорым. Но эта была эпоха смутная, раздвоенная, тревожная. Историку приходится все время отмечать противоречия и неувязки. Это не было время сна. Это было, напротив, время повышенной возбужденности.
[1] ИВАНЦОВ-ПЛАТОНОВ Александр Михайлович (1835-94), русский церковный историк и писатель, протоиерей. Профессор Московского университета (с 1872).
[2] КАРИТАТИВНОЙ – милосердной.
[3] ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1823-1889), граф, государственный деятель и историк, почетный член (1866), президент (с 1882) Петербургской АН. В 1864-1880 обер-прокурор Синода, в 1865-1880 министр народного просвещения, сторонник классической системы и сословных начал обучения. С 1882 министр внутренних дел. Один из вдохновителей политики контрреформ. Труды по истории России 18 века.
[4] ИНДИФФЕРЕНТИЗМ — постоянное равнодушие или безразличие в отношении к чему-нибудь. Принципиальное значение имеет И. в области высших вопросов жизни и знания — И. религиозный и философский. Противоположная И. крайность есть фанатизм, коего не чужда и философия (autoV eja — сам сказал — пифагорейцев, jurare in verba magistri). В. Соловьев.
[5] АНАХОРЕТ (греч. anachoretes), пустынник, отшельник.
[6] ФЕРУЛА — линейка, которой прежде били по ладоням ленивых школьников, в переносном смысле стеснительное покровительство.
[7] В своей практической жизни православная Церковь всегда руководствуется одновременно двумя принципами, называющимися греческими словами “АКРИВИЯ” (akribeia) и “икономия” (oikonomia). Первый термин переводится как “точный смысл, строгая точность,” второй же в новозаветном языке обычно используется в значении “домостроительство.” Принцип акривии подразумевает строгое и точное следование принципам, изложенным в Слове Божьем и Предании Церкви. Принцип же икономии предполагает, что Церковь, из-за немощи человеческой, до некоторой степени поступается точностью ради сохранения мира и блага церковного. Различение и применение одного или другого принципа, между прочим, — существенный компонент благодати священства, даруемой нашим архипастырям. Конечно, это и их тяжкий подвиг.
[8] АКТИВИЗМ (20-30-е гг.) — родившаяся в Российском зарубежье разновидность политического экстремизма. Термин “активизм” возник в среде российской эмиграции в середине 20-х гг. Наиболее раннее упоминание этого термина содержится в работах П. Б. Струве, считавшего “активистами” деятелей тех организаций, которые ведут активную борьбу с большевиками. Со временем этот термин получил более широкое толкование: “активистами” стали называть всех, кто активно боролся с Советской властью. Он все чаще стал использоваться многими учеными, военными, общественными деятелями, публицистами (П. Н. Краснов, Г. П. Федотов и другие).
[9] РЕНАН (Renan) Жозеф Эрнест (1823-92), французский писатель, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1860). В “Истории происхождения христианства” (кн. 1-8, 1863-83) изображал Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником. Критикуя Библию, пытался рационализировать все сверхъестественное. Труды по востоковедению, философские драмы.
[10] ГОРСКИЙ Александр Васильевич (1812-75), российский историк, археограф, член-корреспондент Петербургской АН (1857). Ректор Московской духовной академии (с 1864). Труды по истории раннего христианства и Русской церкви, “Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки.”
[11] ФЕНЕЛОН (Fenelon) Франсуа (1651-1715), французский писатель, архиепископ. В философско-утопическом романе “Приключения Телемака” (1699) — идея просвещенной монархии. Дидактические трактаты.
[12] ГАМАН (Hamann) Иоганн Георг (1730-88), немецкий критик, писатель, философ, сторонник учения о непосредственном знании. Развил идеи мистически окрашенной интуитивистской диалектики (совпадение противоположностей и др.). Поэзия, по Гаману, — древнейший язык человечества. Оказал влияние на литературу “Бури и натиска” и немецкий романтизм.
[13] НЕВОСТРУЕВ Капитон Иванович. Родился в 1815 г., Елабуга. Умер 29 ноября 1872 г., Москва. Палеограф, археограф, археолог. Член-корреспондент по Отделению русского языка и словесности с 1 декабря 1861 г. Окончил курс в Московской духовной академии, издал археологическое “Описание Симбирского Спасского монастыря” и собрал много материала для историко-статистического описания симбирской епархии; позже был сотрудником А.В. Горского по описанию московской Синодальной библиотеки.
[14] ПОГОДИН Михаил Петрович (1800-75), российский историк, писатель, академик Петербургской АН (1841). Издавал журнал “Московский вестник,” “Москвитянин.” Сторонник норманнской теории происхождения русского государства. Во взглядах близок к славянофилам. Пропагандировал идею славянского единства. Труды по истории Др. Руси, летописанию. Коллекция исторических памятников (“Древлехранилище”). Бытовые повести, исторические драмы.
[15] УНДОЛЬСКИЙ Вукол Михайлович (1815-64) — российский библиограф и библиофил. Основной труд: “Очерк славяно-русской библиографии” (1871, посмертно). Собрал ценную библиотеку (главным образом славяно-русские рукописи).
[16] ЩАПОВ Афанасий Прокофьевич (17 октября 1831, село Анга, Иркутской губернии — 1876), российский историк, профессор. Труды по истории церковного раскола и старообрядчества, земских соборов 17 века, общины, Сибири.
[17] КАПТЕРЕВ Николай Федорович (1847-1917), российский историк, член-корреспондент Петербургской АН (1910). Брат П. Ф. Каптерева. Депутат 4-й Государственной думы (1912-17) от партии прогрессистов. Труды: “Характер отношений России к православному Востоку” (1885), “Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович” (т. 1-2, 1909-12) и др.
[18] ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Евстигнеевич (1834-1912), российский историк, профессор Московской духовной академии, академик Петербургской АН (1903). Автор свыше 70 работ по истории русской и южно-славянских церквей. Провел критический анализ источников русской церковной истории. Применяя сравнительно-исторический метод, исследовал ряд малоизученных вопросов (религиозно-нравственная жизнь русского народа с древнейших времен до середины 16 в., структура церковного управления, источники обеспечения духовенства и др.). Основной труд — “История русской церкви” (Т. 1-2, 1880-1917).
[19] ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович (1845-1908), русский историк церкви. Профессор Московской духовной академии и Московского университета. Труды по церковной историографии, истории раннехристианской Церкви, вселенских соборов 4-8 вв., разделения церквей, Восточной церкви 9-19 вв.
[20] ДОБРОКЛОНСКИЙ Александр Павлович (1856-1937). Родился 10 декабря, сын священника. Окончил Московскую духовную академию в 1880 г. Ректор и профессор церковной истории Новороссийского университета (Одесса). Автор многочисленных трудов по патрологии и по истории древней церкви. Покинул Россию в 1920 г. Профессор церковной истории в Белградском Университете. Скончался 4 декабря.
[21] ГЛУБОКОВСКИЙ Николай Никанорович (1863-1937), русский православный богослов и историк церкви. Профессор Петербургской духовной академии, член-корреспондент Петербургской АН (1909), главный редактор Православной богословской энциклопедии (1905-11). С 1921 в эмиграции, профессор богословия в Софийском университете (с 1923). Основные труды — “Блаженный Феодорит, епископ Киррский” (т. 1-2, 1890), “Благовестие святого апостола Павла по его происхождению и существу” (т. 1-3, 1905-12).
[22] ТЕОЛОГУМЕН — частное богословское мнение.
[23] ВИКЕНТИЙ ЛЕРИНСКИЙ (Vincentius Lirinensis) (ум. ок. 450), христианский церковный писатель, монах на острове Лерин. В сочинении “Первое предостережение, или трактат в защиту древней и вселенской кафолической веры против всех безбожных еретических новшеств” сформулировал критерий истинности церковного предания: “во что верили повсюду, всегда, все.” Память в Католической церкви 24 мая.
[24] ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович (1888-1946), идеолог и митрополит русской обновленческой церкви.
[25] ДЕ ВЕТТЕ (De Wette) Вильгельм Мартин Леберехт (1780-1849), нем. либерально-протестантский богослов и экзегет. Род. близ Веймара в семье лютеранского пастора. Образование получил в Веймаре и Иене. Проф. на кафедре экзегезы в Гейдельберге (1807-10) и в Берлине (1810-19). С 1822 профессор нравств. и практич. богословия в Базеле. В первый период своей деятельности находился под влиянием идей Гердера и исповедовал рационалистич. философию. Неудовлетворенный “натуральным” толкованием библ. чудес, к-рое предлагал Паулюс, Д.В. стал искать решения экзегетич. проблем в аспекте мифа. Изучение Библии свелось для Д.В. гл. обр. к ее “объективной” (небогословской) историко-литературной критике, поскольку он смотрел на свящ. книги как на “историческое явление в ряду других подобных явлений”. Такая т. зр. Д.В. сочеталась с выводом, что все сказания Пятикнижия суть мифы, т.е. “зачастую полностью вымышленные писателями и традицией фантастические и сверхъестественные истории”.
[26] МХИТАРИСТЫ (или мехитаристы) — арм. монаш. Орден. Мхитар — осн. Ордена Мхитаристов (XVII-XVIII в.)
[27] СОЛЯРСКИЙ Павел Федорович (1803-90), духовный писатель, протоиерей. Преподавал в Главном педагогическом институте в Петербурге. Главный труд “Опыт библейского словаря собственных имен” (т. 1-5, 1879-87).
[28] МАРТЕНСЕН — маститый протестантский проповедник, признаваемый в свое время за лучшего моралиста-теолога, наиболее свободного от вероисповедных заблуждений
[29] ПЕВНИЦКИЙ (Василий Федорович, родился в 1832 году) — писатель, сын священника. Окончил курс в Киевской духовной академии, где состоит профессором по кафедре гомилетики и истории проповедничества. Главные его труды: “Святой Ипполит, епископ римский и дошедшие до нас памятники его проповедничества” (Киев, 1885); “Святой Лев Великий и его проповеди” (Киев, 1871); “Святой Григорий Двоеслов” (докторская диссертация, Киев, 1871), “Средневековые гомилетики” (1895); ряд статей, обозревающих историю гомилетики после реформации, в “Трудах Киевской академии” за 1896 - 98 годы; “Священник. Приготовление к священству и жизнь священника” (Киев, 5-е изд., 1897); “Служение священника в качестве духовного руководителя прихожан” (Киев, 3-е изд., 1898); “Священство. Основные пункты в учении о пастырском служении” (Киев, 2-е изд., 1897). Его новейшие труды: “Из истории гомилетики. Гомилетика в новое время, после реформации Лютера” (Киев, 1899); “Об отношении к церкви нашего образованного общества” (Киев, 1902); “О загробной жизни” (ib., 1903); “О промысле Божием” (ib., 1899); “О счастии. Где ищут счастия и где нужно искать его?” (ib., 1900); “Сборник статей по вопросам христианской веры и жизни” (СПб., 1901 - 1902) и другие.
[30] РЕДСТОКИСТЫ, название во 2-й пол. 19 в. в России секты евангельских христиан по имени английского лорда Г. Редстока, проповедовавшего ее учение в Петербурге. Позднее название — пашковцы.
[31] Секта ИРВИНГИАН принадлежит к разряду мистических сект, возникших в 19-м столетии. В ней выразился протест против слишком большого отклонения всех протестантских обществ от апостольской церкви, а также против рационализма, который приводил к отрицанию откровения, пророчеств, чудес и проч. Такой протест высказал проповедник шотландской пресвитерианской церкви в Лондоне Эдуард Ирвинг. В проповедях он проводил мысль, что благодатные дары в первенствующей церкви (дар языков, пророчества, чудеса) могут появиться и в настоящее время у людей, достигших нравственного совершенства путем молитвы и твердой веры. Под влиянием его проповедей некоторые из его паствы начали уже пророчествовать и говорить на разных непонятных языках. Пресвитерианский синод в Шотландии в 1833 г. за такого рода мистические воззрения отлучил Ирвинга, но он нашел поддержку у некоторых членов англиканской церкви и основал отдельную общину своих последователей — ирвингиан. В 1834 г. Ирвинг умер, но его община продолжала свое существование и старалась восстановить быт апостольской церкви с апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. При посредстве своих мнимых пророков община выбрала 12 апостолов, которые и устроили ее церковный быт. Свои богослужения они старались сблизить с католическими и частично с православными. Ирвингские “апостолы” проповедовали в ряде христианских стран, но последователей приобретали мало. Их общины имеются главным образом в Англии и Северной Америке.
[32] ПЛИМУТСКИЕ БРАТЬЯ, или просто “братья” (“бретрены”), религиозная группа, оформившаяся в Ирландии и Англии в первой четверти 19 в. под руководством Джона Дарби (1800–1882) (вследствие чего ее приверженцев называли иногда “дарбистами”), Джорджа Мюллера (1805–1898) и других. Первая постоянная община была создана в 1829 в Плимуте (Англия); в Америку первые братья прибыли в середине 19 в. Не удовлетворяясь современной церковной жизнью, они собирались для”преломления хлеба” и “исследования Писания.” Целью их было возрождение первоначальной церкви.
В вопросах вероучения плимутские братья стоят на т.н. фундаменталистской позиции в вопросах доктрины, принимая в том числе премилленаризм (учение о втором пришествии Христа до наступления тысячелетнего царства), признавая всецелую боговдохновенность и непогрешимость Библии. “Братья” – течение индивидуалистическое; у них нет ни организации, ни четко зафиксированных обрядов, ни руководства или клира; Библию может толковать любой обладающий соответствующим даром мирянин (но не женщина). Собрания чаще всего происходят в помещениях для собраний или на дому. Известно, что ныне (1990-е годы) в 8 объединениях (650 местных общинах) насчитывается до 25 000 приверженцев.
[33] ИММАНЕНТНАЯ ФИЛОСОФИЯ, течение в немецкой философии кон. 19 — нач. 20 вв., утверждавшее, что познаваемая реальность находится в сфере сознания, т. е. имманентна ему. Имманентная философия единственной реальностью считала содержание сознания. Главные представители — В. Шуппе, Й. Ремке, Р. Шуберт-Зольдерн.
[34] ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1853-1920) — российский литературовед и языковед, почетный член РАН. (1917; почетный член Петербургской АН с 1907). Работы о русских писателях-классиках 19 в. Исследовал проблемы теории и психологии творчества, синтаксис русского языка.
[35] ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович (1886-1959) — российский литературовед, доктор филологических наук. В исследованиях Эйхенбаума интерес к проблемам поэтики, литературной борьбе (ранние работы о М. Ю. Лермонтове и Н. В. Гоголе) сочетается с философско-историческим и социальным анализом (труды о Л. Н. Толстом).
[36] БЁРК, ЭДМУНД (Burke, Edmund) (1729–1797), английский государственный деятель, оратор и политический мыслитель, известный прежде всего своей философией консерватизма. Родился в Дублине 12 января 1729 в семье судебного поверенного, протестанта; мать Бёрка исповедовала римско-католическую веру. Был воспитан в духе протестантизма.
Философское исследование происхождения наших идей о высоком и прекрасном (A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757) – более серьезная работа, до сих пор привлекающая внимание эстетиков. В свое время она произвела впечатление на Д.Дидро, И.Канта и Г.Э.Лессинга и создала автору репутацию среди литераторов, а также сыграла важную роль в его политической карьере.
[37] ВИТТЕ Сергей Юлиевич (1849 - 1915), российский государственный деятель, граф (с 1905). В 1892 министр путей сообщения, с 1892 министр финансов. С 1903 председатель Кабинета министров. В 1905 - 06 председатель Совета Министров. Инициатор введения винной монополии (1894), денежной реформы (1897), установившей золотой монометаллизм, строительства Сибирской железной дороги. Подписал Портсмутский мир (1905), после чего в широких общественных кругах получил прозвище “граф Полусахалинский.” Разработал ряд положений столыпинской аграрной реформы. Автор Манифеста 17 октября 1905. Проводил политику сотрудничества с крупными промышленными кругами. Автор "Воспоминаний" (тома 1-3, 1960).
[38] РАЧИНСКИЙ Сергей Александрович - ботаник и известный деятель по народному образованию; родился в 1836 г., учился в Московском университете, получил степень магистра ботаники за диссертацию "О движении высших растений" (М., 1859). В 1867 г. Рачинский, оставив профессуру, поселился в деревне, а в 1875 г. всецело посвятил себя народной школе в селе Татеве, Бельского уезда Смоленской губернии. Переселясь из барского дома в школу, он начал жить одной жизнью со своими учениками. Кроме детей, Рачинского, с самого начала его деятельности, окружали и юноши-крестьяне, которых он подготовлял в учителя для окрестных сел и для которых сохранял значение руководителя и наставника. Для учеников из соседних деревень при школе устроено было общежитие. На общей молитве, довольно продолжительной, ученики пели церковные песни; по субботам сам Рачинский читал евангелие по-церковнославянски и по-русски, с краткими объяснениями. Школа Рачинского, в тех скромных пределах, которыми она ограничила свою деятельность, достигла блестящих результатов; по совершенной исключительности условий, при которых они достигнуты, они не могут, конечно, служить критерием тех принципов, которые проводит Рачинский в своих педагогическо-литературных трудах, желая создать согласный с ними общий тип народной школы.
[39] АКСАКОВ, Иван Сергеевич, знаменитый славянофил-публицист, сын С.Т., брат К.С. Аксаковых.
[40] СПЕНСЕР Герберт (1820-1903) — английский философ и психолог. Автор книги “Основы психологии“ (1855). Рассматривал сознание в эволюционном аспекте как форму приспособления к среде при переходе от гомогенности к гетерогенности. Внутри сознания выделял различные чувствования, к которым относил ощущения и эмоции и которые могут объединяться посредством ассоциативного процесса.
[41] КАРУС (Carus) Карл Густав (3.1.1789, Лейпциг – 28.7.1869, Дрезден) — немецкий врач, философ, психолог и художник. В 1862 г. Карус был избран президентом Леопольдины, Германской академии естествоиспытателей; иностранный член–корр. Петербургской АН (1833). Опираясь на учение Аристотеля, Карус трактовал душу как чисто идеальный и неумирающий жизненный центр, являющийся условием всякого бытия и всякого развития. Тело, по его представлениям, есть душа, но на бессознательной ступени, болезнь же — это нарушение единства души и тела; душа связана как с животным, так и с растительным миром. Его идеи о “физиогномике природы” были в дальнейшем развиты в концепции Л. Клагеса о непосредственном “физиономическом наблюдении” самой жизни и о разрушении “бессознательного космического ритма природы человеческим духом.”
[42] ЭРАСТИАНСТВО — направление церковно-богословской мысли в Англии и Шотландии XVI-XVII веков, согласно которому церковные организации не должны были иметь никакой дисциплинарной власти над своими сочленами и должны были состоять в полном подчинении у государственной власти. Направление названо по имени Томаса Эраста, немецко-швейцарского протестантского богослова, естествоиспытателя и врача. Под флагом Эрастианства часть мелкого дворянства боролась и против пуританской, и против католической аристократии.
[43] АКВИЛОНОВ Евгений Петрович (1861-1911), русский духовный писатель, профессор Санкт-Петербургской духовной академии; с 1910 протопресвитер военного и морского духовенства. Основное сочинение: “Церковь. Научные определения церкви и апостольское учение о ней как о теле Христовом.”
[44] Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. (Лк. 5:4-6)
[45] СОЛЛЕРТИНСКИЙ (Сергий Александрович) — духовный писатель, протоиерей Богоявленского Никольского собора в Санкт-Петербурге, ординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии. В 1883 г. С. защитил магистерскую диссертацию “Дидактическое значение священной истории в круге элементарного образования” (Санкт-Петербург, 1883). В 1884 г. С. было поручено чтение лекций по кафедре пастырского богословия. В 1899 г. С. утвержден Святейшим Синодом в степени доктора богословия. Кроме магистерской диссертации С. написал: “Пастырство Христа Спасителя. Часть основоположительная: Иисус Христос, основатель христианского пастырства” (Санкт-Петербург, 1888; 2 изд., ib., 1896), “Пособие к преподаванию Пространного христианского катехизиса православные кафолические восточные церкви. Вып. I. Введение в символ веры” (Санкт-Петербург, 1884), “Объяснение Мф. V, 22; 38 - 42; VII, 1. Лук. VI, 37 у графа Л. Толстого” (Санкт-Петербург, 1887), “Учебник практической дидактики в вопросах и ответах” (ib., 1892), а также ряд статей в “Христианском Чтении” и “Церковном Вестнике.” Его новейшие труды: “О происхождении воспитательного дела и об основных опорах его существования в человеческой истории” (М., 1899); “Проповеди на некоторые праздничные и воскресные дни” (СПб., 1903).
[46] МОНИЗМ (от греч. monos — один, единственный), способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете единой основы (субстанции) всего существующего. Противоположность монизма — дуализм (признающий два независимых начала) и плюрализм (исходящий из множественности начал).
[47] КЕНОЗИС (от греч. — опустошаю) — уничижение Бога-Сына ради спасения людей вплоть до вочеловечивания и смерти на Кресте.
[48] ТАРЕЕВ Михаил Михайлович (1867-1934), русский религиозный философ и богослов. Профессор Московской духовной академии (1902-18). Отвергая традиционное “аскетико-символическое” примирение религии и жизни, считал невозможным “социализацию” христианства в каких-либо внешних формах: оно реализуется во внутреннем мире личности, ее духовных установках и мотивах. Основные сочинения — “Основы христианства” (т. 1-5, 1908-10), “Предел коллективизма” (1912), “Социализм: нравственность и хозяйство” (1913), “Христианская философия” (1917).
[49] НЕСМЕЛОВ, Виктор Иванович (1863-1937), русский философ, богослов. Родился 1 (13) января 1863 в семье священника. Окончил Казанскую духовную академию (1887). Защитил магистерскую диссертацию Догматическое богословие святого Григория Нисского (1888). С 1895 — профессор Казанской духовной академии. После закрытия академии в 1920 безуспешно пытался устроиться на работу в Казанский университет. В 1931 был арестован по делу о “контрреволюционных церковно-монархических организациях”, погиб в июне 1937.
Православная беседа >> Библиотека >> Флоровский Георгий, прот. 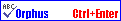
На правах рекламы: