|
|
Шохин В.
Мнимые влияния
О попытках выявления древнеиндийских, в первую очередь буддийских, "корней" в повествованиях раннехристианских памятников: канонических (Новый Завет) и неканонических (апокрифы)
Самое первое письмо дяди Баламута своему племяннику Гнусику, опубликованное К. Льюисом в одной английской газете в 1941 г., содержало изначальный совет молодым бесам всячески препятствовать их земным подопечным обращаться к логической аргументации, рациональному рассуждению, тщательно оберегая людей от всего, что отвлекает их мысль от "потока непосредственных переживаний". Распространяющиеся в этом мире идеи "подопечным" следует воспринимать не с точки зрения их истинности или ложности (это было актуальным для людей прошлого, к которым применялась и соответствующая стратегия), а исходя из того, кажутся ли они устаревшими или современными [1].
С 1941 г. произошли значительные изменения — в то время для того, чтобы люди могли благополучно, по выражению дяди Баламута, "пребывать в доме отца нашего", их следовало отвлекать от религии, тогда как в настоящее время их для достижения того же искомого результата следует, наоборот, привлекать к ней, но, разумеется, под определенным углом зрения, который в целом и соответствует намеченной в первом письме стратегии. Узловым пунктом в этой программе действительно оказалась замена различения истинного и ложного на конфликт устаревшего и современного. Устаревшими считаются в нынешнюю эпоху, называемую эпохой постмодернизма, какая-либо определенность и ясность в религиозном сознании, еще более устаревшей — традиционность, устаревшей безнадежно — сама постановка вопроса об истине, особенно в той "бесперспективной" его трактовке, по которой в соответствии с законами логики из двух взаимоисключающих позиций А и не-А истинным может быть только одно, а не оба сразу, или хотя бы, что А и не-А не суть одно и то же. Устаревшими все эти положения делает то, что они находятся в противоречии с требованиями плюрализма, по которым мы живем уже не в эпоху "устаревших догм", но освещаемся (заодно и освящаемся) утренней зарей диалога религий, которая успешно разгоняет оставшиеся ночные сумерки традиционного христианства, настаивавшего на том, что истина может быть одна. Именно в этом ключе проходят современные "западно-восточные", в их числе буддийско-"христианские" конференции [2], одна из которых, проходившая на Гавайях, пленила нас образцовой стандартностью и абсолютной предсказуемостью почти всех рассуждений, характерных для участников нынешнего диалога религий.
Среди наиболее предсказуемых положений, разделявшихся всеми без исключения участниками "диалогической конференции", большинство из которых в этой игре в религию представляло различные деноминации христианства, был призыв ко всем "мыслящим" людям критически переосмыслять свои религиозные традиции с целью их лучшего адаптирования к нуждам современной эпохи (когда-то, в очень устаревшие эпохи предполагалось, что стандарты любых, даже самых "современных" эпох должны "сверяться" с идеалами религии). Другая "теоретическая" установка могла бы быть сформулирована по известному крылатому слову, согласно которому все люди равны, но некоторые из них равнее: в исполнении подавляющего большинства участников конференции христианство, конечно, равно по своей значимости буддизму, но буддизм все-таки "равнее" христианства. Те ораторы, которые считали, что христианство и буддизм "равны", а потому должны учиться друг у друга, как им лучше приспособиться к "вызову современного мира", предлагали христианам для углубления учения о личности усваивать... буддийский опыт отрицания Я, а буддистам для углубления этого опыта... осваивать христианское учение о личности. Другой совет тем и другим состоял в том, чтобы буддисты более четко артикулировали положительную активность сознания в состоянии "просветления" (вопреки, отметим, тому, что само наступление этого состояния возможно лишь при устранении данной активности), а христиане использовали буддийскую концепцию Пустоты как формулировку конечной реальности (вопреки, снова отметим, тому, что конечная реальность, согласно христианству, никакого места для пустоты не оставляет, будучи предельно личностно заполненной). Некоторые из участников конференции не ограничивались благими пожеланиями, но наглядно продемонстрировали возможности синтеза. Один японский протестант рассказал о том, как ему удалось найти "пункт идентичности Христа и дзен-буддизма", а вслед за тем апостола Павла и Шинрана, благодаря чему, конечно, его понимание Христа и Павла "трансформировалось во время этого процесса"'. А один американский католик даже начертил магическую тантристскую диаграмму (янтра), изображающую "взаимную соприсущность" двух религий, а после конференции решил дать наглядный пример синтеза в собственном лице, приняв обеты бодхисаттвы и став активным "практикующим прихожанином" одновременно у бенедиктинцев и у последователей тантристской секты Гелукпа (персонажи книги Льюиса в те времена, видимо, еще и не мечтали, что им удастся через каких-нибудь сорок лет выращивать таких роскошных религиозных гермафродитов). Однако большинство, считавшее, что при равенстве двух мировых религий буддийская все же "равнее", принципы симметрии нарушало. Так, другой японский оратор, признавая, что буддистам следовало бы больше акцентировать тот момент, что путь бодхисаттвы начинается с нравственных упражнений (хотя и завершается преодолением условностей нравственного и безнравственного), отмечал, что именно Пустота может быть оптимальной платформой самого межрелигиозного диалога потому, что интегрирует (в качестве Абсолюта) "теологическую поляризацию" и "идентичность противоположностей". Пустота, по его мнению, "снимает" и сами теоретические возможности для расхождения религиозных взглядов, ибо позволяет устранить сами альтернативные "языковые требования", выявляя условность таких высказываний, согласно коим что-то есть или, наоборот, чего-то нет. В конечном же счете Пустота отрицает наличие реальных соответствий (референтов) для понятий, извлеченных из опыта и могущих создать иллюзию поляризаций — таких как буддист или христианин. Однако из контекста данного вывода всем прочим участникам конференции стало очевидно, что по построениям докладчика понятие христианин все же нереальнее понятия буддист. В эпилоге к сборнику материалов данной конференции эта ассиметрия была оправдана одним известным религиеведом, представлявшим также "христианскую сторону". Христианам следует больше "трансформироваться" сейчас под воздействием буддизма, нежели буддистам под воздействием христианства потому, что само христианство есть "историческая" религия, более укорененная в этом мире, тогда как буддизм укоренен в вечности, в запредельных миру пустоте и нирване, а потому он может адаптироваться к любым культурно-историческим реальностям (включая христианские), не меняя своей глубинной сущности... [3].
С японским буддистом, действительно, не согласиться трудно, те "христиане", которые участвуют в подобных диалогах, действительно не соответствуют никакому реальному референту, не имея отношения к реальному христианству (история которого являет все значение слова апостола Павла, по которому, вопреки мнениям идейных спонсоров гавайской и аналогичных конференций, "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же") и будучи причастны лишь той "пустоте", которая составляет духовную сущность среднестатистического человека постмодернистской эпохи. Но в таком случае реальному референту не соответствует и буддийско-христианский диалог, в коем буддийская сторона "диалогизирует" с вакантным местом [4]. Другая двузначность, связанная с диалогами, в которых участвует псевдохристианское представительство, связана с тем, что "диалогом" в данном случае эвфемистически называется обращение в буддизм тех неопределимых существ, которые представляют "христианскую сторону", их же собственными усилиями при лишь направляющем воздействии буддийской стороны [5]. Нельзя согласиться с участниками этих "диалогов" (в коих обе стороны выражают интересы одной) только в том, что подобные "диалоги" являются каким-то уникальным достижением нашего времени.
Предлагаемая публикация, как кажется, доказывает, что подготовка к рассматриваемым тенденциям началась значительно раньше гавайских и прочих конференций, в эпоху фактически начального знакомства европейской образованности с буддизмом. Правда, данные тенденции развивались тогда еще не в условиях современного смешения всех понятий, и попытки выяснения "буддийских корней" отдельных элементов раннехристианских писаний исходили не только от тогдашних апологетов необуддизма, но, и притом по большей части, от вполне добросовестных филологов школы библейской критики, не ставивших еще задачу трансформирования христианства в "диалоге" с буддизмом. Однако отношения преемственности между нынешним религиозным постмодернизмом и теми теологическими тенденциями XIX—XX вв., которые прослеживаются в представленном ниже историографическом материале, очевидны, равно как и общность в представлении о тех "лишь историческо-культурных разночтениях" христианской и буддийской этики и сотериологии.
Сама постановка вопроса о "буддийских корнях" оказалась бы невозможной, если бы занимавшиеся им богословы, ориенталисты и дилетанты не проигнорировали бы тот немаловажный момент, что две сотериологии находятся в отношении принципиального взаимоисключения, суть коего, если выразить его совсем кратко, в том, что в христианской "медицине" болезнь человечества мыслится как происшедшее на заре его истории искажение начально здорового состояния, которое восстанавливается Бого-человеческой синергией и завершается обожением человеческой личности, тогда как в буддийской болезнь мыслится безначальной, а исцеление предполагается быть достижимым через демонтирование самого личностного самосознания индивида, иными словами — через ликвидацию самого пациента. Нельзя, конечно, оспаривать то, что подобная терапия является действительно радикальным средством устранения болезни (даже безначальной), но в обычной жизни терапевт, предлагающий подобную "ударную дозу", вряд ли вызвал бы встречный энтузиазм и самого безнадежного больного.
Оставляя читателя на этой, как принято говорить, "оптимистической ноте" в его возможных размышлениях о целесообразности "трансформации христианства через творческий диалог с путем бодхитсаттвы" (в последний раз прибегаем к жаргону постмодернизма) в контексте вышесказанного, предоставляем в его распоряжение "дела давно минувших дней", позволяющие, однако, осмыслить хотя бы частично некоторые аспекты генеалогии современного диалога религий. Отметим по ходу дела, возвращаясь к героям "Писем Баламута", с коих и был начат нынешний разговор, что интерес к поиску "буддийских корней" Основателя христианства до сих пор не потерял актуальности в нашей стране, о чем свидетельствуют рассуждения многих представителей различных "экологических академий" и прочих российских околотеософских организаций о том, что для объединения религий большое значение имеют такие, например, "факты": Основатель христианства учился будто бы у индийских йогов и тибетских буддистов; Его гробница находится в Кашмире... Из этого следует, что некоторые из наименее удачливых "гнусиков" посылаются на работу на периферию, тогда как более "продвинутые" несут ответственность за "христиан" Гавайских островов [6].
Вопрос о влиянии древнеиндийских религий на духовную традицию европейского средневековья разработан значительно более интенсивно, чем изучение образа древней Индии в этой культурной традиции. Причин тому две. Во-первых, поскольку речь идет прежде всего о выявлении связей между религиозными традициями двух великих культурных регионов (а именно это стоит в центре внимания всех обращающихся к проблеме), в данной тематике заинтересованы гораздо более широкие научные, а зачастую и "околонаучные" круги. Во-вторых, так как разговор о влиянии одной религиозной традиции на другую всегда в той или иной мере гипотетичен, а его участники в той или иной мере субъективно неравнодушны к его результатам, это стимулирует их к получению "быстрых" выводов.
В самом деле, любой, даже детальный анализ памятников двух сопоставляемых мировых религиозных традиций дает лишь дополнительные аргументы для решения вопроса о влиянии одной из них на другую, — решения, нередко принятого уже заранее. Неизбежный в подобного рода штудиях априоризм, однако, не означает, что решение такого вопроса может быть научно убедительным без учета определенных культурологических аксиом, обладающих силой логической принудительности. О том, в какой степени эти аксиомы признаются сторонниками идеи воздействия древнеиндийской культуры на европейскую религиозную традицию, и позволяет судить материал настоящей статьи.
Концепция, о которой пойдет речь, связана с попытками выявления древнеиндийских, в первую очередь "буддийских корней" в повествованиях раннехристианских памятников: канонических (Новый Завет) и неканонических (апокрифы). Значимость этой концепции для медиевиста неоспорима.
Буддизм и новозаветные тексты
Истоки рассматриваемой религиеведческой идеи восходят к дискуссиям эпохи Просвещения о сравнительной древности мировых религий. Так, уже во времена французской революции отдельные авторы, например Л. Лангле, начали писать о "приоритете по древности" религий Индии перед библейско-христианской (1790). Почти полстолетия спустя Ф. Норк (Ф. А. Корн) создает сочинение с самообъясняющим названием "Брамины и раввины, или Индия — родина евреев и их сказаний" (1836).
Первые же попытки заговорить о путях буддийского влияния на Новый Завет исходили от первых европейских буддофилов. Наиболее известный из них, А. Шопенгауэр (1788—1860) предположил, что все великие религии имеют единый "общий знаменатель". Увидел он его в их идентичном "практическом содержании", присутствующем, по его мнению, как "истинная религия" в каждой и противостоящем "богословию для масс", которое рассчитано на широкие социальные слои и связано как раз с особенностями мировоззрения и ритуала, данные религии разделяющими. Суть "истинной религии", по Шопенгауэру, — "отрицание воли к жизни". Этот идеал реализуется и в буддизме, и в христианстве, но только под разными названиями — в первом как аскетическое презрение к счастью, во втором как состояние "нищих духом". Хотя такого рода общность логически вовсе не требует признания воздействия одной традиции на другую, Шопенгауэр решил их все-таки связать. В соответствии с этим он построил своеобразный силлогизм: Основатель христианства в детстве был отвезен в Египет (а потому учился египетской мудрости); Египет же испытал влияние буддизма; следовательно, здесь надо искать истоки христианской этики. А. Жакойо, которому не было свойственно мышление силлогизмами, сократил долгий шопенгауэровский путь буддийского влияния. Согласно его книжке "Кришна и Христос" (1869), Основатель христианства просто сам побывал на родине буддизма. Автора, однако, опередил знаменитый коллега Ф. Штрауса и Б. Бауэра — Э. Ренан, который в своем известном сочинении "Жизнь Иисуса" (1863) вполне допускал возможность проникновения буддизма в Палестину первого века.
Указания на "общий знаменатель" двух религий остались в фонде аргументов "буддийских корней" навсегда, но немецкому ученому Э. Эйтелю (1871) в его лекциях "Буддизм" они показались все же недостаточными. Он избрал иной путь, предопределивший почти все последующие поиски генетических связей двух религий. Эйтель перечислил конкретные сходства повествований о жизни Будды и Христа (сверхъестественное рождение, приветствие небожителями, благословение старца, принесение в храм и т. д.), в результате чего, по убеждению ученого, почти каждая деталь биографии Основателя христианства (кроме Его смерти) могла быть найдена в буддийских легендах. Поиски Эйтеля уточняет Э. фон Бунзен в книге "Ангел — мессия буддистов, ессеев и христиан" (1880) — элементы древнеиндийских сказаний должны были передаваться на Запад через ессеев — из "солнечного мифа" в его буддийской интерпретации.
Качественный сдвиг в сторону уже сенсационного, массового интереса к проблеме был вызван появлением "Света Азии" сэра Э. Арнольда (1879), давшего поэтическое переложение буддийских сказаний. Значение книги для поисков буддийско-христианских аналогий в значительной мере обусловливалось самим стилем перевода: поэт вполне сознательно пытался переводить отдельные отрывки буддийского повествования, имеющие лишь самое общее сходство с новозаветным, таким образом, чтобы древнеиндийский текст как можно больше соответствовал евангельскому [7].
Поэтическая реализация аналогий совпала с их историческим обоснованием, которое предложил Р. Зейдель [8]. Он обнаруживает уже 51 "параллель" в биографиях двух основателей религий, педантично расположив их в "гармонии евангелий буддизма и христианства". Несмотря на жанровое различие сочинений Зейделя и Арнольда, между ними прослеживаются по крайней мере два сходства. Немецкий экзегет, как и английский буддофил, опирался не на буддийские тексты, а на наиболее известные в его время изложения буддизма. Другое сходство состояло в свободном обращении с текстами, с той лишь разницей, что Арнольд подправлял буддийскую часть, а Зейдель (исследователь библейских памятников) — новозаветную [9]. Все же он сожалел, что отсутствует "промежуточный текст", который продемонстрировал бы связь одной традиции с другой.
Отсутствие такого текста не помешало, однако, английскому индологу-популяризатору А. Лилли написать книгу "Буддизм в христианстве или Иисус-ессей" (1887), а серьезному французскому индологу Э. Бюрнуфу в статье "Буддизм в Новом Завете" (1890) утверждать, что переход буддийских доктрин в новозаветные памятники вполне обоснован (ср. статьи Р. Штека). Потребность в подобном тексте удовлетворил Н. Нотович своей книжкой "Пробелы в жизни Иисуса" (1894), которому, оказывается, во время его пребывания в тибетском монастыре ламы перевели одну из ранних "исторических буддийских хроник" под названием "Жизнь святого Иссы, лучшего из сынов человеческих". "Хроника" Нотовича все сразу поставила на свои места. Иисус в четырнадцатилетнем возрасте пришел в "страну Синд", почтил останки Кришны, научился у брахманов читать и понимать Веды, исцелять больных и изгонять злых духов, но затем восстал против кастового неравенства и учения о тримурти [10]. За это Он подвергся преследованию жрецов и, предупрежденный Своими друзьями шудрами, нашел, конечно, пристанище на родине Шакьямуни, где изучил пали, а шесть лет спустя, вдохновленный Буддой, стал распространять учение палийских "священных свитков", направился с этой миссией в Персию, а оттуда вернулся с новым учением в Палестину.
Одним из первых, кто разоблачил подделку Нотовича, был знаменитый санскритолог Ф. Макс Мюллер [11]. Однако и он внес определенный вклад в развитие идеи "буддийских корней", увидев их в заимствовании мотивов джатак [12], — хождение ученика по воде, кормление 500 "братьев Будды" одним пирогом, а также "Саддхармапундарики" — возвращение блудного сына [13].
Самым крупным событием рассматриваемого периода стала монография Г. А. ван ден Берг Эйзинги "Индийские влияния на евангельские повествования" (первое издание 1901) [14]. Автор, известный голландский богослов, представитель так называемой радикальной библейской критики [15], шел, как и другие авторы, например, А. Гудшмидт, путем поиска исторических контактов.
Признавая, однако, что они являются достаточно гипотетичными, он обращается к мысли о влиянии буддизма на дохристианскую религию Палестины [16]. Эйзинга выражает разочарование в зейделевских попытках видеть прямые литературные связи между двумя традициями [17] и предлагает другое, ставшее после него уже канонизированным, решение вопроса: буддийские мотивы дошли до Палестины в "устной передаче" [18]. Всего он допускает 17 сюжетных влияний, серьезно сократив зейделевские, но добавив ряд новых. Хотя некоторые из этих пунктов (типа решения основателя религии о начале миссии, теофания, выбор учеников) популярности не обрели, большинство параллелей Эйзинги признавалось еще долгое время.
Эйзинга был не единственным богословом, обратившимся к данной тематике. Его поиски вызвали сочувствие представителя либеральной теологии Г. Гункеля. "Буддийские корни" занимают свое место в публикациях О. Пфлейдерера по "начальному христианству", а в его работе "Религия и религии" (1906) буддизм выступает уже в качестве одного из компонентов формирования раннехристианской традиции в целом. Заимствования из буддизма допускаются (почему-то только для двух Евангелий — третьего и четвертого) и в вышедшей в том же году книге О. Шмиделя [19].
Значительным событием стало появление двухтомного опуса американского буддолога А. Дж. Эдмундса "Буддийские и христианские евангелия, впервые теперь сопоставленные с оригиналами" (1908—1909) [20]. Он включал публикации автора (начиная с 1902 г.) и пять "исторических введений" [21], а его название намекало на ненадежность источниковедческой базы предшественников. Эдмундс немало потрудился над выявлением буддийских "параллелей" отдельным элементам новозаветного повествования по палийским текстам (привлекались и махаянские версии): он обнаружил их 102 (что ровно вдвое превзошло "гармонию" Зейделя). При этом он не ограничивается "сюжетными параллелями", но обращается и к религиозным концепциям двух традиций. Однако его исследование отличается порой еще меньшим присутствием критической рефлексии, чем у иных его предшественников [22]. Эдмундса поддержал японский буддолог М. Анесаки, представивший уже в 1905 г. материал из китайской Трипитаки [23]. Несколько позднее появляются публикации таких известных буддологов, как Р. Пишель и О. Нойманн (ранее о единичных "параллелях" писали С. Бил и Э. Фаусбёлль).
Второй период завершается аккумуляцией многочисленных "параллелей" (представление о близости христианской и буддийской этики давно уже стало общим местом). Если суммировать эти "параллели", сохранившие свою авторитетность к середине 10-х годов XX в., то главные из них сводятся к следующим: чудесное рождение основателя религии; узнавание пророком будущего спасителя мира; искушение основателя религии злым духом; чудо превращения хлебов; хождение ученика к учителю по воде; встреча основателя религии с женщиной низкого происхождения; притча о двух монетах бедной женщины; притча о сеятеле.
Новый период поиска буддийских истоков новозаветных элементов начинается с появления монографии известного немецкого историка древнеиндийской философии Р. Гарбе "Индия и христианство" (1914). Он не разделяет научных крайностей "радикальной библейской критики" Эйзинги, однако, следуя канонизированным в немецком протестантском религиеведении принципам А. фон Гарнака, Г. Гункеля и других представителей "либеральной теологии", рассматривает раннехристианскую традицию в единстве двух фундаментально различных уровней: доктрины и легенды, которые оцениваются как имеющие соответственно непреходящую и временную ценность. Если первый уровень никак не связан с буддизмом (по существу, и с другими религиями), то второй (куда включаются повествовательные части Евангелий), отражающий, по его мнению, популярное мифотворческое сознание, может быть рецептором элементов дохристианских религиозно-литературных традиций.
Начав с фактического отрицания каких-либо буддийских влияний, Гарбе подвергает пристальному критическому рассмотрению все прежние "параллели", затрагивая такие важные проблемы, как сравнительная датировка текстов двух традиций и вопрос о реальности самих исторических контактов. В результате он признает лишь четыре возможных случая заимствования — пророчество о будущем спасителе мира, искушение злым духом, хождение по воде, умножение хлебов, допуская в большем числе случаев заимствования противоположные — со стороны буддийской традиции [24]. Одновременно с книгой Гарбе выходит статья И. Витте, выступившего с идеями влияния буддизма на ранние стадии христианства.
После Гарбе теория "буддийских корней" переживает кризис. Признаются лишь единичные "параллели". Так, уже через год после выхода его монографии шведский индолог Я. Карпентьер в рецензии на нее оставляет только первый из допускаемых немецким ученым случай заимствования. Г. Хаас суммирует результаты предшествующих работ (ср. его библиографию по проблеме), но исследует также лишь один мотив — монеты бедной женщины, стоившие больше богатых приношений [25], а известный американский индолог У. Норман Браун — хождение ученика по воде [26].
Почти синхронна концепции буддийских влияний на новозаветные тексты критика попыток их обоснования. Она исходила от авторитетных исследователей. Достаточно сказать, что с ней выступили главы всех трех основных буддологических школ Европы: англосаксонской (Т. Рис-Дэвидс), германской (Г. Ольденберг), франко-фламандской (Л. де ля Балле-Пуссен). Помимо них следует упомянуть таких крупных индологов, как Э. Виндиш, Э. Хопкинс, О. Веккер, а также ряд религиеведов — К. фон Хазе, Г. Фабера, А. Кьюнена, С. Келлога, если ограничиться только основными именами. С конца 10-х годов противники "буддийских корней" уверенно констатируют сомнительность даже чисто хронологических возможностей этих влияний, не говоря уже о содержательных различиях многих "параллелей".
Один из самых видных авторитетов того времени в области индийско-средиземноморских религиозных и культурных связей, Дж. Кеннеди, подвергает критике все принимавшиеся после Гарбе "пункты влияния" [27], а известный индолог-религиевед Ч. Элиот, признавая, что какие-то "пункты" более серьезны, чем другие, склонен считать, что в общем указываемые его предшественниками "влияния" такого же рода, какие могли бы полагаться в случае с Бхартрихари и Шекспиром, сравнивавшими мир с театром [28]. Безосновательность попыток установить любое буддийское воздействие на Новый Завет подчеркивает английский буддолог Э. Томас, специально занимавшийся литературными биографиями Будды, в монографии "Жизнь Будды: легенда и история" (1952).
В настоящее время немецкий филолог Г. Грёнбольд констатирует в связи с рассмотренными "параллелями": "Наука уже давно занимается вопросом о том, вызваны ли эти сходства прямым воздействием буддизма на христианство. Но дискуссия на данную тему давно успокоилась. Даже вопрос о том, возможно ли было такое влияние хотя бы чисто хронологически, получает скорее негативный ответ" [29]. Хотя это высказывание отражает реальную тенденцию современной науки, оно содержит некоторое преувеличение. Слишком много было наработано в указанной области к началу 20-х годов, чтобы поиски буддийских источников Нового Завета стали лишь предметом историографии. Так, хорошо известный ученый Г. Роулинсон вновь обращается к мотиву хождения ученика по воде [30]. Позднее выходит в свет работа такого известного автора, как Э. Бенц, о буддийском влиянии на "раннехристианскую теологию" (1951).
В книге Дж. Седлара (1980) повторяется концепция Гарбе, дополняемая аргументацией Эдмундса и Брауна, благодаря чему предпринимаются попытки сохранить отдельные "заимствования" (прежде всего четыре, оставленные Гарбе) при общем признании "близких параллелей" в биографиях основателей обеих религий и в этическом учении самих этих религий. Причем акцент делается на их общем монашеском идеале (большие надежды снова возлагаются на ессеев как на передатчиков восточной традиции).
О том, что рассматриваемая концепция еще не стала достоянием только историков науки, свидетельствует наличие влиятельных научно-популяризаторских кругов, направление работы которых чревато аналогичными выводами. К этим кругам относятся те популяризаторы индийской культуры, особенно "индийской духовности", которые в обосновании буддийских корней религии, преобладающей в европейском мире, видят эффективный способ апологии древнеиндийских религиозных ценностей [31].
Эти обстоятельства не позволяют при решении вопроса о том, могли ли новозаветные тексты стать каналом древнеиндийского религиозного влияния во всей европейской средневековой культуре, а значит, и на Руси, ограничиться простой констатацией согласия или несогласия. Поэтому следует остановиться на научной оценке самого факта поисков "буддийских корней" — причем не только конечных выводов, но и исходных посылок.
Первым важным условием реконструкции "буддийских корней" было и остается весьма распространенное мнение о принципиальной близости буддийского и христианского этических учений. В связи с этим обычно говорится о сходстве отдельных нравственных максим, а также об общих альтруистических или, наоборот, аскетических акцентах практического учения обеих религий. Как правило, сближаются их "мироотречные" установки, а "любовь к ближнему" отождествляется с "состраданием" бодхисаттвы. Не случайно поиски буддийского влияния начинаются всерьез именно с Шопенгауэра, который, как мы видели, исходил из возможности отделить от единого религиозного организма его "практическую часть", общую в самых мировоззренчески различных традициях. Поэтому Ч. Элиот, Дж. Седлар или культурологи Западно-восточного философского общества на Гавайях, утверждающие, что в двух религиях, несмотря на фундаментальные различия в воззрении на источник мирового бытия и сущность человека, едина этическая доктрина, повторяют положения именно этого религиеведения. Однако история мировой мысли свидетельствует о неразрывной связи религиозной этики с религиозной онтологией. Более того, такой подход противоречит самой структуре религии. Этика любой развитой религиозной традиции (эксплицирующей свою систему ценностей), определяющая, что должен делать ее адепт, с неизбежностью отражает представление о том, кто он есть и для чего ему это делать.
Внешнее сходство христианских заповедей с буддийскими (а также с индуистскими, стоическими и др.) сотериологическими установками никак не противоречит фундаментальным различиям в понимании смысла самого нравственного действия. А эти различия, в свою очередь, восходят к различиям в глубинных основах двух религий: нравственные действия осмысляются в христианстве в контексте восстановления поврежденной человеческой личности, а в буддизме рассматриваются как средство избавления адепта от неблагих факторов существования путем поэтапной деструкции его индивидуально-личностного сознания [32]. "Любовь к ближнему" невозможна там, где нет самого "ближнего" [33]. Общая деперсонализаторская перспектива буддийской этики объясняет ее на первый взгляд парадоксальные аспекты. При постоянной проповеди альтруизма в махаяне вполне допускается факультативность нравственного аспекта: "совершенный" может вести "несовершенного" к постоянному осознанию условности его “я” и через осознание относительности добра и зла [34].
Другим необходимым условием поисков "буддийских корней" стала более общая ориентация европейского религиеведения XIX—XX вв. Имеется в виду то направление библейской критики, представители которого (а им принадлежала важнейшая роль в создании данной концепции) в разной степени выражают попытку отделить в новозаветной письменности то, что должно было принадлежать Основателю христианства и Его ученикам, от того, что должно было относиться к вторичным "напластованиям". Поскольку же Новый Завет (несмотря на все попытки найти в раннехристианской литературе что-либо древнее его) остается не только догматически, но и исторически первичным среди ее памятников, библейские критики не могут выйти за пределы круга: в своей критике текста они исходят из учения и деяний "исторического Иисуса", Который, в свою очередь, "выявляется" в результате той же критики текста. Этой чисто рационалистической и одновременно логически весьма сомнительной процедуре и соответствует деление новозаветной традиции на керигму (проповедь), или то, что признается критиком как аутентичное, и миф (сюжетные слои), или то, что признается неаутентичным на основании только субъективных ощущений [35]. Крайнее, но вполне логичное следствие этих двух начал религиозного предания — отрицание самой историчности Основателя христианства (ведь все сведения о Его жизни находятся в "ведомстве" мифа). С последней тенденцией, получившей широкое распространение и в советском религиеведении 20—50-х годов и подвергнутой позже значительному пересмотру отечественной наукой, оснащенной уже реальным историко-филологическим знанием [36], были связаны наиболее радикальные поиски "восточных корней" новозаветной религии. Это не означает, что такого рода поиски невозможны и при более умеренной "демифологизации". Очевидно, однако, что при допущении реальности ситуации с ветхозаветным старцем, благословляющим Младенца в храме (в чем вряд ли сможет сомневаться даже самый поверхностный знаток древнего Ближнего Востока), стремление найти его буддийский прототип становится бессмысленным, равно как необходимость искать литературный прообраз вдовицы, принесшей в храм две драхмы, которые оказались в глазах Иисуса ценнее многих богатств. А именно в связи с этими событиями евангельского повествования понадобилось, как мы видели, наиболее подробное обоснование буддийских прототипов [37].
Рассмотрим теперь достоверность "буддийских корней" в Новом Завете с точки зрения нескольких априорных логических критериев, позволяющих ставить вопрос о теоретической возможности элемента Х из любой традиции А в любой традиции В, без которых сама постановка вопроса о заимствовании является невозможной. Такими минимальными логическими условиями нужно, на наш взгляд, признать следующие:
1) между А и В имеются культурно-идеологические контакты, которые опираются на достоверные исторические связи и достаточны, чтобы обеспечить возможности идейного обмена между ними;
2) Х в А засвидетельствован раньше, чем в В;
3) Х в В не имеет автохтонных прецедентов;
4) Х в В имеет неопровержимые типологические сходства с Х в А.
На наш взгляд, современному культурологу должно быть ясно, что при отсутствии первого условия (1) любые параллели не могут квалифицироваться как нечто большее, чем только параллели. Поэтому неудивительно, что основные усилия сторонников идеи буддийского влияния на тексты Нового Завета были сосредоточены на поисках индийско-палестинских духовных контактов. Но если не следовать путем Жакойо и Нотовича, предполагавших личное присутствие Основателя христианства в Индии, то восстановить реальные индийско-палестинские религиозные или литературные контакты эпохи становления новозаветной письменности никак не удастся. Историкам ничего неизвестно о знакомстве Палестины эпохи жизни Основателя христианства с индийскими учениями. О том, насколько экстраординарным явлением были индийские "софисты" для Римской империи этого времени в целом, свидетельствует восприятие ее жителями "факира" в составе одного индийского представительства при Августе. Наконец, первые упоминания о буддизме вообще, притом в виде передачи отдаленных слухов о нем, относятся к эпохе Климента Александрийского и Иеронима, то есть уже к III—IV вв.
Само собой разумеется, что умозрительная возможность устной передачи традиции (преимущество этой гипотезы в ее принципиальной непроверяемости) очень мало способна помочь обоснованию хотя бы одного заимствования. Помимо этого, существует еще специфически важное для данного случая обстоятельство. А именно, в отличие от политеистических традиций, сама религиозная структура которых позволяла им без всяких затруднений заимствовать друг у друга элементы пантеона и религиозные идеи [38], монотеистическая библейская религия никак не склонна была идти на какие-либо "метафизические" встречи с иноверием, и даже в иерусалимской христианской общине вопрос о миссионерском обращении язычников был решен далеко не сразу. То, что не может быть и речи об опосредованном влиянии буддизма на новозаветные тексты — через систему понятий, присущую дохристианской религии Палестины, — представляется бесспорным. Предполагать же возможности "родства" с буддизмом еврейских аскетов-ессеев (что, как ни удивительно, присутствует и в работах последних лет) на основании их аскетизма равнозначно тому, чтобы, например, усмотреть влияние Вергилия на Калидасу только потому, что оба были поэтами. В результате видно, что сторонникам "буддийских корней", дабы отстоять свою концепцию, необходимо заставить евангелистов в крайне сжатые сроки I в. по Р. X. срочно интерполировать элементы наследия той религиозной традиции, с которой ни они сами, ни их соотечественники вообще не контактировали [39].
Но даже если бы ученые вдруг согласились принять такую точку зрения, для историка достаточно эксцентричную, они были бы вынуждены столкнуться с еще одной сложностью. Имеется в виду критерий (2), приложение которого к данному случаю заставляет констатировать тот интересный факт, что большинство из "влияющего" оказывается не древнее, а позднее "влияемого".
Такие первостепенные для сторонников "буддийских корней" сюжеты, как благословение женщиной матери будущего Спасителя мира, хождение по воде, умножение хлеба (комментарий к джатакам "Джатакаттхакатха"), две медяшки девушки, оказавшиеся более ценными, чем жертвы богатых ("Кальпанамандитика" Кумаралаты), рассказ о "блудном сыне" ("Саддхармапундарика"), не говоря уже о менее известных, появляются в древнеиндийской литературе позднее времени составления новозаветных текстов (неоднозначно решается вопрос и о датировке сказания об Асите в "Суттанипате" [40]). Обычный аргумент, к которому прибегают сторонники буддийского влияния и в этом случае, — эти тексты сложились не сразу и им предшествовал устный период, — сам по себе вполне законен, но способен оказать весьма скромную помощь: что в этих текстах было и чего не было в "устный период", нуждается в гораздо более серьезных обоснованиях, чем те, которые они могут привести. Если бы и удалось каким-то образом (скажем, путем обращения к памятникам искусства) доказать возможность устного функционирования в буддийской традиции мотива, параллельного новозаветному, потребовалась бы одновременно и другая датировка — его передачи на Запад. Ее же по крайней мере современная историография литературных контактов предложить не в состоянии, а отсутствие исторических свидетельств о контактах двух традиций существенно ограничивает даже теоретическую возможность подобной датировки.
Одним из многочисленных примеров игнорирования пункта (3) — относительно автохтонных прецедентов элементов евангельского повествования — может служить отрывок об умножении хлебов (в связи с ним приводится и такой "весомый" аргумент: буддийская версия первичнее ввиду того, что в ней сообщается о 500 хлебах, а в новозаветной о 5000), который смог удивительным образом выдержать критику даже такого серьезного ученого, как Р. Гарбе. Прецедент чудесного умножения пищи в Ветхом Завете налицо, когда пророк Елисей накормил сто человек двадцатью ячменными хлебцами (4 Цар 4:42—44).
Наконец, некорректности "параллелей" с точки зрения их типологической характеристики поддаются делению на три основных типа.
К первому относятся аналогии самого широкого плана, которые не содержат каких-либо специфических сходств христианства и буддизма, но обнаруживаются при сравнении любых религий. Это касается большинства предложенных "параллелей", в частности, идеи сверхъестественного рождения основателя религии, а также его способности совершать чудеса. Очевидно, что здесь отражаются достаточно понятные представления общечеловеческого характера — Спаситель мира и должен отличаться от обычных людей или обладать сверхъестественными способностями. Причем даже на этом уровне сходств выявляются серьезные несходства: чудеса Христа и чудеса Будды демонстрируют значительные несоответствия в самих мотивировках.
Ко второму типу относятся случаи, когда "параллели" при действительном сюжетном сходстве содержат элементы, заставляющие серьезно их переосмыслить. Это в первую очередь признаваемая почти всеми "скептиками" аналогия между повествованием о встрече младенца Иисуса в Иерусалимском храме с пророком Симеоном и пророчицей Анной (Лк 2:25-38) и легендой о мудреце Асите, который благодаря своим йогическим "силам" (iddhi) узнал от тридцати трех богов, что младенец из рода Шакьев станет Буддой, и сообщил об этом его отцу (Суттанипата, “Налака-сутта”, ст. 679—698). Справедливо признавая, что для развитой религиозной традиции естественно выяснять связи с религией предшествующей (представителями ее выступают пророки), сторонники буддийских влияний подчеркивают, однако, связь предсказания Аситы с торжеством небожителей, которая, с их точки зрения, воспроизводится и в евангельском повествовании, но несколько раньше, чем, как им кажется, нужно: радость ангелов, засвидетельствованная пастухами, должна быть там (из-за разрыва повествования) "вторичной" [41]. На самом же деле в евангельском тексте последовательно излагаются разные откровения о рождении Иисуса, в меру духовных возможностей тех, кто воспринимает это откровение: волхвы принимают это откровение через звезду, простые сердцем пастухи — от ангелов, наконец, духоносный старец Симеон — от Святого Духа. Поэтому в евангельском тексте не может быть зависимости пророчества старца от "небесной радости", более того, она прямо противоречила бы его смыслу.
Весьма показательно различие в духовном облике двух пророков: буддийский плачет от горя в ожидании своей смерти, евангельский радуется, что его смерть наступит через исполнение Божественной воли. Не менее значимы несовпадения в трактовке "опознания" младенца: Асита устанавливает его "аутентичность" через подробное ознакомление с требуемыми знаками будущего Будды; Симеон распознает Спасителя мира просто и без исследования, ибо источник его познания не человеческий.
Еще более ограниченными представляются сходства в другой излюбленной "параллели" — искушения от злого духа, которые также достаточно естественны при сравнении любых развитых религий, предполагающих существование оппонента основателю религии. Согласно многочисленным версиям палийского канона, прежде всего "Падханасутты" (Сутта-нипата, ст. 424—448), предводитель злых сил Мара (Намучи) пришел к сидящему в медитации на берегу р. Неранджари Будде, желая воспрепятствовать достижению нирваны и вернуть "иссохшего" от подвигов царевича из рода Шакьев к "нормальной жизни". Тот, однако, отражает нападение его армии из восьми страстей, и искуситель вынужден отступить. В палийской комментаторской литературе (см. "Ниданакатха" и комментарий к "Буддхавамсе") лишь беллетризуется сражение Будды с армией страстей Мары (число их возрастает до тридцати), появление самого искусителя (сопровождаемое исчезновением богов и нагов [42]) и оружия — совершенства Будды (ср. версии "Махавасту" и "Лалитавистары").
Фактически искушения Будды Марой содержат отдаленную аналогию лишь третьему искушению сатаны в евангельских текстах — предложению благ мира. Вместе с тем три предложения сатаны (превратить камень в хлеб, низринуться с кровли храма и поклониться ему за царства мира), составляющие органическое единство в евангельском повествовании (Мф 4:1—11; Лк 4:1-13), отражают такие уровни догматико-сотериологического сознания, которые в буддийском мышлении не имеют даже отдаленных аналогий. Речь идет о том, что Иисус Христос как Глава нового человечества, "Новый Адам", должен исправить то, что привело к смерти "ветхого Адама", победив искушения, которыми сатана низложил первого человека в первородном грехе. Различия касаются и духовного облика искушаемых: Будда отвергает искусителя гордо, с героическим пафосом, подчеркивая свои совершенства и духовную мощь, Иисус это делает одновременно твердо и смиренно, не проронив ни слова о Своем совершенстве и лаконично отсекая псевдодоводы противника словами Писания. Различие налицо и в самом духовном смысле искушений. Бог, искушаемый Своей же тварью, находится отнюдь не в той ситуации, что человек, которому противостоит бытийно вполне равноправный ему злой дух.
Парадоксальным образом наибольшие идейные контрасты отмечаются как раз тогда, когда перед нами предстают сюжетно наиболее конкретные аналогии. Пример того — два варианта притчи о сеятеле. Согласно евангельской притче, сеятель сеет семя (слово Божие) в четыре почвы, из коих первая сопоставляется с теми, кого по нерадению обирает диавол, вторая — с теми, кто принимает семя, но скоро теряет его при искушениях, третья — с теми, кто лишается его, подавив житейскими заботами, а четвертая — с людьми, в терпении дающими этому семени произвести свой плод (Мф 13:3—23; Мк 4:3—20; Лк 8:5— 15). Согласно буддийской притче (Самъюттаникая IV. 313— 316) [43], Будда говорит, что крестьянин обрабатывает не только лучшую землю, но и среднюю, а также худшую, "солончаковую", надеясь и с нее получить хотя бы корм для скота. Лучшей соответствуют монахи и монахини, второй — миряне, третьей — приверженцы других религиозных общин, которые также могут получить пользу (хотя и малую) от учения дхармы. Показательно, что в первом случае речь идет не об обработке, но о сеянии: различие отнюдь не случайное, касающееся расхождений мировоззренческого характера, — с антропоцентризмом буддизма контрастирует теоцентризм христианства. Важно и другое различие — в новозаветном тексте невозможно то половинчато-компромиссное решение вопроса о спасении человека, которое выражает буддийская идея частичного принятия истины частично верующим. Наконец, новозаветным текстам совершенно чуждо высокомерное деление людей по сортам, но каждый человек может быть одной из "почв" (совмещая и их качества) в зависимости от своего внутренне-духовного состояния.
Столь же внушительны различия в параллелях хождения ученика по воде. Петр, желая испытать свою веру, идет по зову Иисуса в море и начинает, усомнившись, тонуть, а затем спасается, воззвав к своему Учителю и схватившись за Его руку (Мф 14:25-32). По версии комментария к джатакам, один из учеников Будды собирается идти к нему вечером и, не находя плота, идет по воде, но на середине реки со страхом видит волны и начинает тонуть, а затем спасается, восстановив в себе силу медитации (комментарий к джатаке № 190). Хождение по воде со времен ведийского аскетизма считалось надежным признаком хорошей работы над собой опытного религиозного практика, а затем оценивалось как один из "побочных продуктов" йогической левитации. И в данном случае медитация на образ Будды свидетельствует лишь о высоком уровне психотехники адепта. В отличие от апостола Петра ученик Будды располагает "гарантирующими" духовными инструментами. Он не нуждается в протянутой руке Спасителя и сам становится своим спасителем.
Учитывая, что буддийский комментарий появляется никак не ранее V в. по Р. X. [44], а рассматриваемый эпизод с сюжетной точки зрения действительно значительно напоминает евангельский, трудно отказаться от мысли, что перед нами определенная "литературная пародия", выражающая полемику с новозаветным повествованием. И здесь можно констатировать наличие еще одного типа аналогий, природа которого, насколько нам известно, еще не нашла отражения в работах по "буддийским корням". Мы имеем в виду совершенно особый феномен имитации, не укладывающийся в рамки обычньис литературных категорий, поскольку он соотносится с духовными реальностями, превышающими тот уровень, который берет "нормальное" литературоведение. Специфика этой имитации заключается в инфернальном сочетании деформирования подражаемого в целях его использования и использования его в целях деформации.
Хотя буддийский сюжет хождения ученика по воде является, может быть, наиболее ярким примером такого своеобразного пародирования новозаветных тем, он отнюдь не единственный. Встреча Христа с самарянкой у колодца, когда слово истины обращено к тем, кто по суждению законничества считался недостойным получить его (Ин 4:6-26), имитируется в уступающей по древности новозаветным памятникам "Дивья-авадане" китайского канона (III в.) в эпизоде с любимым учеником Будды — Анандой, который принимает воду от девушки низкой касты и, несмотря на ее предупреждения, говорит, что не интересуется ее происхождением. Пародийная имитация евангельского повествования вь1является в связи с некоторыми мотивами буддийского сюжета: эта девушка увлекается не столько учением, сколько телесным совершенством своего собеседника и сильно рассчитывает на помощь своей матери, способной добыть ей любого мужа своей магической силой. Будде удается окончательно решить дело, лишь привлекши ее в сангху.
Более сложный тип рассматриваемого явления — содержащаяся в четвертом разделе "Саддхармапундарики" (наиболее известные китайские переводы датируются III-V вв.) "притча о блудном сыне" (IV. 9—36). Сюжет буддийской аллегории сводится к тому, что один человек ушел из дома и затем, блуждая в нищете, много лет спустя дошел до того города, где жил его собравший несметные сокровища отец. Когда слуги привели его к неузнанному им отцу, бедняк лишился чувств от страха. Отец, видя, что он еще не готов принять наследство, нанимает его за двойную плату на работу — расчистку нечистот, но постепенно приближает к себе и позднее, чувствуя наступление конца, объявляет его перед всем городом своим наследником, чему тот крайне удивляется. Буддийское иносказание в определенном смысле напоминает евангельское (Лк 15:11—32), которое, однако, отличается от него рядом существенных элементов: блудный сын не просто уходит от отца, но забирает свою часть наследства и расточает его; в отличие от буддийского нищего он знает, где и кто его отец, и решает вернуться к нему; в притче присутствует и его добродетельный брат. Эти сюжетные различия соответствуют различиям в морали обеих притч. Образ евангельского блудного сына — образ деятельного покаяния и осознания человеком своего падения, а через это — восстановление утраченного сыновства. В буддийской же притче при имитации литературной фабулы происходит кардинальное смысловое изменение: "сыновья Татхагаты" (нищий) никакого сыновства не утрачивали и родительского наследства не расточали, но были угнетаемы тремя видами страданий и постепенно приучались Бхагаватом (отец), перед которым они не согрешили, размышлять над "простыми материями" (уборка нечистот) ради достижения нирваны (двойная плата), чтобы впоследствии получить и "жемчужину всеведения" (наследство), к коей они никогда не стремились. Очевидно, что в подобной сотериологической модели покаяние столь же ирреально, как, пользуясь языком индийской образности, "рога зайца" или "сын бесплодной женщины".
Приведенные типологические сопоставления позволяют, на наш взгляд, внести коррекцию в основной тезис религиеведения А. фон Гарнака и Р. Гарбе, считавших допустимым разводить повествовательный и доктринальный уровни христианской традиции, между которыми на самом деле нет никакого расхождения. Принадлежа к повествовательному аспекту традиции, сюжетные мотивы Нового Завета несут смысл, принципиально отличный от того, какой имеют их буддийские корреляты. И это происходит именно потому, что повествовательные элементы первохристианских текстов совершенно неотделимы от христианских догматических реальностей.
Индийские религии и апокрифы
Класс апокрифов, как известно, объединяет многочисленные памятники раннехристианской письменности, которая возникла на Ближнем Востоке и в Северной Африке, воспроизводила все жанры текстов новозаветного канона, но осталась за его пределами. Прежде чем оценить попытки выявления древнеиндийских религиозных влияний на эту категорию памятников (а такие попытки исторически даже предшествовали поискам "буддийских корней" новозаветных текстов), представляется целесообразным выяснить, что же отделяло их от новозаветных текстов.
Демаркационную линию между ними составляла не "сокровенность" (ср. само название этих текстов), хотя она и весьма для них характерна. В новозаветном каноне также никогда не утверждалось уравнивание всех членов раннехристианской общины в возможностях восприятия откровения [45], а "Откровение Иоанна Богослова" раскрывало историософическое христианское тайноведение. Ошибочно было бы видеть эту линию разделения и в самом сюжетном многообразии апокрифических текстов, выходящем за границы новозаветного повествования. В христианской традиции объем Писания никогда не перекрывал многообразия Предания и составлял фактически экстракт последнего, о чем новозаветные тексты свидетельствуют и сами [46]. Более того, отдельные положения апокрифов воспринимались как немаловажные дополнения к сжатому новозаветному повествованию (например, сообщения о родителях Девы Марии, Ее введении во храм, повествование о сошествии Христа во ад) и были приняты христианской традицией. Основная линия демаркации проходила там, где отдельные элементы раннехристианского предания, собранные в апокрифах, нередко попадали в отнюдь не христианский богословский контекст, отражающий прежде всего идейные позиции различных гностических школ. А этот контекст ввиду закономерной связи (и вопреки теоретикам библейской критики) догматических и повествовательных аспектов религиозного предания обусловил введение в рассматриваемые тексты новых сюжетных тем и новые трактовки прежних.
Основная деформация христианского предания шла по линии отрицания его центрального идейного компонента, связанного с нераздельно-неслиянным единством Божественного и человеческого в Иисусе Христе. Это сверхразумное единство и разрывается гностической попыткой "докопаться до сути", логизированием непостижимого и воображением невоображаемого, в результате чего Христос перестает быть для гностика Богочеловеком, но становится лишь Божеством в человеческой оболочке. Догматическая деформация определяет то характерное сочетание многословности и мистериальности, которое отличает гностические евангелия от канонических. Претензия философствующего ума на обладание недоступными для неэзотерика знаниями ведет к умножению "тайных" подробностей, претензия же чувствительной "сердечности" на особое переживание духовного — к неудержимости религиозной фантазии.
Из множества апокрифических текстов лишь некоторые в рассматриваемый нами период явились предметом деятельности восточнославянского переводчика. Ранее остальных таковыми стали "Первоевангелие Иакова" (II в.), "Евангелие Фомы", или "Евангелие детства Христова" (II в.), "Евангелие от Никодима" (III в.), различные "Обиходы и учения апостолов", в том числе апостола Фомы (III в.) [47].
Поскольку о древнеиндийских элементах в апокрифах писали очень многие из тех, кто упоминался в связи с поисками "буддийских корней" новозаветных повествований, здесь допустимо назвать лишь наиболее известные имена.
О попытках установить древнеиндийские элементы в апокрифах можно говорить уже с середины XVIII в., когда, подчеркивая связи "Евангелия детства" с манихейством, исследователи начали сопоставлять этот текст и с буддийскими легендами. По мнению А. фон Гудшмидта, "Деяния Иуды Фомы" отражают сказания о буддийских миссионерах в Персии и Парфии и содержат конкретные буддийские мотивы: поглощение дракона землей, лев как орудие казни, целительная сила мощей и т. д. (1864). Одна из первых серьезных инициатив в практике сравнений апокрифов с конкретными отрывками буддийских сочинений в целях выявления между ними генетических связей принадлежит Э. Куну (1896), который уделил специальное внимание "Евангелию детства". О буддийском влиянии на апокрифическую литературу в целом пишет О. Франке (1901), и оно же становится темой доклада Л. Г. Грэя, сделанного на заседании американского востоковедного общества (1901), и отдельных публикаций С. Шпейера и С. Харди. Одновременно появляются сопоставления уже знакомого нам Эйзинги (как продолжение будцийско-новозаветных параллелей), до сих пор считающиеся основополагающими в направлении поисков "буддийских корней" в апокрифах [48]. Ученые начинают обнаруживать в апокрифах элементы не только буддийских, но и индуистских мотивов. Разбор аргументов в пользу влияния обеих древнеиндийских религий на указанные памятники становится уже достаточно традиционным в науке, чтобы привлечь внимание исследователей и издателей раннехристианских апокрифов, например, Э. Хеннеке (1904). О. Шмидель, только допускавший буддийское влияние на два канонических Евангелия, полагает его для евангелий апокрифических "уже неизбежным" [49]. Специально на отражениях в апокрифах древнеиндийских мотивов останавливается Гарбе, убежденный, что поиски индийских влияний на эти тексты особенно перспективны [50]. Некоторые ученые, выступившие с критикой "буддийских корней" в новозаветных текстах, допускали возможность их существования в повествовательном слое апокрифов [51].
На этом основные изыскания в данной области фактически завершаются, и можно говорить лишь об отдельных констатациях рассматриваемых литературных связей в общих работах, например, Ч. Элиота, подчеркивающего значительную идейную близость обеих традиций [52], и ряде публикаций, касающихся раннехристианского периода в целом. В настоящее время известный исследователь раннехристианских текстов Г. Концельман отмечает лишь отдельные буддийско-апокрифические аналогии [53].
Нельзя умолчать и о том, что идея влияния буддийско-индуистских тем на апокрифы встретила достаточно рано и своих оппонентов (хотя их было значительно меньше, чем в случае с "буддийскими корнями" новозаветных повествований). Это были индолог Э. Хопкинс, религиевед Г. Фабер. Еще раньше исследователь апокрифов Р. Липсиус подверг сомнению буддийскую специфику перечисленных Гудшмидтом деяний Фомы (1883) [54]. Серьезный интерес к данному вопросу проявил немецкий индолог И. Дальман, отстаивавший, в частности, исторический характер преданий об индийской миссии апостола Фомы. Наиболее фундаментальную критику идея влияния индийских религий на апокрифы получает, на наш взгляд, у Дж. Кеннеди, выдвинувшего альтернативное предположение [55].
Сознательно сужая круг текстов, ограничимся разбором основных "параллелей" в буддийских и индуистских памятниках и в известных на Руси в тот период апокрифах.
Так, семь шагов шестилетней Девы Марии из "Первоевангелия Иакова" сопоставлялись с семью шагами новорожденного Будды, причем подчеркивалась традиционность этой темы для всей древнеиндийской литературы. "Первоевангелие" (гл. 18) содержало, по мнению ученых этого направления, еще одно заимствование из буддийской "Лалитавистары" (гл. 7). Такой вывод делался из описания неземной тишины при рождении основателя религии в обоих текстах. В буддийском памятнике речь шла о прекращении всякого движения в природе, когда ветры не веют, цветы не распускаются, реки и ручьи не текут, небесные светила останавливаются, человеческая деятельность прекращается. Согласно же апокрифу, Иосиф мог наблюдать, как жевавшие работники перестали жевать, достававшие что-либо останавливались, подносившие пищу ко рту задерживали руку, овцы стояли неподвижно, как и их пастух, и все вместе смотрели вверх.
Большее внимание ученых привлекло "Евангелие детства", которое полагали уже систематической переработкой древнеиндийского религиозно-литературного сюжета о детстве божественного героя. Поэтому остановимся на главных композиционных узлах этого апокрифа.
Отрок Иисус лепит в субботу из глины птиц, которые взлетают, за что получает порицание от книжников. Он, однако, не остается в долгу и проклинает сына книжника за то, что он "расточил" его воду (после чего нерадивец "засох"). Другой отрок бросается ему сзади на плечи, но также падает замертво. Когда Иосиф рассказывает о жалобах на сына, в адрес жалобщиков раздаются угрозы, а когда Иосиф наказывает его, мальчик ставит и его на место, заявляя, что он ему не отец. Присутствовавший при этой сцене учитель Закхей удивляется, что так разговаривают с отцом, но трехлетний мальчик говорит ему о своей божественности, о том, что ему дана всякая власть в мире и что он родился прежде них всех. Он уже все знает, и учитель сам может поучиться у него. Закхей велит ему прочитать букву А, но отрок не хочет. Закхей бьет его, но слышит в ответ, что тот все знает, а остальные не знают ничего, и сам получает вопрос, на который ответить не в состоянии.
Учитель возвращает ребенка Иосифу, признает свой позор и сразу объявляет о неземном происхождении мальчика. Иудеи дивятся этому, а мальчик называет себя их спасителем и обещает им исцеление недугов. Затем он воскрешает упавшего с крыши товарища и исцеляет соседа, ударившего себя по ноге топором. В девятилетнем возрасте он приносит матери воду в одежде, так как ведро разбилось, чудесно преумножает зерно, помогает Иосифу в работе. Иосиф отдает его второму учителю для обучения греческим и еврейским книгам. Но и теперь отрок отказывается выполнить задание и говорит преподавателю:
"Если ты действительно учитель и что-то знаешь, скажи мне значение А, а я тебе скажу про Б". Разгневанный учитель, как и его предшественник, бьет отрока, но тот гневается и проклинает обидчика, который падает замертво. Тогда его берет в обучение еще один учитель, уже более осторожный. Отрок видит в училище священные книги, берет их и начинает "учить от них". Сообразительный учитель сразу признает себя его учеником. Отроку это нравится, и он по такому поводу воскрешает и проклятого наставника. Затем он словом разрушает и складывает церковное здание и совершает еще много новых чудес, вызывая восхищение иудеев [56].
Основные ассоциации с буддийскими сюжетами вызвало "сверхъестественное поведение" отрока в школе. Мотив всезнающего ученика, посвященного в тайный смысл букв, сопоставляется с эпизодом "Лалитавистары" (гл. 10), когда царевич Сиддхартха, также посланный отцом учиться, поражает своих учителей, спросив их, какое избрать письмо (перечисляются брахми, кхароштхи, магадхи, дравидийское и др.) из названных 64 (они же хотели учить его алфавиту). Затем Сиддхартха начинает объяснять соученикам доктрину буддийского учения, первые слова которого начинаются с буквы А и далее следуют по алфавиту (anitya — "невечность" всех составных вещей в мире, atmaparahita — "любовь к себе и другим", indriyavaikalya — "расслабленность чувств"). Помимо того, что в обоих случаях сторонники заимствования видят раскрытие символического значения букв, они отмечают в качестве сходства и тот факт, что учителя падают на землю (признавая, впрочем, что один упал от восторга, другой — от проклятия [57]).
Общие закономерности обнаруживаются и при сопоставлении апокрифа с кришнаитскими легендами. Кришна и Рама также поражают своих учителей экстраординарными познаниями, особенно сакральных текстов (Вишну-пурана, гл. 4, 5). Кроме того, согласно исследователям, показательны и параллели "шаловливых чудес" отрока из апокрифа с божественной игрой юного Кришны (Ша): воплощение Вишну уже в детстве переворачивает повозку, крадет молоко и масло, распрямляет горбунью и вместе с Рамой благодетельствует своему учителю, вытащив из морской глубины его утонувшего сына. Значимые аналогии можно видеть и в тех особенностях поведения мальчиков, когда, как бы в ответ на оказываемые им божественные почести окружающих, они сами себе время от времени напоминают о своем божественном происхождении.
Оценивая возможности заимствования отдельных буддийско-индуистских мотивов в апокрифических памятниках, нельзя не признать вместе с Р. Гарбе, Ч. Элиотом и Э. Томасом ряд факторов, значительно более благоприятствующих попыткам вьювления древнеиндийских элементов здесь, нежели в новозаветных памятниках. В самом деле, между системами мировоззрения апокрифов и индийских религий нет непримиримых противоречий [58]. Христианские миссионеры появляются и в самой Индии. В среде сирийских гностиков, сыгравших первостепенно важную роль в развитии апокрифической письменности, распространяются сведения об Индии и ее городах, о чем свидетельствуют "Деяния Фомы".
Однако даже при наличии первого условия заимствования — теоретических возможностей исторических контактов — вопрос об утилизации индуистско-буддийского материала в апокрифах получает скорее отрицательный ответ. Снова приходится констатировать положение, когда "заимствование" едва ли уступает по древности своему предполагаемому источнику. Как уже было выяснено, основные сравнимые с буддийскими памятниками апокрифы относятся ко II в. Большинство же буддийских параллелей связаны с "Лалитавистарой" — текстом, стабилизировавшимся к III—IV вв., а индуистских — с "Вишну-пураной", которая, даже принадлежа к ранним памятникам этого сравнительно позднего жанра санскритской литературы, не может датироваться периодом до V—VI вв. [59].
В отдельных случаях, когда признается заимствование, имеется возможность допустить автохтонные предпосылки. Это относится, в частности, к образу небесного дома из "Деяний Фомы", который сопоставляется с буддийским образом дворца Брахмы (vimana), но принадлежит к кругу традиционной для гностицизма системы аллегорий (дом верующих), связанной, в свою очередь, с использованием христианской метафоры [60].
Наконец, "Евангелие детства" обнаруживает ряд параллелей с другими, культурно более близкими ближневосточному и североафриканскому гносису традициями, чем древнеиндийская. В связи с этим нельзя не вспомнить мифы об Осирисе, который ребенком начинает беседовать с учеными "Дома жизни" в храме Птаха, и они также дивятся его познаниям. Когда же Осирису исполняется 12 лет, во всем Мемфисе уже никто не может сравниться с ним в культовых знаниях. Аналогии выказывает и описание детства другого египетского божества, Гора. Более отдаленная, но достаточно выразительная параллель детским чудесам отрока из апокрифа видится в образной системе древнегреческих мыслителей. В частности, нельзя не вспомнить того играющего младенца, который, согласно Гераклиту, выступает как вечное существо, переставляющее фигуры [61]. Очевидно, что "чудо-мальчик" — вполне естественный общий мотив вовсе не зависимых друг от друга культурных традиций, отразившийся как в религиозной литературе, так и в фольклоре.
Возможность заимствований заметно уменьшается и ввиду "шероховатостей" многих рассмотренных сходств: если апокрифический отрок толкует символическое значение первой буквы алфавита, то юный бодхисаттва создает нечто иное — мнемонический способ усвоения доктрины. В апокрифе отсутствует важный для параллелизма мотив знания неизвестных языков, а в индийских сказаниях об учебе — конфликт между учеником и учителями (что частично признают и сторонники заимствования).
Хотя в восточном Средиземноморье во II—III вв. уже что-то знали и о буддизме, и об индуизме, сам характер полученной в то время информации никак не предполагает возможности влияний и отражает прежде всего интерес к экзотическим учениям и религиозной практике — интерес хотя порой и "симпатический", но вполне "отвлеченный" [62]. Кроме того, в тех случаях, когда параллели наиболее очевидны, параллельный элемент лучше мотивирован в апокрифах [63].
Не настаивая, однако, на заимствовании из апокрифов буддистами и индуистами, считаем особо важным подчеркнуть конкретные типологические сходства ключевых идеологом апокрифических евангелий и буддийско-индуистских памятников. По нашему мнению, сторонники "индийских корней" даже недостаточно оценивают духовную близость этих традиций, которая значительно глубже любых конкретных сюжетных сходств. Невозможные с точки зрения христианского апофатизма попытки гностиков "рационализировать" Боговоплощение (что привело их к фактическому разрушению христологии) соответствуют фундаментальному для древнеиндийских религий докетизму [64], а честолюбивый отрок "Евангелия детства" — литературной интерпретации Будды. Эти соответствия, усугубляемые старательным искажением образа Основателя христианства в "Евангелии детства" (см. выше о последнем типе буддийских "параллелей" новозаветным текстам) [65], имеют, на наш взгляд, и немалое общерелигиеведческое значение. Они подвергают сомнению логическую возможность таких понятий, как "неортодоксальное христианство", показывая на конкретном примере, насколько деформирование христианской мысли соответствует ценностям религиозности, совершенно отличной от христианской.
Указанные параллели позволяют исследователю русской средневековой культуры говорить об идейно-литературном фоне, обусловившем идеологию отреченных книг — важнейшего компонента русской средневековой идеологии, с которым были в значительной мере связаны и индийские реалии русской литературы. Чисто типологический характер этих соответствий противоречит только одному — возможности рассматривать раннехристианские апокрифы в качестве канала реальных индийских религиозно-литературных влияний на восточнославянскую словесность.
[1] Льюиc К. С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. М., 1992. — Сс. 11-12.
[2] Buddhist-Christian Dialogue: Mutual Renewal and Transformation / Ed. by P. 0. Ingram and F. М. Streng. Honolulu, 1986. — P. 233.
[3] Там же. - Pp. 233-234.
[4] См. в связи с этим нашу статью: Шохин В. "Диалог религии": идеология и практика // Альфа и Омега. 1997. № 2(13). - Сс. 237-238.
[5] В этой связи нельзя не вспомнить и о попытке наших отечественных псевдобуддистов также представить структуру христианского учения в качестве одной из норм буддийского (при понимании структуры как реалии более широкой, а нормы как более частной): Парибок А. Христианство и буддизм // Христианство и культура сегодня. Cristianesimo e cultura oggi. M., 1995. — С. 87. Подобная раскладка представляется действительно изящной если, разумеется, вполне абстрагироваться от того обстоятельства, что "норма", выраженная в таком даже минимуме христианского учения как Символ Веры, с первого пункта о сотворении мира до последнего — связанного с "воскресением мертвых" — находится с буддийской "структурой" в отношении взаимоотрицания.
[6] Публикуемый ниже текст основан на материале монографии: Шохин В. К. Древняя Индия в культуре Руси (XI - середина XV в.). М., 1988 . — Сс. 16-36.
[7] Индолог может обнаружить в поэтических интерпретациях Арнольда два типа неточностей. К первому из них следует отнести прямые вставки в текст с целью его христианизации. Лучший пример — вкладывание в уста искусителя слов: Если ты Будда (Arnold E. The Light of Asia or the Great Renunciation being the Life and Teaching of Gautama. L., 1925. — P. 103), которых в тексте нет, но которые зато присутствуют в новозаветной истории искушения как обращение: "Если Ты Сын Божий..." (Мф 4:3,6). Причина появления этих слов в переводе вполне понятна и связана с желанием создать у читателя впечатление божественности Будды, способного "заместить" Того, Кого в Иорданской пустыне искушал сатана. Употребление такого рода литературных приемов было для Арнольда в значительной мере облегчено тем, что он, излагая биографию Будды по буддийским традиционным материалам, ни на какой из них конкретно не опирался. Не случайно он в одном из своих вступлений к поэме уделяет большое внимание критике со стороны "эрудитов", могущих усомниться в адекватности цитируемых им текстов (Arnold E. Указ. соч. — Pp. X—XI).
[8] Seydel R. Das Evangelium von Jesu in seinen Verhaltnissen zu Buddha-Sage und Buddha-Lehre. Lpz., 1882.
[9] В своей работе Зейдель сопоставляет Будду, достигшего истинного "просветления" под ашваттхой, с Иисусом, Который говорил Нафанаилу, что видел его под смоковницей (Ин 1:48). Зейделю мешает, что во втором случае под смоковницей сидит не учитель, а ученик, к тому же, полагает он, это препятствует символическому истолкованию смоковницы как иудейской религии (с чем связана принудительность данного толкования, критик библейских текстов не объясняет). Решающее доказательство того, что в "неиспорченном" тексте именно Иисус должен был сидеть под деревом, Зейдель усматривает в том, что это приписывалось в одном из мусульманских рассказов Мухаммеду, в котором Абубекр признал по этому признаку пророка (как следовавшего примеру Иисуса). Потому текст Евангелия: "Когда ты был под смоковницею, Я видел тебя" (бута) следует, по его мнению, переправить на "Когда Я был под смоковницею" (Seydel R. Указ. соч. — SS. 169-170).
[10] Тримурти (букв. "три формы") — концепция индуизма, согласно которой Абсолют проявляется в трех аспектах, соответствующих верховным божествам Вишну, Брахме и Шиве, ответственным за сохранение, созидание и разрушение безначальных миров.
[11] Изыскания привели Макса Мюллера к двум основным выводам: в указанном Нотовичем монастыре русский путешественник никогда не был; отсутствовало также и что-либо, напоминающее рукопись об Иссе. "Манускриптом" Нотовича занимались и такие известные ученые, как ориенталист Т. Нэльдеке и индолог Г. Бюллер.
[12] Джатаки — повествования о прежних рождениях Будды, первоначально буддийская обработка фольклорного материала, позднее включенная в палий-ский канон.
[13] Мах Muller F. Coincidencens // Мах Muller F. Last Essays. L., 1901. — Pp. 20 250 и др.
[14] Van den Bergh Eysinga G. A. Indische EinHusse auf evangelische Erzahluneen Gottingen, 1909.
[15] Эйзинге принадлежит программный манифест "Голландская радикальная критика Нового Завета" (1912). Основная его идея заключается в факультативности новозаветного текста для получения представления о жизни Основателя христианства.
[16] Ґan den Bergh Eysinga G. А. Указ. соч. — SS. 108-109.
[17] Oтнocитeльный академизм Эйзинги по сравнению с его предшественниками не всегда, однако, мешал ему использовать зейделевскую установку на "пересмотр" новозаветного текста. Пытаясь приблизить пророчество Симеона к прорицанию Аситы, он трактует en тo pnevmati (Лк 2:27) "по вдохновению", "в духе" (так Симеон пришел в храм, руководимый Святым Духом, — Лк 2:25- 26), как "по воздуху" (способ перемещения левитирующего йога).
[18] Van den Bergh Eysinga G. А. Указ. соч. — S. 114.
[19] Schmеedel 0. Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung. Tiibingen, 1906.
[20] Edmunds A. J. Buddhist and Christian Gospels. Now First Compared from the Originals. Vol. 1, 2. Philadelphia, 1908.
[21] Там же. Vol. 1. — Pp. 58-164.
[22] Так, одну из серьезных параллелей американский буддолог видел в том, что основатели обеих религий кончили свою земную жизнь... на открытом воздухе, не упоминая при этом о, скажем, более чем несходных обстоятельствах их смерти. Не менее "убедительную" параллель Эдмундс заметил и между преданием Христом Себя смерти за спасение людей и рекомендацией Будды каким-то ученикам кончить жизнь раньше установленного им срока (Edmunds A J Указ. соч. Vol. 2. - Pp. 65, 169).
[23] Трипитака (букв. "Три корзины") — собрание текстов буддийского канона на языке пали (канонические собрания подобного типа составлялись также на санскрите, гибридном санскрите и, возможно, также других языках).
[24] GarЬe R. Indien und das Christentum. Tubingen, 1914. — SS. 12-61.
[25] "Das Scherflein der Witwe" und seine Entsprechung im Tripitaka. Lpz., 1922. - SS. 1-8.
[26] Brown W. N. The Indian and Christian Miracles of Walking on the Water. Chicago, 1928.
[27] Kennedy J. The Gospels of the Infancy, the Lalita Vistara and the Vishnu Purana: or the Transmission of Religious Legends between India and the West // Journal of the Royal Asiatic Society. L., 1917. — Pp. 523-527.
[28] Eliot Ch. Hinduism and Buddhism: An Historical Sketch. Vol. 3. L., 1921. — P. 437.
[29] Gronbold G. Buddha // Enzyklopadie des Marchens. Handworterbuch zur historischen und vergleichenden Erzahlungforschung. B.-N. Y., 1978. — S. 995.
[30] Rawlinson H. G. India in European Literature and Thought //The Legacy of India / Ed. C. T. Garratt. Oxf., 1937. - Pp. 19-20.
[31] Типичная модель распространенных концепций этого типа излагается в издании, резюмирующем "усредненные" работы, посвященные популяризации индийской культуры (ср. Singhall D. P. India and World Civilization. Vol. 1-2. L., 1972).
[32] Сказанная интенция реализуется уже на уровне "предварительной" этико-поведенческой подготовки адепта, когда его сознание должно "очищаться" посредством упражнений в "дружелюбии", затем "радостности", "равнодушии" и т. д. Основные этапы деперсонализации систематизируются в буддийских шастрах, представленных, например, в махаяне трактатами буддийской йоги — йогачары.
[33] См.: Аштасахасрика-праджняпарамита (гл. I): "Так, о Субхути, Бодхи-саттва, великое существо, ведет неизмеримые и неисчислимые существа к освобождению. И все же нет никого, кто освобождается, и того, через кого он ведется к освобождению".
[34] Нравственный релятивизм в махаяне опирается на известный тезис, согласно которому цель (достижение адептом "просветления", прежде всего относительно своего "псевдо-я") оправдывает средства. Традиция "великой колесницы" даже выработала специальный термин upayakauSala ("искусное средство"), который означает тактику, позволяющую тому, кто знает истину, совершить любой поступок в целях улучшения кармы "обычного" человека. Схожая установка нашла отражение и в тхераваде, где "совершенным" неоднократно называется тот, кто "оставил позади и доброе и злое" (Сутга-нипата, ст. 520, 547, ср. ст. 790).
[35] Примером такой работы с текстом может служить попытка одного из последователей теологии Р. Бультмана, Г. Концельмана, "отобрать" из евангельского текста то, что должно относиться к "Самому Иисусу" — учение о царстве Божием, этические положения, слово о вере. Отдельные "реконструкции" такого типа (зависящие от того, каких воззрений придерживается сам теолог на царство Божие, веру и этику), естественно, не могут удовлетворить других, предлагающих свой подход к этим вопросам (ср. дискуссию о том, мог ли Сам Иисус отождествлять Себя с "Сыном Человеческим").
[36] Данное направление представлено работами И. Д. Амусина, М. М. Кубланова, С. С. Аверинцева, И. С. Свенцицкой, М. К. Трофимовой. Достижения реалистической интерпретации текстов Нового Завета четко эксплицируются в:
История древнего мира. Т. 3. М., 1982. — Сс. 118-133. С изложением результатов современного источниковедения в этой области можно ознакомиться по:
Козаржевский А. Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы. М., 1985. - Сс. 137-143.
[37] Представляется вполне правомерным ответ Э. Томаса сторонникам "буддийских корней": "Все евангельские истории принадлежат I в. Все они были записаны в то время, когда живая традиция и память о событиях еще существовали <...> История самарянки или избрания учеников были рассказаны потому, что действительно была самарянка и были ученики, которые до того были рыбаками. В этом случае мы имеем дело с историческими событиями..." (Thomas E. The Life of Buddha as Legend and History. L., 1952. — P. 247).
[38] Ярким примером такого синкретизма может служить включение египетских или иранских божеств (скажем, Митры) в римский пантеон, явление кушанского религиозного синтеза или постоянный "взаимообмен" языческих религий Ближнего Востока.
[39] О том, что тексты Евангелий не могут датироваться позднее I в. по Р. X., свидетельствуют данные рукописной традиции и упоминания древних авторов. Так, хорошо известно, что папирус Райленда, содержащий диалог Иисуса с Пилатом (Ин 18:31—34,37—38), относится к 120—125 гг., эпохе уже сравнительно позднего распространения христианства в Северной Африке. Ввиду того, что текст, фрагменты которого воспроизводятся в египетском папирусе, — наиболее "теоретичный" из всех Евангелий и восполняет синоптические (например, в связи с событиями, предшествовавшими заключению в темницу Иоанна Крестителя, с посещениями Иисусом Иудеи и уточнением общей последовательности событий), его датировка (90-е годы I в.) является верхней границей для датировки Четвероевангелия (Козаржевский А. Ч. Указ. соч. — Сс. 19-20, 55). О времени составления синоптических Евангелий можно судить и из того, что Матфея и Марка цитирует около 95 г. священномученик Климент Римский, Матфея — священномученик Игнатий Антиохийский (казнен в 107 г.), Аристид около 120 г. называет Евангелия Священным Писанием, свидетельствуя уже об их канонизации (ср. "Диатессарон" Татиана).
[40] О "хронологических характеристиках" истории об Асите в "Налака-сутге" см. Thomas E. Указ. соч. — Р. 39.
[41] См. Garbe R. Indien und das Christentum. — SS. 40, 50; Sedlar J. W. India and the Greek World: A Study in the Transmission of Culture. Pittsburg, 1980. — P. 111.
[42] Haгu — полубожества, имеющие, согласно индийской мифологии и изобразительному искусству, человеческую голову и змеиное тело.
[43] Ссылаемся на нормативное издание: Samyutta-nikaya / Ed. by L. Feer. Vol. I-V1. L., 1884-1908.
[44] О возможности его атрибуции Буддхагхосе см. Malalasekera G. R. The Pali Literature of Ceylon. L., 1928. — Pp. 124-126.
[45] Так, в отдельных случаях Христос считал, что лишь некоторые из учеников — Петр, Иаков и Иоанн — могут быть свидетелями недоступных другим ученикам тайн спасения (Мк 5:37; Мф 17:1; Мк 9:2; Лк 9:28; Мф 26:37).
[46] "Евангелие от Иоанна" (20:30): "Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей" также (21:25): "Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг".
[47] Уже к началу XX в. было зафиксировано по крайней мере два "болгарских" списка " Первоевангелия Иакова" XIII в. (текст был известен на Руси и ранее), Чудовский список XIV в. (Истрин В. М. К вопросу о славянорусских редакциях Первоевангелия Иакова. Одесса, 1900. — Сс. 1, 3, 17, 43) и списки XIV в. "Евангелия детства" и "Деяний Фомы", например, в Кирилловском сборнике (Novacovic St. Apokrifi jednoga srpskog cirilovskog zbomika XIV vieka // Starine. Kn. 8. Zagrebu, 1876. — Pp. 48-55).
[48] Van der Berg Eysinga. Указ. соч. — SS. 75-88.
[49] Schmiedel О. Указ. соч. — S. 31.
[50] Garbe R. Указ. соч. - SS. 70-80.
[51] См., в частности, Wecker О. India // Realencycklopadie Paulys der classischen Alterumskunde. Neue Bearbeitung begonnen von G. Vissowa fortgefiihrt von W. Kroll und K. Mittelhaus. Stuttgart, 1916. Bd. 18 (IX. 2). — S. 1323.
[52] Eliot Ch. Указ. соч. - Pp. 441-442.
[53] Comelmann H. Apokryphen // Enzyklopadie des Marchens. Handworterbuch zur historischen und vergleichenden Erzahlungforschung. B.-N. Y., 1978. Bd. 1. — S. 653.
[54] См. Мещерская Е. H. Деяния Иуды Фомы (культурно-историческая обусловленность раннесирийской легенды). М., 1990. — С. 63.
[55] Kennedy J. Указ. соч.
[56] Текст изложен по изданию славянской средневековой рукописи в: Попов А. Н. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872. — Сс. 320-325. Последующие события апокрифического сюжета, не представляющие интереса с точки зрения древнеиндийских аналогий, нами опускаются.
[57] См. Sedlar. J. W. Указ. соч. — Р. 115. Отчасти различия между двумя историями обучения были замечены и Р. Гарбе.
[58] Противопоставляя апокрифические чудеса новозаветным, Р. Гарбе в 1910 г. писал: "Истории апокрифических евангелий, параллели которым можно найти в буддийской литературе, обнаруживают истинные черты индийской сказочности. И действительно, речь здесь идет о подлинно индийских мираклях — не о чуде, которое как бы дано в обстоятельстве и которое должно возвысить, вразумить или послужить к достижению веры, а о чуде "неслыханном", имеющем целью вызвать изумление слушающего или читающего" (см. Garbe R. Указ. соч. - S. 19).
[59] Таковы датировки Ф. Паргитера, В. Кирфеля, Р. Хазры, П. Хакера, Р. Мортон Смита — наиболее авторитетных исследователей пуран. С некоторыми итогами этих штудий можно ознакомиться, в частности, по: Larson J Classical Samkhya. Delhi а. о., 1979. — Р. 287.
[60] Ср. в "Пастыре" Ерма (1-11 вв.), где третье видение — образ башни, изображающей Церковь.
[61] Иnnoлum. Опровержение всех ересей IX, 9.
[62] Памятники II-III вв. свидетельствуют о том, что экстраординарные выходки эллинских псевдохаризматиков находились в определенной связи с индийской религиозностью. Самым знаменитым среди таких эллинов был Перегрин Протей, который сжег себя на большом сборище в Олимпии в 165 г. Прыгая в костер, он повернулся лицом к югу (сторона смерти у индийцев) и обратился "по индийскому образцу" к предкам. Эксцентричная одежда Аполлония Тианского, который, согласно Филострату, побывал и в Индии, его вегетарианство, появление и исчезновение в толпе напоминают действия среднего индийского "святого" (vairagin). Наконец, с брахманами соотносились в позднеантичных текстах опыты коллег знаменитого Симона Мага, специализировавшихся по левитации. Марселлин сообщает, что некий Максимиан подражал в этом брахманам; сходные опыты приписываются Епифанием Скифиану и Теревинфу, которые уже начиная с трактата Архелая ассоциировались с индийцами.
Более серьезное знакомство с индийскими религиями демонстрирует известнейший гностик Бардесан, который, согласно Порфирию, встретил в Эдессе посольство индийцев к римскому императору. Хотя многие его характеристики "горных" и "речных" философов еще вполне соответствуют описаниям индийских софистов участниками Александрова похода и Мегасфеном, его способ изложения практики саманеев предполагает, что он действительно что-то узнал о буддийских монахах, их распорядке дня (регулируемом звоном колокольчика) и их взаимоотношениях со светской властью (см. Порфирич. О воздержании от животной пищи IV.17; ср. версию Стобея). Данные Бардесана не оставляют сомнений, что, получая эти сведения, он узнал что-то совершенно новое. Отдельные попытки усмотреть влияние буддизма на учителей гностицизма вплоть до Валентина или Василида, предпринимавшиеся еще с середины XIX в., обнаруживают явную недооценку параллелей гностического мышления — параллелей, позволяющих чисто типологически сближать пифагорейцев, ведантистов и даосов вне всяких связей с проблемой заимствования. На более твердой почве мы оказываемся в связи с буддийскими сведениями о яванах (ионах), как именовали индийцы представителей эллинской культуры, в том числе пришедших в сангху (ср. Yonaka-Dhammarakkhita). Но здесь идет речь о греческих "колониях", которые не были в контактах с той средой, где формировались апокрифические памятники.
[63] Речь идет прежде всего о том, что для гностиков, к которым восходят рассматриваемые апокрифические тексты, акценты на "только божественном" рождении и детстве Учителя имели более актуальное значение, чем для буддистов и индуистов, которым не с кем было по этому вопросу спорить. О связях "Евангелия детства" с гностической докетической сектой Марка — ученика Валентина см. Альбов М. Апокрифические евангелия. М., 1872. — Сс. 41-47.
[64] Аватара, земное воплощение божества, — ввиду того, что тело человека и его душевная структура рассматриваются как субстрат трансмиграции (сансара), освобождение от которой составляет цель любой индийской сотериологии, — есть его вынужденное "снижение" (ср. avatara — "спуск", "движение вниз"). Очевидно, что при таком понимании воплощения речь идет лишь о "наложении" божества на человеческое тело, а не о соединении двух природ (ср. дефиницию воплощения божества как mayamanusya 'иллюзорный человек'). Человеческий облик божества — его временный костюм, который надевается с определенной целью (причем может быть надет костюм и любого другого живого существа) и может быть так же легко по желанию снят. Не случайно даже тексты буддийской и индуистской бхакти, — религиозного направления, опирающегося на "метод любви" к воплотившемуся божеству, — настойчиво повторяют, что божество не оскверняется ничем человеческим, телесным, а потому "нечистым". Именно поэтому говорится о том, что Кришна и Будда уже в материнской утробе излучали особый (нечеловеческий) свет (Бхагавата-пурана, гл. 10; Лалитавистара, гл. 1). Еще раньше, чем эти тексты, ту же идею выражает апокрифическое евангелие псевдо-Матфея (гл. 13). Не случайны древнеиндийские параллели и другому аспекту описания рождения Божественного Младенца в данном тексте. В апокрифе настойчиво подчеркивается, что мать при рождении Иисуса не чувствует ничего из того, что должна ощущать женщина при рождении ребенка (ср. Maijhima-nikaya. Vol. 3 / Ed. by R. Chalmers. L., 1899. — Pp. 118-124).
[65] Образ отрока из "Евангелия детства" наделен характеристиками, прямо противоположными чертам Иисуса канонических Евангелий. Интересно, что "отрок Иисус", который в противоположность своему новозаветному прототипу видит смысл жизни в том, чтобы обнаруживать свое превосходство над "обычными" людьми, типологически соответствует новозаветным оппонентам Христа; бесы всячески пытались "проболтаться" о Его божестве, в то время как Он ввиду духовной немощи Своих современников раскрывал его с большой постепенностью и осторожностью. Апокрифический отрок всячески подражает именно им и даже превосходит их в своей "откровенности". Потому анти-Христос с самого начала говорит о том, о чем евангельский Иисус говорил в конце (например, что Ему дана всякая власть в мире — ср. Мф 28:18), и жаждет совершать сенсационные чудеса (ср. буддийские миракли). Полемические задачи, однако, не мешают псевдоевангелисту-гностику вполне искренне выразить в данном образе свои собственные представления и чаяния. Как справедливо писал Э. Хеннеке, "чудо-мальчик выступает в результате гностиком, который смотрит на мир сверху вниз и глубоко презирает еврейскую религию" (Neutestamentliche Apokryphen in Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Ubersetzung und mit Einleitungen. Bd. 2 / Herausg von E. Henneke. Tubingen, 1904. - S. 65).
Православная беседа >> Библиотека >> Шохин В. 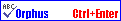
На правах рекламы: