|
|
Победоносцев К.П.
Церковь
I
Чем явственнее означаются в уме отличительные племенные, черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело - объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной формуле. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней, подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное связано и сплетено множеством таких тонких корней с психическою природою каждого племени и с общими, сложившимися в нем началами нравственного миросозерцания, что невозможно отделить одно от другого. Разноплеменные и разноцерковные люди могут во многих отношениях при встрече во взаимном общении почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того чтобы они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собою в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски, и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он входит к нам, становится одним из наших, и общение его с нами полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по-книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать едино с нами по духу, этого и представить себя нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.
Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему приютно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когда подходишь к иной вере, несродной, несочувственной, что здесь - не то, что у нас; здесь неприютно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.
Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.
В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприютно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, он чувствует, что назвать этот храм своим для него все равно, что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.
В богословской полемике, в спорах между религиями, в совести каждого человека и каждого племени, один из основных вопросов - вопрос о делах. Что главное - дела или вера Известно, что на этом вопросе препирается доныне латинское богословие с протестантским. Покойный Хомяков в своих богословских сочинениях прекрасно разъяснил, до какой степени обманчива схоластически-абсолютная постановка этого вопроса. Объединение веры с делом, равно как и отождествление слова с мыслью, дела со словом есть идеал, недостижимый для человеческой природы, как недостижимо все безусловное... идеал, вечно возбуждающий и вечно обличающий верующую душу. Вера без дела мертва; вера, противная делам, мучить человека сознанием внутренней лжи, но в необъятном мире внешности, объемлющем человека, и пред лицом бесконечной вечности что значит дело или всяческие дела что значат без веры?
Покажи мне веру твою от дел твоих - страшный вопрос! Что на него ответить уверенному, когда спрашивает его испытующий, ищущий познать истину от дела? Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками. Но через минуту можно поднять голову и сказать: грешные мы люди и показывать нам нечего, да, ведь, и ты не праведный. Но приди к нам сам, поживи с нами: и увидишь нашу веру, и почуешь наше чувство, и, может быть, с нами слюбишься. А дела наши, какие есть, сам увидишь. После такого ответа девяносто девять из ста отойдут от нас с презрительной усмешкой. В сущности все дела только в том, что мы показывать дела свои против веры не умеем, Да и не решаемся.
А они показывают. И умеют показать, и правду сказать, есть им что показать, в совершенном порядке - веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения. Смотрите, - говорит католическая церковь, - что я значила и что значу в жизни того общества, которое меня слушает и мне служит, что я создала и что мною держится. Вот дела любви, вот дела веры, вот дела апостольства, вот подвиги мученичества, вот полки верные, как один человек, которые я рассылаю на концы вселенной. Не явно ли, что со мною и в нас благодать пребывает от века и доныне?
Смотрите, - говорит протестантская церковь, - я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум в соглашение с верой. Я освятила верою труд, житейские отношения, семейный быт, верою искореняю праздность и суеверие, водворяю честность, правосудие и общественный порядок. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое к жизни, воспитывает целые поколения в привычке к честному труду и в добрых правах. Человечество призвано обновиться учением моих - в добродетели и в правде. Я призвана искоренить мечом слова и дела, разврат и лицемерие повсюду. Не явно ли, что сила Божия со мною, потому что во мне истинное зрение на религию?
Протестанты доныне спорят с католиками о догматическом значении дела в отношении к вере. Но при совершенной противоположности богословского воззрения на этот предмет, и те и другие ставят дело во главу своей религии. Только у латинян дело служит в оправдание, в искупление, во свидетельство о благодати. Лютеране, с другой стороны, смотрят на дело, и в связи с делом на самую религию, с практической точки зрения. Дело как будто обращается у них в цель, для которой существует религия, становится оселком, на котором испытуется правда религиозная и церковная, и вот пункт, на котором, более чем на всяком другом, наша религиозная мысль расходится с религиозною мыслью протестантизма. Без сомнения, высказанное сейчас воззрение не составляет догматического положения в лютеранской церкви, но им проникнуто все ее учение. Бесспорно, в нем есть весьма важная практическая сторона, для здешней жизни, для мира сего; и оттого многие даже у нас готовы иногда ставить нашей церкви в образец и в идеал церковь протестантскую. Но русский человек, в глубине верующей души, не примет никогда такого воззрения. Благочестие на все полезно и по апостольскому слову; но это лишь одна из естественных принадлежностей благочестия. Русский человек не менее другого знает, что жить должно по вере, и чувствует, как мало сходна с верою жизнь его; но существо и цель веры своей полагает он не в практической жизни, а в душевном спасении, и любовью церковного союза ищет обнять всех - от живущего по вере праведника до того разбойника, который, несмотря на дела, прощен был в одну минуту.
Это практическое основание протестантизма нигде не выражается так явственно, как в церкви англиканской и в духе религиозного воззрения английской нации. Оно и согласуется с характером нации, выработавшимся в ее истории - направлять мысль и деятельность повсюду к практическим целям, стойко и неуклонно добиваться успеха и во всем избирать те пути и способы, которые ближе и вернее ведут к успеху. Это природное стремление необходимо должно было искать себе нравственной основы, выработать для себя нравственную теорию; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцию в соответствующем известному характеру религиозном воззрении. Религия бесспорно освящает нравственное начало деятельности, учит, как жить и действовать на земле, требует трудолюбия, честности, правды. Нельзя не согласиться с этим положением. Но от этого положения практический взгляд на религию прямо переходит к вопросу: что же за религия у того, кто живет в праздности, нечестен и лжив, развратен, беспорядочен, не умеет поддержать себя? Такой человек язычник, а не христианин: лишь тот христианин, кто живет по закону и являет в себе силу закона христианского.
Рассуждение, по-видимому, логически правильное. Но у кого не шевелится в душе вопрос; как же быть на свете и в церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову Христову, предваряют нередко церковных праведников в царствии Божием?
Разумеется, странно было бы предполагать, что такой взгляд на религию составляет положительную формулу церковного верования в Англии. Такая формула была бы явным отрицанием евангельского учения. Но таков именно дух религиозного воззрения у самых добросовестных и ревностных представителей так называемого "национального церковного учреждения", отстаивающих и восхваляющих англиканскую церковь как первую твердыню государства и как основное выражение духа национального. В английской литературе, как в духовной, так и светской, это воззрение выражается иногда в весьма резких формах, в таких словах, перед коими останавливается с недоумением, похожим на ужас, мысль русского читателя.
Есть сочинение замечательное по глубине и основательности мысли, написанное человеком, очевидно, верующим, глубоко и ревностно преданным своей церкви. Вот что здесь сказано, между прочим, о религии.
"Некоторые религии, очевидно, неблагоприятны чувству общественного долга. Иные не имеют никакого к нему отношения, а из тех религий, которые ему благоприятствуют (таковы в большей или меньшей мере все формы христианской веры), одни действуют на него с особенною, другие с меньшей силой. Можно сказать, что всего могущественнее действуют в этом смысле те религии, в коих господствует над всем образ бесконечно мудрого и могущественного законодателя. Его личное бытие неисследимо для человеческого разума; но он сотворил мир таким, каков есть мир, сотворил его для рода людей благоразумных, твердых и смелых духов и устойчивых; для тех, которые сами небезумны и нетрусливы, и не очень жалуют безумных и трусов, знают твердо, что им нужно, и с решимостью употребляют все законные средства, чтобы того достигнуть. Такая-то религия составляет безмолвное, но глубоко укоренившееся убеждение английской нации, в лучших, солиднейших ее представителях. Они представляют наковальню, о которую избилось уже множество молотов, и изобьется еще того больше, не взирая ни на каких энтузиастов и гуманитарных мечтателей". Вот до какого понятия о религии может дойти мысль уверенного англиканца - протестанта. Выписанные слова в сущности содержат в себе прямое извращение евангельского слова; они как будто говорят: блаженны крепкие и сильные в деле - им принадлежит царство. Да, скажем мы, царства земное, но не царство небесное. Автор не делает этой оговорки, но не различает земного от небесного. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!
Такое настроение религиозной мысли бесспорно имело в протестантских странах, и особенно в Англии, величайшее практическое значение, и в этом смысле нельзя не согласиться, что протестантств было сильным и благодетельным двигателем общественного развития у тех племен, коих натуре оно соответствовало, и которые его приняли. Но не очевидно ли, вместе с тем, что некоторые племена по своей натуре, никак не могут принять его и ему подчиниться, потому что именно в этом воззрении протестантства не чувствуют жизненного религиозного начала, видят не единство, а раздвоение религиозного сознания, не живую истину, а конструкцию мысля и обольщение.
"Горе слабым и падающим! Горе побежденным"! Конечно, здешней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говорит каждому: борись, входи в силу и держи в себе силу, если хочешь жить; слабому нет места на свете. Но придавая этому правилу безусловную, как бы догматическую силу религиозном смысле - вот чего наша душа не принимает, как не принимает она сродного протестантству ужасного кальвинского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе к спасению и блаженству, а другие от века осуждены, и что бы ни делали в жизни, все влечет их в бездну отчаяния и вечных мучений.
Страшно читать иных английских писателей, у которых с особенной силой звучит эта струна англиканского протестантизма. У Карлейля, например, доходит до восторженного пафоса поклонение силе и таланту победителя и презрение к побежденным. Созерцая своих героев, сильных людей, он чествует в них воплощение божественного и с тонким презрительным юмором говорит о тех слабых и несчастных, неловких и падших, которых раздавила победная колесница. Его герой воплощает в себе идею света и порядка, в мраке и неустройстве космического хаоса; его герой строит свою вселенную, и все, что встречается ему на дороге К не умеет ему покориться и служить ему, и не имеет своей силы чтобы побороть его, погибает достойно и праведно. Громадный талант Карлейля обворожает читателя, но тяжело читать его исторические поэмы и видеть, как часто имя Божие применяется им всуе в борьбе сильного со слабыми. У язычников классического периода и у тех возле победной колесницы шел иногда шут, который, служа представителям нравственного начала, должен был преследовать своими шутками не побежденных, а самого победителя.
Всего тяжелее читать Фруда, знаменитого историка английской реформации и самого видного между историками представителя английских национальных начал в церкви и в политике. Карлейль, по крайней мере, поэт; но Фруд говорит спокойным тоном историка, любит диалектику и нет беззакония, которого не оправдал бы он своей диалектикой в пользу любимой идеи; нет лицемерия, которого не построил бы он вправду, доказывая правду реформы и главных ее деятелей. Он стоит непоколебимо, фанатически, на основах англиканского правоверия, и главною основою его полагает сознание долга общественного, преданность государственной идее и закону, и неумолимое преследование порока, преступления, праздности и всего, что называется изменою долгу. Все это прекрасно в деле человеческом; но каково ставить такое правило в основание и цель религиозного воззрения, если подумаешь, что каждому из этих священных слов - и долгу, и закону, и пороку, и преступлению каждая партия в каждую минуту придает особенное значение, и что между людьми сегодня называют правдою и доблестью, за что завтра казнят, как за ложь и преступление. Для милости, для сострадания не остается места в веровании Фруда: как можно согласить милость с негодованием на то, что считается пороком, преступлением, нарушением закона? Упоминая о страшных казнях, которым подвергались в ту пору так часто и невинные наравне с виноватыми, строгий судья человеческих дел так говорит о своем народе: "Англичане - строгий и суровый народ, они не знают сострадания там, где нет законной причины допустить сострадание; напротив того, они исполнены священного и торжественного ужаса к злодеянию - чувство, которое по мере своего развития в душе необходимо закаливает ее и образует железный характер. Строгого нрава человек склонен к нежности тогда лишь, когда остается еще место добру посреди зла, и добро еще борется со злом; но в виду совершенного развращения и зла никакое сострадание немыслимо; оно возможно разве только тогда, когда мы в своем сердце смешиваем преступление с несчастием".
Какое презрение должен чувствовать автор к русскому человеку, у которого подлинно есть в душе такое смешение, и который искони называет преступника несчастным.
Как личный характер, как характер племени, так и характер каждой церкви, в связи с усвоившим ее племенем, иметь и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились в истории германского и англосаксонского племени. Пуританский дух создал нынешнюю Британию. Протестантское начало привело Германию к силе, к дисциплине и к единству. Но на оборотной стороне его есть такие недостатки, такие стремления Религиозного самосознания, которые не могут быть нам сочувственны. Протестанство - как всякая духовная сила - склонно к падению именно в том, в чем полагает свои коренные духовные основы. Стремясь к абсолютной правде, к очищению верования, к осуществлению верования в жизни, оно слишком склонно уверовать в собственную правду и увлечься до гордого поклонения своей правде и до презрения к чужому верованию, которое отождествляет с неправдою. Отсюда, с одной стороны, опасность впасть в лицемерие и фарисейскую гордость. И подлинно, немало слышится из протестантского мира голосов, которые с горечью сознают, что лицемерие составляет язву строгого лютеранства. С другой стороны, начав с проповеди о терпимости, о свободе мысли и верования, протестантство в дальнейшем развитии своем выказало склонность к фанатизму особого рода, к фанатизму гордого разума и самоуверенной праведности перед всеми прочими видами верования. Строгий протестантизм с презрением относится ко всякому верованию, которое представляется ему неочищенным, недуховным, исполненным суеверий и внешних обрядностей, ко всему, что он сам отбросил, как рабские узы, как детскую одежду, как принадлежность невежества. Создав для себя сам кодекс верований и обрядов, он считает свое исповедание исповеданием избранных, просвещенных и разумных, и всех держащихся старой церкви склонен считать людьми низшего рода, неумеющими возвыситься до истинного разумения. Это презрительное отношение к прочим верованиям, может быть, несознательно выражается в протестантстве; но оно слишком ощутительно для иноверцев. Никакая религия не свободна от большей или меньшей склонности к фанатизму; но. смешно слышать, когда с обвинением в фанатизме обращаются к нам лютеране. У нас при терпимости ко всякому верованию, свойственной национальному характеру нашему, встречаются, конечно, отдельные случаи исключительности и узкости церковных воззрений, но никогда не бывало и не может быть ничего подобного тому презрению, с которым строгий лютеранин смотрит на непонятные для него, но для нас исполненные глубокого духовного значения принадлежности нашей церкви и свойства нашего верования.
II
Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англосаксонского и, например, русского племени. В английской церкви, сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки как я рад, что родился и живу в России. У нас в церкви можно забыть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием, перед лицом Бога. Наша церковь большею частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что, входя в нее, последний нищий чувствует, совершенно так же, как и первый вельможа, что это его церковь. Церковь - единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!) где последнего бедняка в рубище никто не спросит: зачем ты пришел сюда, и кто ты такой? где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади.
Здесь - войдите в церковь, посмотрите на церковное собрание. Оно благоговейно, оно, может быть, торжественно; но это - собрание леди и джентльменов, из которых каждое лицо имеет свое место, ему особливо присвоенное; а богатые люди и знатные в своем околотке имеют места отделенные и украшенные, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться от мысли, что церковное собрание здесь лишь видоизменение общественного собрания, и что в нем есть место только так называемым в обществе "порядочным людям"? Все молятся по своим книжкам, но как у каждого в руках своя книжка, так видно, что каждый желает быть и перед Богом сам по себе, не теряя своей индивидуальности. Говорят, что в последние 20-30 лет совершилась еще в этом отношении заметная перемена: места в церквях большею частью открытые, т. е. не отгороженные наглухо, и доступ к ним стал свободнее, чем прежде; а в прежнее время, особливо в провинции, и места в церквах устраивались закрытыми или отдельными стойками так, чтобы владелец каждого места мог молиться спокойно, уединенно, не смущаясь никаким соседством. Как ясно отражается в этом расположении церковном история здешнего феодального общества, и самая история здешней церковной реформы! Nobility и gentry составляют все и все ведут за собой, потому что всем обладают и все к себе притягивают. Все должно быть куплено или взято с бою, даже право иметь место в церкви. Самое священнослужение есть право известного рода, полагаемое в цену. Места пасторские, с правом на известный доход или окладное содержание, составляют в Англии принадлежность вотчинного права, патронатства, и выбор на место составляет достояние или частных землевладельцев, или короны, в силу не столько государственного, сколько феодального владельческого права. Оттого и пастор посреди народа, независимо от народа назначенный и независящий от народа в своем содержании, является среди народа тоже в виде князя, свыше поставленного. Церковная должность прежде всего представляется привилегией и достоянием; и стыдно сказать: это достояние служит предметом торга. Места главных священников могут быть сдаваемы за известную цену, сложенную из капитализации дохода, так же как сдаются места стряпчих, нотариусов, маклеров и т. п. В любой английской газете, в особом отделе объявлений о так называемых preferments, вы встретите ряд предложений купить место священника, с описанием доходных статей: расхваливается место с его удобствами для жизни, описывается дом, местоположение, означается доход и предлагается цена с предуведомлением, о нынешний incumbent стар, таких-то лет и, вероятно, недолго будет пользоваться своим положением. Для переговоров указано обращаться туда-то. В Лондоне издается даже особенный журнал с подробным описанием всех статей, угодий и доходов каждого места для сведения и расчета желающих получить его за известную сумму.
Говорят, что в политическом смысле благодетельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе как с бою. Может быть, всякое иное, только никак не право на молитву общественную в церкви. Не мудрено, что совесть общественная не может удовлетвориться таким церковным устройством, и что Англия страна установленной государственной церкви, классическая страна ученого богословия и прений о вере, стала со времени реформы страною диссентеров всякого рода. Религиозная и молитвенная потребность в массе народной, не находя себе места и удовлетворение, в установленной церкви, стала искать исхода в вольных самоуставных церковных собраниях и в разнообразных сектах. Деление церковного обряда здесь непомерное между жителями самого незначительного местечка. Самая установленная церковь делится на три партии, и сторонники каждой из них (так называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имеют обыкновенно свою церковь и не ходят в чужую. В небольшой деревне, где не более 500 человек постоянного населения, существует нередко три церкви англиканские и, кроме того, три церкви методистов трех разных; толков, которые, различаясь в очень тонких и капризных подробностях, отрешаются от общения между собой. Особливая церковь -для первоначальных или Веслеевых методистов, потом для конгрегационистов, потом для так называемых библейских христиан: последние те же методисты, но отделились несколько лет тому назад только из-за того, что полагают, в несогласии с прочими, невозможным иметь женатых в звании церковных евангелистов. Вот сколько церквей - и капитальных, красивых и обширных церквей в одной деревне! Все эти секты и собрания отличаются особенностями вероучений, иногда очень тонкими и капризными, или совсем дикими; но помимо догматических разностей, во всех выражается одно и то же стремление к вольной всенародной церкви, и многие из них проникнуты ожесточенною ненавистью к установи ленной церкви и к ее служителям. Кроме отдельных сект посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партия во имя вольного церковного общения. Частные люди и отдельные общества употребляют свои средства; для доставления простому народу возможности участвовать в богослужении: для этого приходится строить отдельные церкви или нанимать отдельные помещения, театры, сараи, залы и т. п. Все это движение произвело уже ощутительную реакцию в обычаях самой установленной церкви, побудив ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здесь приходится брать с бою то, что у нас; от начала вольно, как воздух, которым мы дышим?
Как часто случается у нас в России слышать странные речи о, нашей церкви от людей, бывавших заграницей, читавших иностранные книги, любящих судить красно с чужого голоса, или просто; от людей наивных, которые увлекаются идеальным представлением мимо действительности. Эти люди не находят меры похвалам англиканской или германской церкви и англиканскому духовенству, не находят меры осуждения нашей церкви и нашему духовенству. Если верить им - там все живая деятельность, а у нас мертвечина, грубость и сон. Там дела, а у нас голая обрядность и бездействие. Немудрено, что многие говорят так. Между людьми ведется, что по платью встречают человека. Говорят: по уму провожают, но, чтоб узнать ум и почувствовать дух, надо много присмотреться и поработать мыслью, а по платью судить нетрудно. Составишь себе готовое впечатление и так потом при нем и останешься. Притом есть много людей, для которых первое дело, первый и окончательный решитель впечатления - внешнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. В этом отношении, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы в английской церкви, есть о чем иногда печалиться в нашей. Кому не случалось встречать светское, а иной раз, к сожалению, и духовное лицо, из бывших заграницею, с жаром выхваляющее здешнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую "за незрелость". Грустно бывает слушать такие речи, как грустно видеть сына, когда он, прожив в фешенебельном кругу, посреди всех тонкостей столичной жизни, возвращается в деревню, где провел когда-то детство свое, и смотрит с презрением на неприхотливую обстановку и на простые, пожалуй, грубые обычаи родной семьи своей.
Мы удивительно склонны по натуре своей увлекаться прежде всего красивой формой, организацией, внешней конструкцией всякого дела. Отсюда - наша страсть к подражаниям, к перенесению на свою почву тех учреждений и форм, которые поражают нас заграницей внешнею стройностью. Но мы забываем при этом или вспоминаем слишком поздно, что всякая форма, исторически образовавшаяся, выросла в истории из исторических условий и есть логический вывод из прошедшего, вызванный необходимостью. Истории своей никому нельзя ни переменить, ни обойти; и сама история, со всеми ее явлениями, деятелями, сложившимися формами общественного быта, есть произведение ,духа народного, подобно тому, как история отдельного человека есть в сущности произведение живущего в нем духа. То же самое сказать должно о формах церковного устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, на которой она выросла; часто прельщаемся мы формой, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видели, то иной раз не задумались бы отвергнуть готовую форму при всей ее стройности, и с радостью остались бы при своей старой и грубой форме, или бесформенности, пока своя у нас духовная жизнь не выведет свою для нас форму. Дух, вот что существенно во всяком учреждении, вот что следует охранять дороже всего от кривизны и смешения.
Наша церковь искони имела и доныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безличного общения. Верою народ наш держится доныне посреди всех невзгод и бедствий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная. Нам говорят, что народ наш невежда в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек; что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, принижено и мало имеет влияния н народ. Все это во многом справедливо, но все это явления не существенные, а случайные и временные. Они зависят от многие условий и прежде всего от условий экономических и политических, с изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Чт же существенно? Что же принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие церкви как общем достоянии и общем собрании, полнейшее ус ранение сословного различия в церкви и общение народа со служит лями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяют ни в житейском быту, ни в добродетелях, ни в самых недостатках с народом и стоят и падают. Это такое поле, на котором можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько об улучшении быта, сколько об улучшении духа, не столь о том, чтобы число церквей не превышало потребности, сколько о том, чтобы потребность в церкви не оставалась без удовлетворения. Нам ли зариться с завистью, издалека и по слуху, хотя бы на протестантскую церковь и ее пастырей? Избави нас Бог дождаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут князьями посреди людей своих в обстановке светского человека, в усложнении птребностей и желаний посреди народной скудости и простоты.
Вдумываясь в жизнь, приходишь к тому заключению, что у каждого человека, в ходе его духовного развития, всего дороже всего необходимее сохранить в себе неприкосновенным простое природное чувство человеческого отношения к людям, правду и свободу духовного представления и движения. Это - неприкосновенный капитал духовной природы, которым душа охраняется обеспечивается от действия всяких чиновных форм и искусственных теорий, растлевающих незаметно простое нравственное чувство. Как ни драгоценны во многих отношениях эти формы и теории они могут, привившись к душе, совсем извратить и погубить в не простые и здравые представления и ощущения, спутать понятие правде и неправде, подточить самый корень, на котором вырастает здоровый человек в духовном отношении к миру и к людям. Вот что существенно, и вот, что мы так часто убиваем в себе из-за форм, совсем не существенных, которыми обольщаемся. Сколько из-за этого пропадает у нас и людей и учреждений, фальшив извращенных фальшивым развитием, а между тем в церковном учреждении всего для нас дороже этот корень. Боже избави, чтобы и он когда-нибудь не был у нас подточен криво поставленной церковной реформой.
III
Протестанты ставят нам в упрек формальность и обрядность нашего богослужения; но когда посмотришь на них обряд, то невольно отдаешь и в этом отношении предпочтение нашему обряду. Чувствуешь, как наш обряд прост и величествен в своем глубоком, таинственном значении. Священнослужитель поставлен в нашем обряде так просто, что от него требуется только благоговейное внимание к произносимым словам и совершаемым действиям; в устах его и через него священные слова и обряды сами за себя говорят - и как глубоко и таинственно говорят душе каждого и соединяют все собрание в одну мысль и в одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человек может, не подстраивая себя, не употребляя искусственных усилий, совершать молитвенное действие и вступить в молитвенное общение со всей церковью. Протестантский молитвенный обряд при всей наружной простоте своей требует от священнослужителя молитвенного действия в известном тоне. Оттого в этом обряде только глубоко духовные или очень талантливые люди могут быть просты; остальные же, т. е. огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибегать к аффектации, которая именно в протестантских храмах чаще всего встречается и производит на непривычного человека тягостное впечатление. Когда видишь проповедника, как он, стоя посреди храма, лицом к размещенному чинно на скамьях собранию, произносит молитвы, воздевая глаза к небу, сложив руки в известный всеми употребляемый вид, и придает своей речи неестественную интонацию, становится неловко за него; думается, как должно быть ему неловко! Еще ощутительнее становится неловкость, когда, окончив обряд, он всходит на кафедру и начинает свою длинную проповедь, оборачиваясь от времени до времени назад, чтобы выпить из стакана воды и собраться с духом. И в этой проповеди редко случается слышать действительно живое слово, когда проповедник действительно духовный человек или талант. Говорят большею частью работники церковного дела, чрезвычайно натянутым голосом, с крайнею аффектацией, с сильными жестами, поворачиваясь из стороны в сторону, повторяя на разные лады общие, всеми употребляемые фразы. Даже, когда читают по книге, что нередко случается, они прибегают к известным телодвижениям, интонациям и расстановкам. Нередко случается, что проповедник, произнося некоторые слова и фразы, кричит и ударяет кулаком по кафедре, чтобы придать выразительность своей речи... Здесь чувствуешь, как верно применилась наша церковь к природе человеческой, не поместив проповеди в состав богослужебного обряда. Весь наш обряд, сам по себе, составляет лучшую проповедь, тем более действительную, что всякий принимает ее не как человеческое, а как Божие слово. И церковный идеал нашей проповеди как живого слова есть учение веры и любви, от божественных писаний, а не возбуждение чувства, как необходимое действие каждого священнослужителя на собравшихся в церковь для молитвы.
IV
Говорят, что обряд - неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обрядов выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни, та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения, действе этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее предрассудку, значило бы то же, что отрицать силу сродства, действующую в личных между людьми отношениях.
Как знаменательна, например, у разных народов разница огребальном обряде и в обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас в России характера народная черта - религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения. Из глубины веков отзывается до нашего времени, исполненный поэтических образов движений, плач над покойником, превращаясь, с принятием нова религиозных обрядов, в торжественную церковную молитву. Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим наш натуре, мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружав их торжественною тишиною молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждой и благоговейной верой. Мы не бежим своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу вглядеться в черты духа, оставившего свое жилище; покланяемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с моление с церковной молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением, и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершает вокруг него великое церковное торжество в самую торжественна минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души! Но иностранец редко понимает ее, потому что она - совсем ему чужая. У нас чувство любви пораженное смертью, расширяется в погребальном обряде; у него оно болезненно сжимается от того же обряда и поражается одним ужасом.
Немец-лютеранин, живший в Берлине, потерял в России горячо любимую сестру православную. Когда он приехал к нам накануне погребения и увидел любимую сестру, лежащую в гробе, ужас поразил его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговения уступило в нем место отвращению, с которым он присутствовал при прощании с мертвым телом и должен был сам принять в нем участие... В этом, как и во многом другом, немец не может понять нас, покуда не поживет с нами и не войдет в глубину духовной нашей жизни. От этой же, кажется, причины ничто столько не возмущает лютеранина в нашей церкви, как поклонение св. мощам, которое для нас самих, но природе нашей, кажется так просто и естественно, когда мы и своим покойникам кланяемся и их тело обнимаем и чествуем в погребении. Он, не живя нашею жизнью, не видит в этом чествовании ничего, кроме дикого суеверия, а для нас - это движение и дело любви, самое природное и простое.
Трудно ему понять нас, так же как нам дико и противно слышать о возникшей недавно в германском и в английском обществе агитации, требующей введения нового погребального обряда. Они хотят, чтобы мертвые не предавались земле, а сожигались в особо устроенных печах, и требуют этого с утилитарной и гигиенической точки зрения. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счет частных лиц усовершенствованные печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожигание... Голоса растут, крики усиливаются во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Из какого дальнего мира, из какого быта доносятся до нас эти звуки - и какой этот мир чужой для нас, какой неприютный и холодный! Нет, не дай Бог умереть в том краю, на чужбине, вдали от матери сырой земли русской!
V
Кто русский человек - душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.
Православная церковь красна народом. Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и народом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке народ молится по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем но как будто не содействует ему общей молитвой. Обряд не говорит нашему чувству, и мы чувствуем, что красота, какая может бы в нем, не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически разложенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы одежды - неблагообразными; звуки церковного речитатива - нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в котором не распознаешь слов, - не гимном народного собрания, не воплем, льющимся из души, но концертом, искуственно устроенным, который покрывает собою богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине. То ли дело у нас: вот красота неописанная, красота, понятная русскому человеку, красота, за которую он душу готов положить, так он ее любит. Русское церковное пение как народная песнь льется широкою, вольною струе из народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняет музыка новых композиторов и справляется обиход по новь официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустроенном монастыре, или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, как широким, вольным потоком выливается праздничный ирмос из русской груди, какой торжественный поэмой выпевается догматик, слагается стихира с канонархом, каким одушевлением радостью проникнут канон Пасхи или Рождества Христова. Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании как блестит оно в поднятых взорах, носится над склоненным головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человеку знакомы с детства и слова, и напев и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение стройно истовое - действительно праздник русскому человеку, и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражается в ней, даже при воспоминании о том или другом моменте; это русская душа привыкшая к церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее послышится песнь пасхального или рождественского канона, с мыслью о светлой заутрене, или любимый напев праздничного ирмоса, или "Всемирная слава" с ее потрясающим "Дерзайте". Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт, что им
...без волненья
Внимать невозможно...
Не встретить ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово,
Но в храме, средь боя,
И где я ни буду,
Услышав его, я
Узнаю повсюду...А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил и каждый носит в себе... Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней, и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародной молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.
Что же сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?
Увы! не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен, повинен ленивый и несмыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, по местам, скудость и беспомощность народная. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успеет вывести заброшенную церковь в свете благолепия и пения. Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов... Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже ныне немало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на "образование народное", на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается прежде, чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных Учреждений.
То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она - живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отрадно. В ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая от мала до велика веселится и радуется, и празднует от тяжкой страды; в ней и белому и серому человеку, и богатому и бедно одно место. Разукрашена она паче царской палаты - дом Божий а всякий из малых и бедных стоит в ней, как в своем дому; каждый может назвать церковь своею, потому что церковь на народи рубли и, больше того, на народные гроши строена и народ держится. Всем в ней приют и молитва с утешением, и то учен которое дороже всего русскому человеку. Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом деле ошибается и дает верно и свято на верное и святое дело.
Публикуется по: Московский сборник. Издание К.П. Победоносцева,
пятое, дополненное. М: Синодальная типография, 1901
Православная беседа >> Библиотека >> Победоносцев К.П. 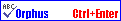
На правах рекламы: