|
|
Вселенские Соборы
IV Вселенский собор 451 г.
в Халкидоне
- IV Вселенский собор 451 г. в Халкидоне
- Конец Нестория
- Халкидон (451 г.)
- Победа 28-го правила Халкидонского собора в истории
- Халкидонская проблема в понимании русских мыслителей
- Монофизитство Востока после Халкидона
- Волнения в Палестине
- B Египте
- Перемены на троне и шатания императоров
- Императоры Зинон (474-491 гг.) и Василиск (475-476 гг.). 1-е отступление от Халкидонского собора
- Энкиклион (475 г.)
- Падение Василиска и возвращение Зинона (476 г.). Поворот к Халкидону
- Второе отступление от Халкидона
- Энотикон (Ενωτικον)
- 35-летнее разделение церквей (484-519 гг.) из-за Энотикона
- Рост монофизитства в Константинополе. Севир
- Конец 34-летнего раскола с Римом (484-518 гг.)
- Конец разрыва
- Движение монахов-скифов
- Первый приезд римского папы в Константинополь
IV Вселенский собор 451 г. в Халкидоне
Но... террор сверху кончился вместе со скоропостижной смертью императора Феодосия II. Он внезапно умер, упав с лошади на охоте. Детей не оставил. Ближайшей наследницей оказалась его сестра Пульхерия. Синклит (сенат) признал ее. Пульхерия решительно взялась за власть. И прежде всего свергла диктатуру Хрисафия над ее покойным братом. Она казнила Хрисафия. Пульхерия не считала возможным одной удержать власть в своих руках и предложила сенатору Маркиану формально вступить с нею в брак на условии, что она по-прежнему останется девицей. Она провозгласила его императором и сама облекла его властью. До сих пор существовал светский языческий обряд коронования — надевание венца на наследника или новоизбранного императора. Пульхерия пожелала оцерковить этот акт. Она попросила архиепископа Анатолия Константинопольского в 450 г. церковно короновать Маркиана.
Это был первый в византийской истории акт церковного венчания императора. И в него, вероятно, тогда же вошел и библейский обряд миропомазания.
Терроризованная раньше Хрисафием, Пульхерия скрывала свои симпатии и к Флавиану, и к папе Льву. Теперь все изменилось. Останки Флавиана были торжественно привезены в Константинополь и погребены в церкви 12 апостолов. Все сосланные Диоскором возвращены. Евтих удален из Константинополя за город, под надзор. Малодушные епископы сами начали приносить покаяние в том, что они на Диоскоровом соборе "подчинились насилию" (!!). Анатолий был вынужден любезно принять римских легатов и подписать томос папы Льва (!). Максим Антиохийский — тоже (!). Не хотели расставаться с властью. В Рим к папе Льву сыпались заявления "покаявшихся". Диоскор, начав с непризнания в Александрии Маркиана императором, продолжал еще думать о возврате своего триумфа.
Фанатик до границ безумия, Диоскор отягчил свое положение еще тем, что в момент воцарения Пульхерии, по свидетельству современников, "он выдавал себя за такого же правителя "икумени", как и василевс Константинопольский, сам хотел царствовать над диоцезом Египта, заявляя, что этот диоцез принадлежит скорее ему, чем императору".
Это было политически неумно, как неумно было и его "разбойничье" соборование 449 г. Новое правительство не сделало из Диоскора политического мученика. Но оно использовало его в роли козла отпущения за религиозную политику Феодосия II. Двор не мог заявить об ошибке и преступлении "императора". Виновен был во всем, "конечно", один Диоскор (!!).
Анатолий, изменив Диоскору, продолжал приводить всех участников Ефесского "разбоя" к подписи томоса папы Льва. И папе Льву начинало казаться, что все устроилось без всякого собора. Тем более что Запад был поглощен нашествием гуннов. Аттила интересовал "западных" больше, чем какой-то Евтих. 451 год был годом Каталаунской битвы против гуннов (Châlon sur Marne).
A на Востоке билось "свое восточное" сердце. В Константинополе считали, что без собора нельзя "обревизовать" весь епископат. Нельзя сокрушить Диоскора и его партию (немалую). Кроме того, нужно наконец установить формулу христологического догмата, раз она уже найдена. Иначе споров опять не избежать. Решено было собрать собор наибольшего количества епископов в знаменитой Никее.
Горький курьез истории, что так же точно думал и Несторий. Он умер как раз в 451 г. после созыва Халкидонского собора и до его открытия.
Как и вся жизнь Нестория, по удачному выражению его друга Иринея, есть "трагедия", так и конец его драматичен до фееричности. Новооткрытые материалы об его конце положительно ждут своего историка-романиста.
Мирное житие Нестория в Великом Оазисе Каргех, в частности в городе Хибе, было катастрофически нарушено набегом и разорением варваров — нобадов, пришедших с верховьев Нила. Нобады в толпе пленников захватили и Нестория. Но, утрожаемые своими конкурентами по грабежам, именно племенем мазиков, нобады бросили пленников и поручили их интеллигентному водительству Нестория. Приказали им идти в Нильскую долину. В сущности, это было освобождением. Каждый стал спасаться, как мог. Осталась, однако, с Несторием группа, которая добралась до города Панополиса (Ахмин). Здесь Несторий пробыл несколько лет, укрываясь в одном очень жарком местечке и опасаясь мести со стороны фанатичного монашеского вождя Шнуди, обитавшего поблизости. Несторий писал губернатору Фиваиды, объясняя, что из места ссылки он выгнан был насильственно, а здесь просит защиты властей, чтобы не пришлось ему говорить, что в руках варваров его существование было более обеспечено, чем под культурной властью Римского государства. Но Диоскор и Хрисафий (тогда еще в силе), узнав о судьбе Нестория, присудили его к ссылке в верхний Египет в Елефантину (Ассуан), на границу (своего рода Сибирь). Оттуда вскоре приказано снова вернуть его в Панополис. Вернулся туда старик уже полуразбитый. На пути упал с осла и поломал себе руку и ребра. Отсюда его выслали еще в новое, пятое место ссылки, а оттуда погнали в шестое, хотели "загонять". И "крепкий" старик еще в этом — шестом месте ссылки не бросал пера, дописывал свою апологию — памятник, известный историку Евагрию, но для нас только что открытый на сирском языке и изданный лишь в 1910 г. в Германии в переводе Беджана и по-французски при его же сотрудничестве аббатом Но (F. Nau. Paris, 1910). Еще по рукописному переводу в 1908 г. Бетюн-Бэкэр издал исследование "Nestorius and his Teaching", в котором доказывал, что Несторий был православным и осуждение его было ошибкой. Действительно, сочинение Нестория (это большой том в 300 страниц) дает свежий материал для пересмотра вопроса о Нестории. Оно ясно освещает субъективную точку зрения Нестория на все его дело.
Сочинение Нестория по-сирски носит заглавие "Тегурта Гераклидис". Это можно перевести: "Коммерция Гераклида". Бетюн-Бэкэр перевел: "The Bazaar of Heraclides". Но это, вероятно, передача греческого слова "πραγματεία", что означает торговый договор, трактат. Отсюда и просто "трактат" в литературном смысле: "Πραγματεία περι = трактат о..." Ираклид Дамасский — это псевдоним. Имя Нестория обрекло бы книгу на сожжение. В книге представлен диалог между Несторием и Софронием. Последний псевдоним явно скрывает Кирилла Александрийского. В диалоге подвергнуты критике акты Ефесского собора 431 г. и много других писаний Кирилла. Приводится и примирительный акт 433 г. Затем Несторий откликается на те сведения, которые дошли до него о деле Евтиха и Флавиана, о позорном триумфе Диоскора в Ефесе 449 г., о смерти Флавиана, о вмешательстве папы Льва, о смерти Феодосия II и о новом курсе при Пульхерии и Маркиане. Последний факт, неизвестный нам из других источников, — это попытка Диоскора убежать от ссылки. A в ссылку, как мы знаем, Диоскор все-таки был увезен уже после Халкидонского собора, именно в Гангры Пафлагонские. О Халкидонском соборе Несторий уже не говорит. Его перо остановилось раньше получения сведений об актах собора.
Мы знаем, что Нестория навестил в оазисе Павел, епископ из Сирии, низложенный потом Диоскором в Ефесе. При кончине Нестория при нем находился верный друг его, ссыльный епископ Дорофей Маркианопольский. Вот пути, какими осведомлялся Несторий. Он был в восторге от томоса папы Льва и не написал ему только потому, чтобы своей перепиской не повредить авторитету папы. Но Несторий написал письмо жителям Константинополя, выражая свою солидарность с Флавианом и папой Львом. Тут он осуждает и анафематствует Евтиха, критикует суждения некоторых "несториан" и аполлинаристов. Это письмо подало повод в Константинополе добиваться, чтобы Несторий был приглашен на Халкидонский собор. Спустя несколько десятилетий Александрийский патриарх Тимофей Элур сообщает нам, будто в этот момент к Несторию в местность около Ахмина (Панополиса) прибыл посланец от императора Маркиана и объявил Несторию, а вместе с ним и Дорофею Макрианопольскому, что они теперь не должны бояться преследований своих врагов. Захария Схоластик прибавляет к этому, что изгнанники даже выехали в путь. Куда? Как бы к себе, в родные пределы. Но падение с лошади ускорило смерть Нестория. Несторианские биографы рисуют этот момент как начало полной реабилитации Нестория и что лишь смерть помешала ему испытать торжество. Биографы яковитские (монофизиты), наоборот, рисуют этот момент как авантюрную попытку Нестория вырваться из ссылки, причем его падение с лошади завершилось страшной смертью: выпадением языка и заполнением чрева убившегося червями...
Апология Нестория отражает его героическое убеждение, что из ссылки ему не вернуться, и потому он самоотверженно пишет: "Мое горячее желание — да будет благословен Господь небесе и земли! A Несторий пусть останется анафемой. Господу угодно, чтобы люди примирились с Ним, проклиная меня. Я не отказался бы зачеркнуть то, что я говорил, если бы я был уверен, что это нужно и что люди через это обратятся к Богу".
Таким образом, приветствуя Льва и Флавиана и анафематствуя себя, Несторий выполнял постановления и призывы Халкидонского собора.
В чем же ересь Нестория, его личная вина и ответственность? Что "несторианство" есть определившаяся христологическая ошибка и ересь, это не составляет никакого вопроса.
Сначала Нестория понимали и отождествляли с Павлом Самосатским. Это — явная ошибка. Полноту божества в Богочеловеке Несторий утверждал безусловно. Некоторые обвиняли его, что он утверждает "два Сына, два лица в Иисусе Христе". Этот уклон антиохийских авторитетов, Диодора и Феодора, по свидетельству Феодорита, чужд как ему, так и Несторию. В учении о Богородице Несторий допустил легкомысленное непонимание. Но это было до того, как церковь формально утвердила это слововыражение. Сомнения в точности термина "Богородица" подобны сомнениям "Востока" в термине "омоусиос" после Никейского собора.
Сам Несторий подписывался под богословием Льва и Флавиана. Что же? Значит, в этом его отождествлении себя с ними было какое-то недоразумение? Ибо ведь папа Лев сам и Вселенский собор в Халкидоне заявили об их несогласии с Несторием. Согласие не отрицалось в формуле: "две природы", но расхождение утверждалось в понимании "образа соединения" этих природ. Как они соединены? Еще во время Ефесского собора 431 г. Несторий признавал две природы соединенными в одном лице. A Кирилл — в одной ипостаси.
Все монофизиты (имеется много их разновидностей) считали, что они верно истолковывают Кирилла, когда, следуя ему, утверждают, что во Христе после соединения остается только одно естество, т.е. одна ипостась, т.е. одно лицо.
Дифизиты, т.е. православные, считая, что они правильно толкуют Кирилла, утверждали (так это было и в Халкидоне), что после соединения в Иисусе Христе — две природы, одна ипостась (как и у Кирилла) и одно лицо.
Несториане (тоже дифизиты) утверждали, что во Христе после соединения — две природы, две ипостаси (вопреки Кириллу и православным) и одно лицо. Кирилл для них монофизит уже благодаря тому, что он утверждает одну ипостась. Значит, здесь узел спора.
Конечно, в этом Кирилл непоследователен и сам по себе, и в подписании соглашения 433 г. B контексте писаний Кирилла его сама по себе православная формула "единая ипостась" освещается ложным монофизитским светом благодаря покорности его подложно-православной отраве аполлинаристов. То есть все это несчастная подделка: "...единая природа Бога-Слова воплощенная". Дух этой фальшивой формулы Кирилл и прячет, и консервирует в термине, который сам по себе правилен, — "единая ипостась". По Кириллу, это — единение по естеству, подобное единению души и тела в человеке. Такому единению Несторий противопоставлял единение не природное, а личное и "по благоволению". Это для того, чтобы Богу-Слову избежать страданий по природе человеческой, подобно тому как душа человеческая страдает по телу. Для Нестория единение "ипостасное" равнозначно единоприродному. A это — монофизитство.
В своей Апологии Несторий, снимая с себя грубые обвинения, сам нам проясняет, как бы невольно, за что же именно его осудили все, вплоть до Феодорита. Он две природы мыслит до того полными и действенными, что считает, что каждая из них не может не быть и ипостасной и личной, так что единое лицо (просопон) у него получается "из двух природ, из двух ипостасей и из двух лиц (!), соединенных в одно, в свободном (вольном) общении". В "Трактате Ираклида" Несторий придумал даже особый термин для этого "сложного лица": "Лицо единения (πρόσωπον της ενώσεως)", подчеркивая тем ипостасную полноту каждой природы, вплоть до особого ее (данной природы) лица. Вот за это разделение естеств современная Несторию церковь и отвергла его. Несторий, однако, своей апологией примиряет с собой лично и морально. Он кончает свое писание словами: "Возвеселися со мной, пустыня, подруга моя, прибежище и утешение мое, и ты, земля изгнания, мать моя, которая сохранит мое тело до дня воскресения". Друзей Нестория в Константинополе осталось еще достаточно, чтобы после вести о его смерти устроить пред дворцом достаточно шумную демонстрацию с требованием привоза останков Нестория в столицу. Император велел разогнать неуместную после Халкидонского осуждения манифестацию.
Что же именно уяснил для вселенского христианства Халкидон? Что сформулировал, чем залил пожар ересей, чем послужил церковному умиротворению, к чему свелось его догматическое достижение, его вселенское непреходящее значение?
Теперь, уже после полуторатысячного юбилея Халкидона, небезынтересно осмыслить наше живое отношение к его знаменитому, блестящему оросу, в котором взаимоотношение двух природ во Христе, Божественной и человеческой, выражено четырьмя отрицательными наречиями: "неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо". Как в математической формуле для непосвященного, тут не сказано ничего ясного. Но посвященные видят тут истинное чудо богословской премудрости, золотой ключ к сокровищнице тайн "благоразумия".
* * *
Как же церковь обрела этот ключ? Вот краткая схема событий. Метафизический эллинский гений с диалектической последовательностью стучался в двери тайн христианского откровения. Убедившись в IV в., в муках никейских и посленикейских чуть не столетних исканий, что Христос есть Истинный Бог, "Един сый Святые Троицы", неугомонная греческая мысль заболела в V в. до высочайшего воспаления дальнейшей думой о том, как же это не тварное, не конечное существо (как мы поем теперь, "ни ходатай, ни ангел, но Сам Господи воплощься") стало "плотью", т.е. человеком? Единосущный Отцу и Духу стал одно с иносущной Богу, с тварной, конечной и смертной человеческой природой?
- Может быть, произошло только мнимое соединение, только извне кажущееся таковым? На самом же деле это только тесное сближение, подлеположение двух цельных, параллельно живущих, лишь нравственно, объединенно, в свободном согласии функционирующих, двух полных разносущных лиц: Бога и человека с двумя умами (логосами), с двумя волями, мы сказали бы, с двумя рядом сосуществующими самосознаниями?
На такие рельсы встала Антиохийская богословская школа и докатилась на них до ереси несторианства.
- Или, может быть, Христос должен мыслиться как строго единое полное лицо? Но полнота его составлена из соответствующих частей разносущных природ: божеской и человеческой, — сложенных каждая на своем месте по плану единого составного лица. Значит, полнота единого лица достигнута путем неполноты каждой из двух природ. Во Христе — не весь Бог и не весь человек, а только части той и другой природы. На путь такой логики встал великий умник Аполлинарий, епископ Лаодикийский, создавший этим ересь аполлинарианства.
- A может быть, единство лица во Христе достигнуто без дробления на части вошедших в состав Его природ? Та и другая взяты каждая во всей ее полноте, но лишь в процессе их объединения произошло неизбежное исчезновение слабейшей природы в бесконечно сильнейшей. Человеческая природа поглощена, преображена божественной до полной ее экзистенциальной иллюзорности. Осталась лишь ее зримая плотскими очами тень земного человека без сущностной его реальности?
Эта последняя комбинация богословской мысли соблазнила не только александрийскую, типично эллинскую богословскую школу, уничижительно трактовавшую материю, но и миллионные массы инородческого для греко-римской империи африканского (копты, эфиопы) и азиатского (армяне, сирийцы) населения, расово-склонного к дуалистической вражде к материальному миру. Ультра аскетическое (до грани дуализма) благочестие "Востока" и племенной антиримский национализм — эти две стихии подсознательно соединились в единый дух самого широкого и живучего из еретических движений древности, именно движения монофизитского.
К моменту Халкидонского собора (451 г.) уже выступили на сцену истории все три указанных толкования христологического догмата, и над первыми двумя уже был произнесен обвинительный приговор церкви, как над ересями. Но опыт даже верховного авторитетного суда над ересями через вероопределения I, II и III вселенских соборов показал, что прямого, непосредственно успокаивающего воздействия на церковь эти вселенские вердикты не оказывали. Нужны были еще и репрессии государства, и всеисцеляющее время, и дополнительные объяснения между спорившими богословскими партиями.
Наивный провинциал Диоскор не хотел верить, что дворцовая революция свергла и его диктатуру. Как член местного диоцезального управления Египтом, он дерзнул даже не признавать законность нового императора Маркиана, но вскоре увидел свой промах. Еще вчера все и вся ему покорялось, — и вдруг все уплыло из его рук. В 449 г., тотчас после "Разбойничьего" собора и изгнания Флавиана, Диоскор прибыл в Константинополь, как триумфатор, собственноручно поставил архиепископом столицы своего апокрисария (т.е. резидента Александрийской кафедры) Анатолия. Но Анатолий, как житель столицы, не был слеп. Он ясно видел безвозвратность переворота. И, изменив Диоскору, перешел на службу новому курсу ликвидации всей акции Евтиха — Диоскора и ориентации богословия на томос папы Льва, присланный в Константинополь еще до "Разбойничьего" собора. Специальная делегация папы в лице двух епископов и двух пресвитеров требовала ради церковного мира подписать томос папы. Анатолий сделал это первым. За ним бросились подписываться сотни епископов, жалуясь, что подписывались ранее под деяниями Диоскора по принуждению. Подписал и ставленник Диоскора на Антиохийской кафедре Максим. Параллельно и в самый Рим сыпались покаянные письма епископов. Риму казалось, что все благополучно устраивается, что никакого более собора не нужно, раз почти все иерархи подписались под посланием папы. Не понимали, что у "Востока" иное умонастроение, что для умиротворения его мало авторитарных декретов. Нужно еще укрощение стихии встревоженного "общественного мнения" через процедуру соборных состязаний, через эту нелегкую дань партийным течениям в богословии. Соборы для Востока — это громоотводы, паллиативы и лекарства от догматических лихорадок, снимавшие на какой-то период остроту болезни и способствовавшие ее залечиванию с ходом времени.
Не считаясь с мнением Рима (видели, что он в этих делах не судья), императорское правительство распорядилось для "оцерковления" одержанной им победы над Евтихом — Диоскором, насмешливо прозванным "фараоном", и над их "египетско-инородческой" ересью — монофизитством — собрать собор в Никее. Никея была оптимистическим мифом. Помнили только первую торжественную победу над страшной ересью силой церковно-государственного авторитета вселенского собора и забывали, какой ценой окупалась эта победа — ценой 60-летней арианской реакции в самом восточном епископате. Как бы то ни было, императорский указ от 17 мая 451 г. созывал вселенский собор на 1 сентября именно в Никее.
Папа Лев покорился факту и назначил своими легатами двух епископов и двух пресвитеров. K ним присоединил и пятого, греческого епископа Юлиана с острова Кос, в качестве ценного эксперта и переводчика. Юлиан долго гостил в Риме, отлично знал настроения и дела Запада, как и своего Востока, и свободно владел двумя языками. B 449 г. на "Разбойничьем" соборе послы папы Льва без знания греческого языка оказались в довольно беспомощном положении. Для старшего из своих легатов, Пасхазина, епископа Лилибейского (в Сицилии), папа Лев требовал председательского места, что канонически естественно для alter ego самого папы. Свыше 500 епископов к назначенному сроку были доставлены на казенные средства в Никею. Кроме пяти легатов только еще два африканца представляли Запад. Вся остальная масса состояла из восточного епископата. И это — типичная пропорция для всех вселенских соборов. "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные" (Мф. 9:12). Вселенские соборы были лекарством для болевшего ересями Востока. У Запада в этот момент была своя очередная тревога. Шло нашествие гуннов на Европу, и папа считал невозможным покинуть Рим в минуту опасности. Сам император Маркиан срочно должен был отправиться в поход на северные границы, чтобы загородить гуннам вторжение в империю. Это косвенно способствовало завлечению гуннов на глубокий Запад, где они в том же 451 г., когда собирался IV Вселенский собор, потерпели жестокое поражение на Каталаунских полях (в нынешней Франции, около Шалонсюр-Марн). Задержанный фронтовыми заботами, но поставивший себе задачей обязательно лично присутствовать на соборе, Маркиан приказал "подтянуть" собор как можно ближе к своей столичной резиденции. Не столь далекая и Никея была заменена совсем близким столичным предместьем — Халкидоном. Это нынешний Кадыкей против Константинополя, на азийском берегу Босфора. Там в огромной базилике мученицы Евфимии было удобное место для заседания большого собрания, насчитывавшего свыше 500 человек. Правительство Маркиана, наученное горьким опытом двух предшествующих, анархически протекших вселенских соборов (III Вселенского в Ефесе в 431 г. и "Разбойничьего" там же в 449 г.), решило взять на себя ответственность за внешний порядок. Вся техника председательствования, предоставления голосов ораторам, голосований, сбора подписей и пр. поручена была президиальной комиссии из 18 человек — старейших чиновников и сенаторов. Эти фактические председатели сели во главе собрания задом к балюстраде, отделяющей алтарную абсиду. Перпендикулярно к их столу, следуя форме прямоугольника базилики, длинными рядами тянулись кресла и скамьи для членов собора, разделенные на правую и левую стороны, со свободным проходом посредине. Впервые установлено было такое распределение мест, ставшее потом традиционно-образцовым для будущих соборов и зафиксированное на иконах вселенских соборов. Властные председатели, соблюдая принцип иерархического старшинства, рассадили, однако, членов собора вместе с тем и по партийной принадлежности, предвосхищая до некоторой степени нынешние парламентские порядки. Во главе правого ряда (по ориентации храма, и слева, если смотреть от лица сенаторского президиума) посажены были легаты римского папы, за ними рядом Анатолий Константинопольский, согласно 3-му канону II Вселенского собора, за ним Максим Антиохийский, далее Фалассий, епископ Кесарии Каппадокийской, и Стефан Ефесский. Левый ряд (т.е. справа от председателей) возглавляется многогрешным александрийским папой Диоскором. Рядом — его правая рука по проведению "Разбойничьего" собора Ювеналий Иерусалимский. За ним — заместитель Фессалоникского епископа. Далее — по принадлежности к этим диоцезам епископы Египта, Палестины и Иллирии. Собор открылся 8 октября.
Каково было легатам папы увидеть восседающим против себя в виде полноправного члена собора осужденного папой еретика! Разумеется, как только все расселись, церковный председатель собора легат Пасхазин потребовал от царского президиума, чтобы до начала дела Диоскор был исключен из состава собора, иначе легаты Рима немедленно покинут собор. Президиум возражал: нельзя выгонять без суда, на то и собор, чтобы быть таким судом. Так как легаты мотивировали исключение Диоскора конкретным перечислением его вин, то президиум и уловил на этом легатов, заявив: формальный процесс судопроизводства открылся, сторона обвиняющая уже высказалась, теперь очередь за стороной обвиняемой. Диоскор потерял право сидеть на своем месте: место члена собора есть место судьи, а он сейчас обвиняемый, поэтому пусть пересядет на средину, на скамью подсудимых. Пришлось повиноваться. Собор был введен в правовые берега. Иначе с уходом делегатов Рима он потерял бы авторитет вселенскости. Диоскор мог разнуздаться, и получился бы новый хаос, как на соборах 431 и 449 гг. От этой анархии и срыва собор был спасен барьером государственного контроля. Вот иллюстрация к одному из случаев сложного принципиального и тактического вопроса о взаимоотношениях церкви и государства, когда разумное и уместное вмешательство и давление государственной силы может спасти от анархии, т.е. от гибельной лжесвободы.
Хорошо подготовленный прокурор по делу Диоскора также, не теряя времени, выступил на средину и занял прокурорскую скамью. Это был Евсевий Дорилейский, епископ-юрист, прославленный обличитель еретиков — сначала Нестория, а затем Евтиха. В порядке изложения насилий Диоскора Евсевий упомянул и о бывшем прямом запрещении главам антиохийского богословия — Феодориту Киррскому и Иве Эдесскому — являться на собор 449 г., на котором они заочно были извергнуты из сана.
На это насилие они принесли апелляции папе Льву и были оправданы и de jure восстановлены Римским собором 445 г. Оставалось провести это восстановление через настоящий вселенский собор. Теперь, как освобожденные от дворцового и Диоскорова террора, Феодорит и Ива, конечно, прибыли в Халкидон. Но ради юридической формы пока оставались за дверями заседания. При упоминании имени Феодорита римские легаты сейчас же потребовали, чтобы он был введен как нужный свидетель и член собора, уже оправданный папой. B сидящей налево части собора это вызвало первый взрыв негодования. Раздались выкрики: "Долой отсюда врага Божия, учителя Нестория!" Им справа отвечали: "Убийцы Флавиана, гнать их отсюда! Вон манихеев! Вон еретиков! Долой Диоскора-убийцу!" Слева опять: "Он (т.е. Феодорит) анафематствовал Кирилла! Что же? Хотят теперь изгнать Кирилла?!" Председатели уняли бурю, не посадив Феодорита раньше формального оправдания среди членов собора, а посадив в средине, как свидетеля, рядом с прокурором Евсевием. Подобные краткие восклицания входили в античное время в ритуал и деловых и праздничных собраний. Они записывались официальными писцами и входили в состав протоколов. Они играли роль нынешних парламентских групповых заявлений и резолюций.
Очень долго, до позднего вечера читались протокольные записи "Разбойничьего" собора и в связи с ним флавианского Константинопольского собора 448 г. Прокурор и члены президиума попутно допрашивали ныне присутствующих участников тех соборов. И тут надо отдать справедливость Диоскору. Он вел себя, как узкий фанатик, мужественно. Большинство же епископата малодушно его предавало, ссылаясь на террор Диоскора. "Ах, бедненькие, они боялись!" — издевался над ними Диоскор. "Это христиане-то боялись! О, святые мученики, так ли вы поступали?!" Когда упрекали Диоскора в личном пристрастии к Евтиху, он искренне возражал, что у него нет тут ничего личного: "Если Евтих мудрствует противно догматам церкви, то он достоин не только наказания, но и огня. О вере кафолической я пекусь, а не о каком-то человеке. Мой ум направлен на божественное, не взираю я на лица и ни о чем не забочусь, кроме души моей и правой веры".
Когда среди различных материалов прочитано было примирительное послание св. Кирилла к Иоанну Антиохийскому 433 г. и вероизложение Флавиана 449 г., это вызвало решающую манифестацию среди членов собора: "Слава Кириллу, — мы так же веруем!" "Восточные" (т.е. антиохийцы) поясняли: "Флавиан сам так же веровал, за что же он был осужден?! Так верует и Лев, и Анатолий, и императрица, и мы все так же веруем!" Светские председатели собора, желая уловить и закрепить момент единодушия, предложили проголосовать индивидуально этот тезис о согласии между Кириллом и Флавианом. Церковный председатель епископ Пасхазин принял это предложение и сам первый дал пример открытого голосования в положительном смысле. Пример был заразителен. Так же начали голосовать многие, в том числе и Фалассий Кесарие-Каппадокийский, один из вице-председателей Диоскорова собора 449 г. Другой председатель — Ювеналий Иерусалимский, видя старую игру бесповоротно проигранной, встал и не только заявил о своем согласии с таким голосованием, но, как у нас на примитивной сельской сходке, перешел с левой половины скамей ("Диоскоровой") на правую ("римскую"). Повинуясь своему главе, то же сделали и все палестинские епископы. Иллирийцы поступили так же. Из них один только Аттик Никопольский уклонился от голосования, поспешно уйдя из церкви под предлогом будто бы острого заболевания. Даже из свиты Диоскора 4 подчиненных ему египетских епископа решились на такую же демонстрацию открытого голосования.
Заседание кончилось уже при свечах. Светские председатели все-таки сформулировали выводы, которые предстоит оформить следующему заседанию, и именно: а) что на соборе 449 г. епископы не были свободны в выражении своих мнений и б) что ответственные за это насилие председатели собора должны быть низложены. Расходясь, члены собора пропели Трисагион — Трисвятое: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!" Это первое историческое свидетельство о начавшемся с той поры частом исполнении Трисвятого.
Через два дня, 10 октября, собрали второе заседание, но на него уже не были приглашены лица, объявленные в конце прошлого заседания виновными и подлежащими осуждению: Диоскор, председатели по собору 449 г. Ювеналий Иерусалимский (не помогла ему его демонстрация), Фалассий Кесарие-Каппадокийский, Стефан Ефесский, Василий Селевкийский. Отсутствовала и вся группа египетских епископов, видимо, по приказу Диоскора. Дезавуировались только вожди, а ведомая ими безликая масса епископов щадилась и оставлялась членами собора. И хотя часть ее на прошлом заседании вслед за главарями и пересаживалась слева направо, но не лишена была и теперь ни свободы, ни возможности по-прежнему ревностно пропагандировать монофизитствующее богословие, почитая его Кирилловым. Она бурлила и боролась за него то узаконенными выкриками, то глухим сопротивлением голосов.
Государственные председатели, считая атмосферу достаточно подготовленной и переживаниями заседания 10 октября, и произведенной "чисткой", предложили собору от имени императора перейти к обсуждению спорного догматического вопроса и к вынесению новой его формулировки, могущей всех согласить и успокоить. Первыми воспротивились этому римские легаты. Они просто понять не могли: как и для чего после выслушания и принятия томоса папы Льва, т.е. после того, как Roma locuta est, снова начать повторять зады? И тогда, как и теперь, Рим не понимал значения соборов иначе, как только в качестве торжественных присоединений к уже высказанному папскому голосу. Легаты имели прямую инструкцию — не допускать догматических дискуссий. В данном случае и греческое большинство собора боялось богословских споров, подрывавших надежду на сколько-нибудь мирный результат собора. Боялись самих себя, зная глубину и остроту разделявших их эмоций благочестия, не говоря уже о теоретической головоломности, для многих из них непосильной. Современный нам римо-католический историк G. Bardy и предложение легатов, и совпадавшее с ним мнение "восточных" квалифицирует, как "мудрое" ("cet avis qui était sage") [1]. Суждение о мудрости спорное, субъективное. Может быть, это и вправду было "bon pour l'Occident" (хорошо для Запада), но не для Востока, где меры механического затыкания фонтана богословствования вели только к затяжке болезни. После Никеи ряд поместных и вселенских соборов как-то наивно и безуспешно заклинал не составлять новых формул веры, кроме единой Никейской, якобы, достаточной на все случаи. Однако пока не изживалась повышенная температура очередной догматической лихорадки, заклинания оказывались бессильными. Так и здесь мало было "мудрости", т.е. дальновидности, у простодушных римских легатов. Дальновиднее, мудрее оказалось желание правительства получить от собора новую согласительную формулу. Из-за чего же было "огород городить", собирать со всех концов "вселенной", свозить и содержать на казенный счет эту полутысячу предстоятелей церквей, если можно было бы получить тот же результат путем рассылки через курьеров письма папы к Флавиану, этого знаменитого томоса, и получить под ним формальное большинство голосов в виде подписей? Два "неуправляемых" собора в Ефесе, 431 и 449 гг., оказались неспособными вынести формулы вероисповеданий. После горького опыта теперь решено было собором "управлять" (как ныне есть "управляемые демократии"), т.е. побудить его издать вероопределение. Епископы ссылались на формальное запрещение III Вселенским Ефесским собором 431 г. составлять какой-либо иной символ веры, кроме Никейского. Председатели уловили на этом членов собора. Они предложили им перечитать символ и будто бы полностью разъясняющие его известные догматические документы последнего времени, чтобы убедиться, что ответа на нововозникшие вопросы в них нет. A члены собора рады были просто отсрочке и проволочке. После Никейского символа был прочитан и Константинопольский. Тут впервые на сцене официальной истории появляется пред нами наш "Никео-Цареградский символ", по всем признакам сложившийся к концу арианских споров и известный уже членам II Вселенского собора (381 г.), что с точностью установить нельзя, ибо протоколов I и II Вселенских соборов не существует. Теперь еще прочитаны были: а) письмо Кирилла к Несторию ("Καταφλυαρουσιν"), б) к Иоанну Антиохийскому ("Εύφραινέσδωσαν"), в) томос папы Льва и справочные текстуальные добавления к нему от 450 г., где для удовлетворения греков папа взял цитаты и из Кирилла, хотя справедливо отверг зловредную, монофизитски звучащую формулу его "μία φύσις". Самое соблазнительное и острое письмо Кирилла ("Του Σωτήρος") с 12 анафематизмами как бы по обоюдному согласию покрыли молчанием. Св. Кирилл, таким образом, выступал в подчищенном виде для облегчения согласования его с папой Львом. И Аттик Никопольский, а за ним и его иллирийцы и часть палестинцев придрались к тексту томоса и требовали было прочтения 12 анафематизмов. Но председатели это замяли, признав психологически полезным дать удовлетворение сомневающимся в виде приватного заседания под руководством Анатолия Константинопольского. Был назначен 5-дневный перерыв. Анатолию вместе с тем дано и параллельное задание: переубедить сомневающихся, представить собору проект согласительной формулы вероопределения, т.е. то, от чего собор всячески уклонялся.
Пока шла эта комиссионная богословская работа, 13 октября было назначено под председательством легата Пасхазина (без светских председателей) заседание чисто духовного суда над Диоскором. Самое собрание происходило в приделе храма, в так называемом "Мартирионе". Диоскор на три формальных вызова не пожелал явиться и был осужден заочно за ряд актов узурпации власти, насилия, произвола и дерзостей. Вопроса о вере и не подымали. Резолюция суда, извергающая Диоскора из сана, была подписана всем епископатом без исключений. Единодушие было достигнуто путем замалчивания догматической стороны дела. Резолюция звучит: "Посему святейший и блаженнейший архиепископ великого и древнего Рима Лев через нас и через сей святый собор, в единении с блаженным апостолом Петром, который есть краеугольный камень кафолической церкви и основание православной веры, лишает Диоскора его епископства и всего священного достоинства". Вот одно из торжественных свидетельств признания древней неразделенной церковью устами вселенского собора особого несравнимого первенства римского архиепископа, основанного на исключительном первенстве апостола Петра. Одновременно это — свидетельство и о глубоком различии самих ментальностей латинизма и эллинизма. Под одними и теми же словами западные и восточные христиане не столько подразумевали, сколько чувствовали разное духовное содержание. Римляне, напоенные во всем своем благочестии и церковной жизни, т.е. в практической экклезиологии, мистикой власти и права, под этими формулами вынашивали в своем сердце свое будущее непогрешимое папство, а "анархические" эллины и не подозревали о такой мистике, признавая простой позитивный факт традиционного первенства, чести и авторитета римской кафедры. Когда с IX в. начались на эту тему споры и затем окончательное разделение церквей, выявилась глубина длившегося тысячу лет недоразумения. Риму греки представились нечестными людьми, отказавшимися от своих подписей и обязательств, данных их праотцами не только на IV, но и на всех последующих вселенских соборах, людьми, рационалистически (по-протестантски) отвергшими мистическую веру предков. A греки увидели в претензиях Рима не церковное учение о полномочиях апостола Петра, а теократическое извращение или грехопадение западного образца, когда в варварской средневековой Европе ее воспитательница и руководительница папская власть стала и политической универсально-имперской властью над всей вселенной, чего не могли допустить греки. У них была миропомазанная церковью, теократически законная, христианская, императорская власть, с которой авторитет церковный был сгармонирован, слажен, согласован по теории симфонии. Власть же Рима оснастила себя теорией двух мечей, т.е. претендовала на то, чтобы раздавать полномочия и византийским василевсам, что было для греков несносной и оскорбительной ересью. Чисто церковный лик римского первосвященника и его законное первенство чести меркли в глазах греков, мысливших тоже теократически, но иначе, чем латиняне. B порядке самозащиты от извращенных теократических претензий папства греки отталкивались от папства en bloc, пренебрегая и его бесспорным первенством. Латиняне платили Востоку еще большим пренебрежением. Так возникла и укрепилась психология прискорбного великого раскола церкви.
17 октября было открыто четвертое заседание Халкидонского собора. Императорские председатели поставили на повестку дня выработку вероопределения. Общая оппозиция этой задаче сразу же была выражена устами церковного председателя, епископа Пасхазина: "Правилом веры для собора является то, что изложено отцами I, II и III Вселенских соборов, а равно и то, что дал досточтимый Лев, архиепископ всех церквей. Это вера, которую собор признает, к которой он привержен, ничего не убавляя и не прибавляя". Тогда светские председатели потребовали индивидуального голосования, чтобы было ясно: все ли признают, что вера Кирилла и Льва одна и та же? При этом, видимо, сторонники Кирилло-Диоскорова направления высказали пожелание, чтобы временно устраненные до суда над Диоскором и этим судом не задетые его коллаборанты по Ефесу 449 г. — Ювеналий, Фалассий, Василий Селевкийский, Евсевий Анкирский, Евстафий Виритский — были возвращены на собор и приняли участие в голосовании. Светские председатели решили спросить мнения имиераторского двора, который был на другой стороне Босфора. Курьер быстро привез ответ: император полагается на мудрость собора. И собор с радостью вернул в свою среду выше названных епископов, полностью подписавших общую со всеми резолюцию. Иначе дело обстояло с 13 египетскими епископами, не перешедшими на первом заседании на правую (римскую) сторону, т.е. против Диоскора. С того момента они оставались за дверями собора. В предвидении допроса они подготовили свое вероисповедание, в котором отвергали разные древние ереси, но умалчивали об Евтихе. Их вызвали, выслушали и поставили им ряд прямых вопросов. Они от Евтиха, хотя с трудом, но отреклись. Суждение же о томосе папы Льва отказались высказывать, ссылаясь на свою александрийскую конституцию (шестое правило Никейского собора), которая, якобы, запрещала подобные действия в отсутствие александрийского возглавителя. Но нервы многих из них не выдержали. Они падали в ноги старейшим епископам, прося пощадить их седые головы, ибо за подпись томоса папы им грозит в Египте смерть. Это были не словесные гиперболы, это был физический террор Диоскора. Тогда им объявили, что их вотум отсрочивается до выборов нового патриарха вместо Диоскора, а пока они безопасно могут жить в Константинополе.
После этого по указанию императора собору пришлось допросить толпу буйных монашеских вождей, в числе их и скандалиста 449 г., сирийского авву Варсума (Барцаума). Не добившись толку от этих буянов, требовавших восстановления милого их сердцу Диоскора, собор в виде отписки от этого безнадежного дела предоставил его послесоборному административному усмотрению Константинопольского архиепископа Анатолия.
Светские руководители собора видели, что епископы, утомленные разбором драматических личных конфликтов, не в состоянии уже спокойно перейти к догматическим формулировкам, и перенесли эту главную предписанную им двором задачу на дальнейшее заседание 22 октября. Для облегчения мук рождения нового вероопределения на архиепископа Анатолия была возложена обязанность в приватном кружке подготовить формулу к заседанию. Несохранившаяся полностью эта формула, насколько мы ее знаем из прений, отражала вкусы большинства, т.е. Кирилловскую александрийскую терминологию. Кроме римских легатов и некоторых антиохийцев почти все епископы стояли за монофизитскую, по существу, формулу μια φύσις...
Влек их в тенета этой богословской западни авторитет св. Кирилла, который был сам в нее уловлен доверием к ходячим текстам отцов церкви, злоумышленно подделанных аполлинаристами. Но понадобилось почти столетие прежде, чем Леонтий Византийский вскрыл этот удавшийся подлог. A в описываемый период большинство не допускало выражений папы Льва и Флавиана "две природы по соединении" δυο φυσεις μετα την ενωσιν θ предлагало уклончивое и двусмысленное "из двух природ" εκ δυο φυσεων.
Светские председатели привели в качестве справки показательный факт, что и Диоскор также употреблял "из двух природ" и обвинял Флавиана за "две природы". На это не кто иной, как сам Анатолий, вдруг заявил, что Диоскор низложен не за веру (!!), а за дерзости (отлучение папы и неявка на соборный суд). Ученик и ставленник Диоскора, сам легко приспособившийся к столичному курсу, еще не сознавал или не хотел сознать действительно еретического энтузиазма Диоскора. Вот в каких потемках еще блуждали даже ведущие личности греческого епископата! На один глаз (кирилло-диоскоровский) они все еще были слепы. Вся острота зрения у них была в другом глазу. И они видели им только одного врага — несторианство. И все еще считали собор армией, долженствующей разгромить этого единственно понятного им врага. На заседании 22 октября по заслушании проекта формулы раздались противонесторианские выкрики: "Надо прибавить к этому определению имя св. Марии, как Богородицы, ведь Христос — Бог!" Когда Иоанн, епископ Германикийский, пожелал подчеркнуть "две природы", раздалось: "Долой несториан!" "Что же тогда делать с письмом святейшего Льва?" — спросили крикунов. Трезвое большинство утверждало, что предложенная формулировка подтверждает томос Льва: "Лев высказывает мысли Кирилла!" Но папские легаты были и этим недовольны. По признанию самого римо-католического историка, "они хотели бы канонизировать самые слова послания к Флавиану" (т.е. томоса, G. Bardy, op. cit., p. 234).
Пасхазин заявил: "Если не принимают письма блаженнейшего апостолического папы Льва, то прикажите нам вернуть наши мандаты, мы возвратимся в Италию, и собор соберется там". Даже Евсевий Дорилейский смутился и предложил отказаться от попытки провести на соборе какое-нибудь вероопределение.
Собор явно переживал кризис, подобный кризисам трех предшествовавших вселенских соборов. И вот тут, как и тогда, сказалась спасительная роль опеки над ним государственной власти [2]. Государственные председатели, после срочного сношения с Двором, поставили собор перед ультиматумом: или собор вотирует вероопределение, или он распускается и переносится на Запад. Пришлось присмиреть и понизить тон. Но все-таки раздались характерные возгласы: "Что же! И разойдемся, если наш проект не нравится! Его не хотят несториане! Пусть несториане и идут в свой Рим!" И это выкрикивали иллирийцы, которые административно (вместе с их центром — Фессалоникой) принадлежали в качестве окраинного экзархата к Римскому патриархату! Но география одно, а этнография — другое. Это были эллины по языку и богословию, и духовно они были чужды латинскому Риму, а Рим — им.
Чиновники-председатели попробовали было упростить исход собрания сжатым голосованием: кто за Льва и кто за Диоскора?
Но это не прошло, да и, по существу, было неточно. Во-первых, Диоскорово богословие — увы! — не разбиралось соборно на суде над ним. Во-вторых, "или — или" было совсем не в этом контрасте, а в контрасте богословий Льва и Кирилла. С томосом папы несогласуемы 12 анафематизмов Кирилла. Но сказать это вслух в тот момент было нельзя, ибо все усилия направлялись на то, чтобы согласовать два по форме несогласуемых богословствования. Оба лица, и Лев и Кирилл, были православны. Но богословствование Кирилла носило в себе формальную дефективность, которая требовала чистки, дезинфекции, а не согласительного проглатывания всеми этой заразы. Volens-nolens надо было вновь в поте лица попробовать сформулировать вероопределение, отчего собор до сих пор так упорно уклонялся. Комиссию для нового проекта составили с расчетом удовлетворить спорящие партии. С римской стороны в нее были зачислены все три легата папы; с греческой же стороны были взяты яркие фигуры (кирилловцы и даже диоскоровцы): Фалассий Кесарие-Каппадокийский, Евсевий Анкирский, сам Аттик Никопольский. Комиссию уединили в маленький придел св. Евфимии и затворили двери от беспокоящего вмешательства других членов собора. И, о чудо! Да, это воистину чудо! Вот эта именно комиссия — ее можно было бы назвать комиссией отчаяния — неожиданно быстро после перерыва в несколько часов составила, написала и вынесла мудрейшее тактически, при данных обстоятельствах совершеннейшее, философско-богословски знаменитейшее на все века халкидонское вероопределение! B основу его составители положили Антиохийское вероизложение 433 г., подписанное св. Кириллом (тоже под давлением царского двора), послание самого Кирилла к Несторию ("Καταφλυαρουσιν") и, конечно, томос Льва. Компромисс двух богословствований был максимальным. Но из Кирилловой ткани, конечно, выброшена была ядовитая горошина — μία φύσις. Преобладающая победа Льва была бесспорна. Текст звучал так:
Επόμενοι τοίνυν τοις άγίοις πατράσιν, Ενα και τον Αυτόν όμολογεΐν Υίόν τον Κόριον ημών Ι. Χριστόν συμφώνως άπαντες έδιδάσκομεν: τέλειον τον Αυτόν εν θεοτητι και τέλειον τον Αυτόν εν άνθρωποτητι. θεόν άληθώς και άνθρωπον αληθώς τον Αυτόν, εκ ψυχής λογικής και σώματος, όμοούσιον τω Πατρί κατά την Θεοτητα και όμοούσιον τον Αυτόν ήμΐν κατά την ανθρωπότητα. Κατά πάντα ομοιον ήμΐν χωρίς αμαρτίας.
"Итак, следуя за божественными отцами, мы все единогласно учим исповедовать Одного и Того же сына, Господа нашего Иисуса Христа, Совершенным по Божеству и Его же Самого Совершенным по человечеству; Подлинно Бога и Его же Самого подлинно человека: из разумной души и тела. Единосущным Отцу по Божеству и Его же Самого единосущным нам по человечеству. Подобным нам во всем, кроме греха.
Προ αιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα. Έπ' εσχάτων δε των ήμερων τον Αυτόν δι 'ημάς και δια την ήμετέραν σωτηριαν εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα.
Прежде веков рожденным из Отца по Божеству, а в последние дни Его же Самого для нас и для нашего спасения (рожденного) по человечеству из Марии Девы Богородицы.
Εva και τον Αυτόν Χριστόν, Υίον, Kopιoν, Μονογενή εν δύο φύσεσιν άσυγχύτως, άτρέπτως, αδιαιρέτως, άχωρίστως γνωριζομενον.
Одного и Того же Христа, Сына, Господа Единородного, познаваемым в двух природах [3] неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо.
Ουδαμου της των φύσεων διαφοράς άνηρημένης δια την ένωσιν, σωζόμενης, δε μάλλον της ιδιότητος έκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν ύποστασιν συντρεχούσης.
(При этом) разница природ не исчезает через соединение, а еще более сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно Лицо и в одну Ипостась.
Ουκ εις δύο πρόσωπα μεριζομενον ή διαιρούμενον, αλλ' Ενα και τον Αυτόν, Υίόν και Μονογενή, θεόν Λογον, Κύριον Ι. Χριστον.
(Учим исповедовать) не рассекаемым или различаемым на два лица, но Одним и Тем же Сыном и Единородным, Богом-Словом, Господом Иисусом Христом.
Καθαπερ άνωθεν οι προφήται περί Αυτού και Αυτός ημάς ό Κύριος Ι. Χριστός έξεπαίδευσε και το των πατέρων ήμΐν παραδέδωκε σύμβαλον.
Как изначала о Нем (изрекли) пророки и наставил нас Сам Господь Иисус Христос и как предал нам символ отцов наших.
Возражений не раздалось. Возражатъ было трудно, не обнаружив себя прямо монофизитом. Благоразумные встретили формулу радостным возгласом: "Это вера отцов! Мы все так мудрствуем! Пусть митрополиты сейчас же подпишут ее, и конец!"
Но сенаторы-председатели со счастливой уверенностью в достигнутом окончательном успехе объявили, что подписи откладываются до ближайшего торжественного заседания в присутствии императорской четы.
Безотлагательно, 25 октября, произошло парадное заседание для торжественного провозглашения, наконец-то, достигнутого вероопределения. Явилась императорская чета — Маркиан и Пульхерия. Как и подобало римскому императору, Маркиан произнес речь на официальном латинском языке; лишь затем она была прочитана переводчиком по-гречески. 355 епископов и их заместителей дали подписи. Число подписавших было приблизительно на 150 человек меньше числа собравшихся на собор. Очевидно, глухая оппозиция новому для многих рядовых провинциалов курсу соблазняла их бежать под разными предлогами от ответственности, а правительство не без чувства облегчения отправляло их на казенный счет по домам, очищая тем атмосферу собора.
Протокол заседания, видимо, сводит воедино восклицания предыдущего и этого заседания: "Мы все так веруем! Мы все согласны! Мы все подписали единодушно. Это вера отеческая, апостольская, православная! Слава Маркиану — новому Константину, новому Павлу, новому Давиду! Ты — мир мира! Ты утвердил веру православную! Многие лета императрице! Ты — светильник веры православной! Тобой мир царит повсюду! Маркиан — новый Константин, Пульхерия — новая Елена!"
B заключение опять приписано было, по установившемуся обычаю, бесполезное запрещение составлять какое-либо новое вероопределение, кроме данного. B эту безнадежную попытку остановить историческое движение церковной жизни, очевидно, вкладывалась скромная тактическая цель — просто властного окрика свыше на слишком разгулявшуюся стихию богословского сутяжничества и вождистского авантюризма.
На непокоряющихся соборному оросу клириков и мирян налагались кары, смотря по степени виновности: запрещения, извержения из сана, отлучения от церкви, со всеми последствиями.
* * *
Кульминационной точкой соборных усилий было рождение и утверждение приведенного выше ороса. A кульминационной точкой внутри самого пространного ороса являются его отрицательные наречия: ασυγχυτως, ατρεπτως, αδιαιρετως, αχωριστως — νеслитно, непревращенно, неразделимо, — неразлучимо исключающие доступ в него еретических тенденций. Психология и логика ересей характеризуется гипертрофией рационалистической заносчивости, обольщающей и самого изобретателя ереси, и увлеченных им учеников неким новым разъяснением тайны откровения, кажущимся упрощением, а на самом деле ведущим к упразднению, разрушению догмата. Как и все догматы, догмат о Богочеловеке есть превышающая наш "арифметический" разум тайна. Но эта тайна есть Богооткровенный и Богоданный нам факт, т.е. непреложная, неотменяемая истина. Вот уже воистину с'est à prendre ou à laisser (признать или отвергнуть). Когда наш малый разум — ratio, не постигающий ни тайны мирового бытия, ни тайны нашего собственного я, воображает, что он их как-то постиг, и затем смело врывается внутрь тайны догмата, разбивает грани его кристаллического очертания — определения, он творит варварское насилие над тайной, "сходит с ума" и в сумасшедшем экстазе кричит: "Эврика!" Так под чарами обольстителя наши прародители впали в иллюзорный восторг "еже разумети". Есть пророческий восторг от Духа Святого, и есть лжеблагодать от "духа лестча". Надо иметь дар различения духов, от Бога ли они? (1 Кор. 12:10). Бедный умник Аполлинарий Лаодикийский, сочинив свою "аполлинарийскую" ересь, упростившую (т.е. разрушившую) тайну Богочеловека, в "лжеблагодатном" восторге приписал к тексту своих толкований преискреннее самоизлияние: "О, новая вера! О, божественное смешение: Бог и плоть составили одну природу!" Чтобы не соскользнуть в эту манящую бездну лжеразума и не полететь в обольстительном восторге на крыльях демонов (Мф. 4:6), Халкидонский собор поставил в христологическом оросе какбудто простенькие перегородки, барьер, предохраняющий от срыва в бездну ересей. Барьер очень тонкий, едва заметный, кружевной, состоящий всего из четырех отрицаний. Но платоническая и неоплатоническая философия хорошо вышколила гносеологически головы членов комиссии. Они знали, что только так человеку дано рассуждать об абсолютном и непостижимом. A пройденный опыт подтверждал эту, казалось бы, простенькую школьную директиву. Комиссия начертала:
- "Неслитно" ("άσυγχύτως"), ибо крайние монофизиты вливали воду плоти в огонь божества, и она испарялась, пропадала или же, как трава, сгорала, и оставалась только огненная стихия природы божественной, т.е. "одна природа".
- "Непревращенно" ("άτρέπτως"), ибо для более лукавых, якобы, умеренных монофизитов человечество, превращая свое существо, теряло свою реальность, становилось только кажущейся оболочкой.
- "Неразделимо" ("αδιαιρέτως"), ΰ у несториан две природы положены рядом лишь в иллюзорном объединении.
- "Неразлучимо" ("άχωρίστως"), ΰ у маркеллиан в день последнего суда Богочеловек отлучит от Себя, отбросит в ничто отслужившую Ему человеческую природу.
Говоря об этом оросе IV собора, мы произнесли слово "чудо". Это не для риторики. Это должен почувствовать каждый просто добросовестный историк, вникая во всю сложность пристрастности боровшихся партий, амбиций религии и политики и, наконец, различия расовых умонастроений и языков. Как из этого клокочущего котла, готового взорваться и только увеличить хаос (примеры тому недавно были — Ефесские соборы 431 и 449 гг.), вдруг потекла светлая струя мудрой, примиряющей доктрины? Как мутная вода очистилась, по сербской поговорке, пройдя "през дванадесет камена"? Словно развинтившихся школьников засадили в карцер и вынудили написать невыполненное ими упражнение. И вот Бог благословил это принуждение. Оно оказалось во благо. "Ибо угодно Святому Духу и нам" (Деян. 15:28), как принято по примеру апостолов повторять в подобных случаях. Так в прозе, слепоте страстей, грехах и немощах истории выстрадываются и вымаливаются светлые капли истины, так изволяет Дух Святой осенять откровением свыше добросовестные искания человеческого духа. Чем трезвее и точнее знание исторической реальности, тем чудеснее вырисовывается на фоне этой прозы по контрасту луч Божественного Откровения. Чудо для очей веры. Для тупого и слепого неверия все равно чудес не бывает.
И пророки, и тайнозритель "были в Духе" на один момент, а потом опять, как земнородные, подчинялись тяге земной ограниченности разумения. Так и коллектив отцов собора, на мгновение поднявшийся на благодатную высоту достижения мудрого ороса, в последующие моменты в суждениях по дальнейшим частным вопросам опять превращается в слепых, одержимых пристрастиями индивидуумов.
Заседания 26, 27 и 28 октября были посвящены вопросам административным, дисциплинарным и личным. Скажем о них кратко. Блаж. Феодорит, уже оправданный Римом, искал еще и оправдания его собором. Он был мозгом Антиохийской школы, которую соборное большинство считало просто несторианством. Феодорит хотел оправдать пред всеми великую богословскую работу всей его жизни, но его не захотели слушать. Утомленные и духовно раздавленные тем, на что они сейчас решились, соборные отцы, все еще отравленные ядом монофизитства, увидев Феодорита, закричали: "Не надо никаких рассуждений! Анафематствуй Нестория, и довольно!" Феодорит: "Какой в этом толк, пока я вам не докажу, что я православен?" Толпа епископов кричала: "Вы видите, он — несторианин! Вон еретика! Скажи ясно: Св. Дева — Богородица и анафема Несторию и всякому, кто не называет Марию Богородицей и разделяет Христа на двух сынов!" Феодорит мог доказать, что и Несторий соглашался на имя Богородицы и не учил о двух сынах. Но перед потерявшей терпение толпой это было невозможно. Феодорит в отчаянии, выражаясь тривиально, "махнул рукой" и произнес требуемую анафему. "Ну раз православен, то достоин кафедры! Вернуть его церкви!" Это нежелание епископата вникнуть и понять православную форму антиохийского богословия делало епископов слепыми и невежественными перед соблазнами привычной им формы александрийского богословия почти незащищенного от заразы монофизитства. И за эту слепоту жизнь тяжело отомстила. 250 лет упорной монофизитской реакции, соединившейся с инородческой националистической реакцией против эллинизма, обессилили и умалили византийскую церковь и до сих пор оставили следы и рубцы в ее догматствовании, ее благочестии и ее творчестве.
За Феодоритом должен был выступить перед собором его двойник по судьбе в эпоху диктатуры Диоскора — Ива Эдесский. Его допросили по поводу нашумевшего письма к Маре, епископу Ардаширскому, где св. Кирилл обвинялся им в монофизитстве. Ответ Ивы был бесспорен. Это было до 433 г., когда Кирилл уступил антиохийцам и подписал с ними общее согласительное исповедание. Но члены собора опять не пожелали вникать в суть антиохийского богословия. Их интересовала только анафема на Нестория, которую, конечно, Ива произнес. Оставалось впечатление, будто Феодорит и Ива были несторианами. Но, как всегда бывает в накаленной партийной атмосфере, соборяне этим ничуть не успокоили подозрительность монофизитствующих масс и их вождей. Те решили: "Вот видите, для отвода глаз анафематствовали Нестория (который еще был жив), а старых друзей его — Феодорита и Иву — оправдали. Стало быть, Несторий победил. Долой Халкидонский собор и его главу — папу Льва!" Вот лозунг длительного антихалкидонского движения.
Даже высокие официальные сферы ослабляли себя тем, что сами не были свободны от старой "диоскоровой болезни". Характерным документальным отпечатком этой болезни является канцелярская подделка в самом тексте Халкидонского ороса, как он издан печатно по самым древним и авторитетным оригиналам. B нем теперь читаем "диоскоровскую" вставку "из двух природ", вместо "в двух природах". Самоочевидность подделки, кроме существа дела, документально доказывается тем, что все без исключения древние отеческие цитаты ороса, как и следует ожидать, содержат "в двух природах".
На заседании 26 октября решен был вопрос о границах патриархатов Антиохийского и Иерусалимского. Ювеналию благодаря его оппортунизму удалось значительно расширить свой маленький патриархат за счет границ Антиохийского. За последним оставлены были так называемые Две Финикии (соответствующие нынешним Ливану и Сирии) плюс неопределенная "Аравия". A Иерусалим получил "три Палестины" с тремя митрополичьими центрами: Кесария (при море), Скифополис (южная Палестина) и Петра (в Заиорданье).
Два последних вопроса о границах патриархатов оказались довольно легкими, ибо были уже подготовлены жизнью. Но существовал вопрос той же категории, несравнимо более щекотливый и глубоко задевающий традиционные понятия о нормах высшего управления церкви. Это вопрос о канонических полномочиях столичного Константинопольского архиепископа. На фоне крушения морального авторитета Александрийского патриархата, оказавшегося виновным в покровительстве ереси, удалось утвердить свои привилегии патриархам Иерусалима и Антиохии. Настала очередь определить привилегии Константинополя. Уже 3-м правилом II Вселенского Константинопольского собора 381 г. (в 451 г. еще не признававшегося в Риме вселенским) было утверждено за архиепископом Константинополя "первенство чести после Римского епископа". Вот полный текст этого краткого, но знаменитого правила: "Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, потому что город этот есть Новый Рим". Таким образом, честь и место Константинопольской кафедры утверждены на политическом основании. Мы знаем из дальнейшей истории, что эта мотивировка возвышения была неприятна другим диоцезальным апостольским кафедрам. Но столичное преимущество Константинополя, даже и над Римом, не говоря о других центрах, в порядке естественно-политическом росло неудержимо. Эти преимущества плыли в руки столичного архиепископа сами собой, без всяких с его стороны усилий. Оставалось лишь их констатировать и узаконять post factura, как создание самой жизни. Вопросы эти поставлены были на повестку собрания 31 октября, которое рассматривалось, как очень будничное, непарадное, как бы post scriptum к великому деянию, оставшемуся позади. По-видимому, не без дипломатического умысла заседание протекало "по-домашнему", без участия римских легатов и не под председательством сенаторов. Постановлено было узаконить создавшуюся практику, когда епископы соседних со столицей диоцезов — Фракии (с европейской стороны) и Понта и Асии (с малоазийской) — почти не судились у своих митрополитов, а предпочитали прибегать к суду императорского двора, а тот, соблюдая канонические приличия, передавал чисто церковное и иерархическое содержание тяжб на архипастырский суд столичного архиепископа. Таким образом, престиж этих трех соседних диоцезов был как бы целиком создан Константинополем. Столичный епископ, посаженный Константином Великим внутри старой Ираклийской митрополии, на площадь новой столицы, не имевший до того нормальной епархиальной территории, путем чужеядения быстро приобрел для своего патриархата довольно обширную область трех упомянутых угасших в его лоне диоцезов, не задевая границ влияния патриархатов Антиохийского, Иерусалимского и Александрийского. Нельзя было ничего возразить против этого уже укоренившегося фактического порядка. Его и запечатлело собрание в канонах 9 и 17 IV Вселенского собора без каких-либо возражений. Греческий епископат, трагически расходившийся в вопросах догматических, был единодушен и, еще глубже, единочувствен в признании национально-религиозной ценности авторитета своей родной, христианской, отныне миропомазанной церковью императорской власти и ее исключительной мировой экуменической единственности. В лучах и ауре этой священной власти василевса быстро вырос и стал как бы неразлучным с ней двойником и авторитет столичного патриарха. Умалить его было бы абсурдом для греческого самосознания. Римская критика оснований и объема престижа Константинопольского архиепископа выслушивалась без возражений, но и без малейшего сочувствия. Греки не были антипапистами и антиримлянами. Они признавали за папами и Римом подобающую честь. Но они ревниво обижались, когда чуяли со стороны латинян неуважение к чести и славе их Константинопольского главы церкви. В них оскорблялась этим сыновняя, фамильная гордость боговенчанным отечеством их родного василевса и возглавляющего рядом с ним единый государственно-церковный организм патриарха. Вот две религиозно-политические психологии, безнадежно расходившиеся.
B данном случае архиепископ Анатолий как бы сбросил с себя свое кирилло-диоскоровское происхождение и превратился в Константинопольца pur sang (по крови). С ним заодно был весь греческий епископат. Они считали, что папа Лев должен быть вполне удовлетворен одержанной им дипломатической победой, и это было благоприятным моментом, чтобы римляне на радостях подписались под совершившимся фактом, т.е. под общепризнанными на греческом Востоке привилегиями архиепископа имперской столицы.
Вот буква этого 28-го Халкидонского правила: "Следуя во всем за определениями св. отцов и признавая прочитанный тут канон 150 боголюбезнейших епископов, бывших в соборе (381 г.) в дни благочестивой памяти Феодосия в царствующем граде Константинополе, Новом Риме, то же самое и мы определяем и постановляем о преимуществах святейшей церкви Константинополя, Нового Рима.
Ибо и престолу древнего Рима отцы, как и подобало, дали преимущества потому, что он был царствующим городом. Следуя тому же побуждению, и 150 боголюбезнейших епископов предоставили такие же преимущества святейшему престолу Нового Рима, справедливо рассудив, чтобы город, получивший честь быть городом царя и сената и имеющий равные преимущества с древним императорским Римом, был бы, в соответствии с этим, подобно ему, возвеличен и в церковных делах и стал бы вторым после него.
И только на этом основании митрополиты округов Понтийского, Асийского и Фракийского, а также и епископы у иноплеменников вышеупомянутых округов пусть рукополагаются именно у святейшего престола святейшей Константинопольской церкви. Т.е. каждый митрополит вышеназванных округов с епископами этих округов должны поставлять епископов епархий, как предписано божественными правилами. A самые митрополиты вышеуказанных округов должны поставляться, как было уже сказано, Константинопольским архиепископом после того, как было совершено по обычаю согласное избрание (на месте) и представлено (Константинополю)".
Постановка вопроса о преимуществах Константинопольской кафедры была следствием ошибок императорской политики с точки зрения ее собственных интересов. Позволяя бороться Александрийскому епископу против Константинопольского на основе догматической, императорская власть нажила себе в лице Диоскора и политического противника. Теперь решено было, чтобы император взял покрепче в свои руки бразды церковного правления. A следовательно, и своего столичного епископа возвышал рядом с собой, а не унижал его престижа перед другими папами (Александрийским и Римским), как до сих пор неумно и легкомысленно делал Константинополь. По очень меткому суждению профессоров Ф. А. и С. А. Терновских, греки пережили не без смущения и своеобразного испуга решающую, а можно сказать, и подавляющую роль на IV Вселенском соборе истинного вождя православной мысли - папы Льва. Опасаясь, как бы не умалить перед Римом не только своей догматической, но и канонической чести, которую с явным легкомыслием Константинополь недавно унизил перед Александрией в деле Диоскора, а перед тем и в деле Златоуста. Узнав, конечно, о происшедшем постановлении, ибо из него не делалось тайны, римские легаты потребовали общего собрания собора на другой же день, 1 ноября. Оно и было последним пленарным заседанием. Выступили все три легата. Епископ Пасхазин, вообще, опротестовал постановление, ставшее потом известным под именем 28-го канона Халкидонского собора. Епископ Лукентий (Люценций) упрекал в забвении 6-го Никейского канона, где на втором месте поставлена кафедра Александрийская. Пресвитер Бонифаций напомнил наказ, данный легатам папой: не допускать никаких посягательств на решения Никейских отцов и отстаивать привилегии кафедры Рима, отклоняя всякие ссылки на знаменитость каких-либо городов (намек на Новый Рим). Прочитали 6-е Никейское правило, которое не отвечало на новый вопрос о ранге Константинополя, ибо в 325 г. не было еще и самой Константинопольской кафедры. Но в нем для латинян была дорога прибавка: "Римская церковь всегда обладала первенством", — прибавка, которую сама римо-католическая наука считает апокрифической (G. Bardy. Op. Cit., p. 239). Да и без всякой фальши никому в голову не приходило тогда возражать против всеми признанного исконного первенства авторитета Римской кафедры. Но римляне возражали против неизбежного нового, тоже органического факта особых привилегий епископа столицы империи. Отвергать их можно, только отвергая теократический союз церкви с государством. A утверждая этот союз, нельзя отрицать роли 2-го епископа в двуединой империи за епископом реальной столицы в то время, как первое место без всяких споров и сомнений навсегда признано было за идеальной столицей — за древним Римом, — помимо даже чисто церковного основания — первенства апостола Петра, тоже никем не отрицавшегося. Но обеспокоенные представители Рима усматривали в этом деле прямое оскорбление первенствующей апостольской кафедры. Епископ Лукентий заявил: "Апостольская кафедра не должна быть унижаема в нашем присутствии. Посему все, что было сделано вчера в наше отсутствие вопреки каноническим правилам, мы просим верховную власть отменить. Если нет, пусть наш протест приобщен будет к актам собора. Мы знаем, что именно надо доложить апостолическому епископу, первому во всей церкви, дабы он мог судить об оскорблении, нанесенном его кафедре, и о нарушении канонов". Эта формулировка есть прямое заявление апелляции легатов к папе на 28-е правило собора. Легаты усомнились, свободно ли согласились митрополиты Понта и Асии на эти высшие права Константинополя? Те утверждали, что да, свободно. Хотя Евсевий Анкирский и Фалассий Кесарие-Каппадокийский были не в восторге от подтверждения преимуществ столицы, но не хотели и не могли солидаризироваться с "римлянами" в этом протесте против Второго Рима. Разумеется, 28-е правило было потом отвергнуто папой Львом и никогда не признавалось римской церковью. Лишь в последних изданиях Corpus juris canonici [4] оно печатается особо, к сведению, как исторический документ.
Этот протест-апелляция выслушан был без всяких обсуждений, как акт бесспорно правомерный. И представители императорской власти немедленно закрыли это последнее заседание собора.
Но двор вместе с Константинопольским архиепископом и вообще греческими епископами был заинтересован в том, чтобы смягчить настроение папы Льва и, если можно, добиться от него признания 28-го канона. Приличный повод к тому открывался в процедуре "утверждения" папой привозимых его легатами с собора постановлений. В сущности, этот момент "утверждения" происходил и во всех других случаях, когда заместитель на соборе какого-нибудь незаметного провинциального митрополита привозил последнему на прочтение акты собора, вернее, важнейшие из них. Но римские архиепископы и позднейшие латинские канонисты извлекали из этого, по существу случайного факта нормативный принцип церковного права, будто бы традиционного, права папы утверждать своим согласием и подписью самый авторитет вселенских соборов, т.е. быть суперарбитрами над вселенскими соборами. Между тем данное "утверждение" в первую очередь означало только подтверждение правильности действий легатов папы. Папа задним числом дублировал их акт согласия с постановлением собора и подписи под ним. Такой же акт "утверждения" и подписи post factura давали и все другие епископы, как бы малы и провинциальны ни были их кафедры, если на соборе фактически присутствовали и голосовали их заместители — пресвитеры и архимандриты. Ни амастридскому, ни иконийскому, ни апамейскому и т. д. епископу и на ум не приходило возомнить в минуту утвердительной подписи под докладом своих заместителей, что этим он превозносится на высоту суперарбитра над вселенскими соборами. Но римское самоощущение было совершенно иным. И практика какбудто вполне оправдывала его. Так повелось с I Никейского собора, что папы освобождали себя от кипения в котле соборных страстей путем посылки своих заместителей. Им искренно был чужд еретический азарт Востока, и на соборы они смотрели несколько сверху вниз. Восток, как всегда, не понимал Запада, не интересовался им и не подозревал, что там растет и развивается иная экклезиологическая мистика: из простого технического факта римский дух уже заключал об особом превосходящем положении пап по отношению к вселенским соборам. A Восток, ничего этого не подозревая, продолжал бессознательно подписываться под всеми почетными формулами, какие ему предлагал Рим. Когда в IX в. Востоку пришлось платить по этим векселям, а он стал отказываться, то в глазах Запада он оказался нечестным отступником. И это глубокое непонимание Западом поведения Востока трагически длится до сего дня.
Одной из иллюстраций этого тысячелетнего взаимного недоразумения может служить и последний акт, вышедший из недр собора и морально могущий быть квалифицирован, как акт всего собора. Это — торжественное письмо всего пленума восточного епископата к папе Льву с ходатайством утвердить опротестованное его легатами 28-е правило. Письмо ультрадипломатическое, комплиментарное, рассчитанное на то, чтобы, по меньшей мере, смягчить непримиримую позицию легатов. Протест легатов, конечно, перешел в твердый протест самого папы Льва. Никоим образом не желая входить в столкновение с папой, император не торопился пока с актом утверждения всех деяний собора, ибо лишь после церковного утверждения он утверждал собор, как имперский закон. Анатолий должен был отправить самое нижайшее ходатайство об утверждении. Это образчик эпистолярной льстивости и, сверх того, признания особых преимуществ римского епископа в церкви, которое служило и поддержкой папских притязаний, и доказательством для Рима впоследствии, что греки сами изменили своей древней вере в первенство пап.
Члены собора писали папе: "Ты пришел к нам, как истолкователь голоса блаж. Петра, и на всех простер благословение его веры. Мы могли объявить истину чадам церкви в общности единого духа и единой радости, участвуя, как на царском пире, в духовных утехах, которые нам уготовал Христос через твои письма. Мы были там, около 520 епископов, которых ты вел, как глава ведет члены".
После столь торжественно-лестного предисловия — просьба о 28-м каноне:
"Мы доводили до твоего сведения, что мы декретировали некоторые другие меры в интересах мира и порядка в церковных делах и для укрепления уставов церкви, зная, что Твоя Святость их утвердит и одобрит. В частности мы подтвердили древний обычай, в силу которого епископ Константинополя поставлял митрополитов в диоцезах Асии, Понта и Фракии, и это главным образом не ради привилегий кафедры Константинополя, но чтобы обеспечить спокойствие в митрополитанских городах... Мы подтвердили канон собора 150 отцов, который гарантирует кафедре Константинополя второе место после твоей святой и апостольской кафедры... Мы были того мнения, что Вселенскому собору подобало подтвердить имперскому городу, согласно желанию императора, эти привилегии, убежденные в том, что, узнав это, ты будешь рассматривать их, как свое (собственное) дело, ибо все доброе, что делают сыны, есть честь для отцов. Посему мы молим тебя почтить наши декреты своим одобрением. И как мы присоединились к твоему декрету (о вере), так и Твое Величество да сделает подобающее по отношению к сынам твоим".
Разумеется, Рим остался глух к этой чуждой ему логике. Обе стороны, и латинская и греческая, виновны в различном (но без осознания этого различия) подходе к вопросу о смысле первенства апостола Петра среди апостолов и смысле первенства Римской кафедры.
Никаких облачений будущих пап апостол Петр не надевал ни на себя, ни на своих наследников. Антиохию он раньше Рима почтил своим первостоятельством. Но с легкостью покинул, не посеяв в сердцах антиохийских его наследников ни атома папистских претензий. Но Рим — совсем другое дело. Рим уже издавна был подлинной столицей всемирной культуры. Князь апостолов, сложив свою мученическую голову в эту чашу имперского величия, до краев переполнил ее. Сделал ее не "по плоти" только, но и "по духу" священной столицей всего христианства, новой и последней мировой религии. Это необратимый и чрезвычайно весомый факт. Историческое — а в пределах истории и провиденциальное — первенство Рима бесспорно. Но также провиденциально и изнеможение Рима и "омоложение" его путем удвоения II Римом на Босфоре. Константин создал его не без воли Божией. Близорука была реакция Александрии, её попытка удушить и захватить Константинополь, чтобы не дать ему второго места. Неудержимо было на всем Востоке признание своим вождем и своей главой иерарха новой столицы. Церковь не греховно и преступно, а вдохновенно и убежденно совоплотилась с государством, с империей во имя покорения Христу всей земной истории, не боясь материальной ее оболочки. Догматически правильное, антимонофизитское вдохновение.
Константинограду, или Цареграду, инстинктивно покорялись прежде сами того жизненно ярко не сознававшие и не хранившие своего апостольского знамени кафедры к востоку от него. В обширном диоцезе Понте, например, тянувшемся от Босфора до Евфрата, не было ни одного общепризнанного административного центра. Одни тяготели к Кесарии Каппадокийской, другие — к Анкире. Третьи решительно подчиняли себя Константинополю. В той же Малой Азии появились области и города, которые нашли для себя удобным и выгодным тяготеть к столице. Такова Вифиния, как часть Понтийского диоцеза, и входивший в Вифинию город Халкидон, оказавшийся пригородом Константинополя. Никея и Никомидия, расположенные на берегу Мраморного моря, также сочли себя в круге столичных интересов. Да и вообще епископы всей Малой Азии все время появлялись в столице, совещались со столичными архиепископами, окружали их кафедру, соборуя с ними по текущим делам. Сюда же приносили они и свои споры и вовлекали столичных архиепископов в их местные дела. Так около столичного архиепископа наросла уже целая патриаршая область.
На почве такой фактической практики 9-м и 17-м правилами данного Халкидонского IV Вселенского собора уже без всяких протестов легатов Рима сформулированы и утверждены правила, что для всех недовольных судом своих областных (диоцезальных) соборов установлена на Востоке высшая апелляционная инстанция в виде "престола царствующего града". Указывать на римскую инстанцию, как на высшую, никому и в голову не приходило. Для Запада — да, для Востока — нужды нет. Очевидно потому, что царство, охраняющее церковь и дающее внешнюю обязательную силу ее законам и судам, резидирует для всей империи (и для Запада) здесь, на Востоке.
Но, конечно, узаконивая полномочия Константинополя в смысле высшей апелляционной инстанции для указанных восточных диоцезов, собор и не думал расширять такое право апелляционного суда столицы на другие патриархаты: ни на Египет, ни на Сирию, ни на Иллирик в Европе. Новейшие толкования греков в смысле расширения верховных полномочий Константинополя (по аналогии с универсальными римскими) не могут ссылаться на букву данных правил, а должны быть мотивированы иначе, а именно вселенскими задачами церкви, по неизбежной аналогии с римским папством. Папство издавна поняло и формально осмыслило эту существенную задачу церкви. Умаленные турецким порабощением греки утратили на время сознание своих (как кафолической церкви) неотъемлемых миссионерских, апостольских, вселенских прав и задач в масштабе всего земного шара. Абсурдно думать о какой-то географической монополии римской и греческой церкви. Старая греко-римская "икумена" скончалась. Мир законно, если угодно, канонически принадлежит всем миссионерствующим христианам. И это надо с радостью приветствовать, ибо христианству тоже всемирно противоборствует миссия антихриста.
Но... возвратимся к нашему историческому повествованию. Папа на все софизмы анатолиева письма к нему решил ничего не отвечать. Тогда император заставил Анатолия писать еще и еще в том же духе, что "честь Константинопольской кафедры должна рассматриваться, как свет, заимствованный от Римской кафедры" и т. п. Писали Льву и Маркиан, и Пульхерия. Лев отписал с подробными мотивами о невозможности для него такого признания, ибо: а) мотив возвышения Константинополя светский, а не церковный (Мало ли где бывают столицы? Например, двор сейчас в Равенне. Нельзя же Равенну вознести над Римом), б) этим нарушались бы канонические права Антиохии и Александрии как апостольских кафедр, в) нарушались бы права чести митрополий, вопреки 6-му правилу Никейского собора, г) ссылка на 3-е правило Константинопольского собора 381 г. не имеет силы, так как этот собор не признан на Западе наряду с собором Ефесским 449 г., д) этот новый канон стал бы результатом неумеренного честолюбия, дурным примером для всякого рода притязаний и вел бы к анархии в церкви.
Так папа и не утвердил этот канон. И до сих пор он ставится в вину грекам со стороны латинян, как узурпация церковной власти.
Вопрос о 28-м правиле Халкидонского собора остается живым и жгучим до наших дней и внутри самой Восточной церкви. У нас беспрепятственно господствует национальный сепаратизм церквей и даже при случае прямая борьба с духом и буквой 28-го правила. Острым примером борьбы с ним является полемика на страницах "Журнала Московской Патриархии".
Победа 28-го правила Халкидонского собора в истории
Не получая папского утверждения, император Маркиан вынужден был отступиться и 7 февраля 452 г., наконец, утвердить все постановления Халкидонского собора. После этого и папа утвердил их, умолчав о 28-м правиле, как бы несуществующем.
На Востоке правило, конечно, вошло в силу. Считалось, что и папа раньше признавал возвышение Константинопольских епископов. 1) Если собор 381 г. в Риме не признавали вселенским, то почему об этом 70 лет молчали? Позднее все-таки все папы его признавали. 2) Почему в 449 г. легаты папы требовали на Ефесском соборе у Диоскора второго места для Константинополя и обижались за пятое место, на которое Флавиана посадил Диоскор? 3) Почему Анатолий Константинопольский в Халкидоне в 451 г. сидел на втором месте? Следовательно, это право чести легатами было признано.
В дальнейшей истории Западной церкви не только молчаливо, фактически (что, в сущности, достаточно для церковной рецепции), но и формально, соборно сила 28-го Халкидонского правила Римом была признана. Если не упоминать о 36-м правиле Трулльского собора (лишь временно и с колебаниями признававшегося древними папами), то при папе Николае I (дело Фотия и Игнатия) в 869 г. на Константинопольском соборе (для Рима это "VIII Вселенский собор") 21-м правилом было признано первенство Константинопольского патриарха после римского. Когда при папе Иннокентии III латиняне взяли Константинополь (1204 г.) и посадили на тамошнюю кафедру своего латинского патриарха, Латеранский собор ("XII Вселенский") постановил: "Возобновляя старые привилегии патриарших престолов, согласием святого универсального собора определяем, чтобы после Римской церкви имела первое место Константинопольская, второе — Александрийская, третье — Антиохийская и четвертое — Иерусалимская с сохранением каждой из них своего достоинства". Наконец, Флорентийский собор 1438 г. в декрете об унии постановил: "Патриарх Константинопольский будет вторым после святейшего Римского папы, Александрийский — третьим, затем четвертым — Антиохийский и пятым — Иерусалимский с сохранением всех их привилегий и прав". И, наконец, в римском "Corpus juris canonici" 28-е правило Халкидонского собора печатается на своем месте.
Вывод ясен, Римская церковь одобрила это правило. Да иначе и быть не могло. Отвергая этот факт (а не выдумку), Римская церковь подкапывалась бы и под факт своего первенства. Попытка папы Льва, побужденного его легатом епископом Лукентием, повернуть колесо истории к 6-му правилу I Вселенского Никейского собора (когда Константинопольской кафедры еще не существовало и когда первое место после Рима дано было Александрии) была противоестественным и антиканоническим безумием. Каноны строились на фактах и на обычаях. Так построена вся административная система церкви: все митрополии, диоцезы, патриархаты, применяясь к политическим и живым центрам жизни, а не к sedes apostolicae. Ибо и во Фригии, и в Памфилии, и в Филиппах, и в Коринфе, и на Крите были десятки епископских кафедр, основанных апостолами, а править ими стали епископы столиц, диоцезов и митрополий. Слава "кафедры апостольской" была только дополнительным к фактической власти усилением авторитета и украшением.
* * *
Вернемся, однако, к вершинной точке IV Вселенского собора, к его христологическому оросу. В чем его живое неумирающее и все разрастающееся значение для современного христианского религиозного сознания преимущественно восточно-православного и, может быть, в особенности для русско-православного?
Это благодарная тема для целых систем христианской философии, мистики, этики, аскетики. Наш долг здесь сделать только самые общие указания, точнее, только намеки на то, как, в каких преломлениях переживается нами теперь христологический догмат, — спасительная директива, который нам подарил орос IV собора?
Нам кажется, что даже и тогда, в V в., когда христологический догмат полыхал неугасимым пожаром в мозгах эллинизованных восточных народов, чисто философский, теоретический интерес к нему осознавался, строго говоря, только в школьно-просвещенном меньшинстве, т.е. у ведущей богословской элиты. В широких кругах и массовом сознании интерес к нему питался подсознательной, но не менее пламенной сферой религиозного чувства, т.е. господствующим тоном восточного благочестия. Для этого благочестия, для ощущения, так сказать, на ощупь, что свято и что не свято, что ведет к Богу и что уводит от Него, характерно острое, доходившее до границ дуализма ощущение противоположности, полярности Бога и мира не только как Творца и творения, Бесконечного и конечного, но и как Чистого и нечистого, Святого и грешного, почти как Добра и зла в онтологическом смысле. Это — подпочва, благоприятствующая незаметному искажению догмата Боговоплощения. Характерно, что в период христологических споров на видное место выступают монашеские армии в переносном и даже в буквальном смысле слова. Ревнителей аскезы вдохновлял главным образом не кенотический [5] идеал уничижения Бога до образа человека, а, наоборот, возвышение плотской природы до огня и света природы божественной, сублимирующей плоть до ее полного преображения и даже поглощения. Так на почве аскезы возникло благочестие монофизитского тона, а за ним и еретическое богословствование.
B противовес этому крайнему монофизитскому уклону, позитивная, спокойная мысль Рима устами папы Льва поддержала здоровое стремление антиохийского богословия и спасла должное равновесие в утверждении реальности двух природ во Христе. Через это здравое и трезвое богословие утвержден был и здравый критерий для определения нормы кафолического церковного благочестия. Оно предохранялось от опасности еретического, антикосмического, буддийского спиритуализма. Иначе говоря, в атмосфере православно-кафолической христологии, т.е. всесторонне гармонического богословствования о реальности двух природ во Христе, морально-практическая сторона жизни и отдельного христианина и всей церкви инстинктивно укладывалась в здоровое русло, чуждое еретического экстремизма. И это православие не в отчетливом теоретическом сознании, доступном только богословскому меньшинству, а православие на деле, в жизненно практическом инстинкте масс, и есть, и до сих пор остается новым, неумирающим переживанием того же древнего халкидонского догмата. В движении веков и переменах исторической среды изменялись только формы его осознания, только богословская его арматура.
Кроме положительной римской догматической помощи заболевшему монофизитским искривлением Востоку, противовесом и противоядием на месте в данный момент и в последующие века послужил и собственный общецерковный опыт Востока. Это был воспринятый мыслью и сердцем церкви теократический принцип благословенной связи церкви с Римской империей и ее культурой ради исторического служения Царству Божию. В этом догматически обоснованном и осмысленном теократическом идеале "симфонии" церкви и государства обе природы даны в совершенной полноте и в совершенном объединении без умаления одной за счет другой. Земная дефективная природа государства с его греховными человеческими и космическими материалами и небесная, божественная, чудесная природа церкви с ее мистической сущностью Тела Христова, иррационально соединены по образу тайны Боговоплощения без смешения и взаимопоглощения. Это — Халкидонский догмат в жизни церкви, воплощенный в ее практике, в ее морали и освятительно-литургической теургии. Ибо то, что по гуманитарно-этической мерке вполне нормально и даже совершенно, не удовлетворяет церковную совесть. По мудрому научению церкви, этически совершенно лишь то, что выдержано в литургической атмосфере церкви, что прошло через горнило ее освящающих действий и стало для нас мистически преображенным, уже не просто натуральным, профанным, но святым. Очами веры и в духовном опыте мы удостаиваемся изнутри церковного откровения узревать, по аналогии с существом Халкидонского догмата, истинно православный путь неизбежного, героического (ибо антиномического) сочетания божеского и человеческого начал, абсолютного и относительного, вечного и временного, святого и профанного. И это не только в мистагогии личного христианского подвига, но подвига общественного и культурно-творческого, всемирно-исторического, общечеловеческого, т.е. воистину вселенского.
Это практическое переживание Халкидонского догмата в задаче теократического созидания симфонии церкви и оцерковленной империи с включением в это понятие оцерковления всей жизни и культуры и пронесено древней церковью через средние века вплоть до новых, когда теократическая задача натолкнулась на своего великого, тоже вселенского противника, т.е. на безрелигиозный гуманизм, или секуляризм — эту великую всепроникающую ересь новых времен. Это — монофизитство навыворот: устранение или изгнание с поля деятельности государства и гуманистической земной культуры всякой религии, всяких мистических, божественных начал церкви. Формула этой ереси начинается с толерантного лозунга отделения церкви от государства, с допущения религии, как личного, частного дела каждого (Privatsache).
Далее она диалектически переходит в открытую борьбу и гонение. Это новое гонение на церковь есть результат новоязыческого, монистического sui generis "богословствования", идолопоклонничества перед материалистически понимаемым космическим бытием. Это материалистический монофизитизм.
Халкидонская проблема в понимании русских мыслителей
Выработала ли церковь нашей эпохи, наших новых времен ясный ответ на эту монофизитскую ересь в форме монизма, ответ доктринальный, ответ теоретического богословия? Надо признать, что ясного, церковно одобренного, общепринятого катехизического ответа мы еще не имеем. Но поиски его неудержимо начались и будут продолжаться, может быть, целые века, если какая-либо острая драма жизни церкви не побудит ее дать очередную соборную учительную директиву для решения этого вопроса.
Отсутствие до времени теоретического ходячего ответа на данную проблему, конечно, не значит, что церковь его дать не может. Всегда, во все времена церковь дает ответы своим верным сынам, богословствующим умом и сердцем в ее лоне, ответы практические, ответы самой жизнью церкви, ее духом, ее благочестием.
Это дело уже богословских мыслителей — извлекать из соборного сознания и даже подсознания церкви руководство в богословском творчестве в меру неотложных нужд самой церкви. И эта огромная, часто напряженная и вдохновенная работа богословов всех христианских вероисповеданий, особенно в XIX — XX вв., растет непрерывно. Не утопая в этом море литературы о взаимоотношении христианства и цивилизации, мы хотим здесь ограничиться только простым указанием (а не разработкой) на особый и своеобразный интерес богословской мысли этой проблемы в нашем, русском, православии.
История русской философской и богословской работы на эту халкидонскую тему может быть благодарным предметом обширного специального исследования.
Какие гениальные русские люди, какие крупные имена, какие яркие и оригинальные личности русской культуры стоят вехами на пути разработки великой тайны Богочеловечества, христологии в ее новейшем понимании и переживании! Сколько дерзновенных наскоков на Халкидонский догмат в его модернистских интерпретациях! И какое явное бессилие вопрошающих дать собственный удовлетворительный ответ на свой же вопрос!
Гоголь, страстно, религиозно-профетически захваченный служением Богу через искусство, надорвался этим излишеством привязанности к "миру сему". Попробовал с детской наивностью спроектировать в "Переписке с друзьями" шитый белыми нитками синтез крепостной полицейской государственности с православно-монастырским благочестием для неведомо какими средствами остановленного, замороженного в своей первобытности народа и пошел дальше, найдя прямое или косвенное поощрение со стороны своего духовника отца Матфея Константиновского. Ужаснувшись глубине своего погружения в пафос художественного творчества, он покаянно отверг все плотское и уморил себя голодом в подвиге спиритуализма. С молодости идя безоглядно по ультранесторианскому пути служения зову человеческой природы, он, опомнившись, изнемог на православном перепутье, на попытке связать человеческое и божье и, потеряв равновесие, соскользнул в спиритуализм, т.е. в монофизитскую ересь.
На муки Гоголя откликнулся архимандрит Феодор (Бухарев), профессор Московской и инспектор Казанской Духовной Академии. В глуши 40-х и 50-х годов он воспел необычайно патетический гимн сочетанию во Христе двух естеств и сочетанию в православии по образу этой тайны правды Царства Божия, как на небе, так и на земле в историко-культурном творчестве человечества. Другими словами, воспел гимн Халкидонскому догмату. Не убедил он в этом ни Гоголя, с которым переписывался, ни официальную цензуру, которая запретила печатание его трудов. Пылкий и непокорный он сложил сан и продолжал до смерти свою проповедь. Реабилитация православия Феодора Бухарева и объективная критика его построений ждет доброжелательного исследователя, который, наверно, спокойно докажет, что о. Бухарев, оправдывая во Христе светлые стороны культурного строительства, был чужд несторианского уклона, т.е. преклонения перед культурой, как самоценностью, а подчинял и покорял ее Христу в иррациональном синтезе. Халкидонская мерка оправдывала в главном и основном о. Бухарева, а не официальную цензуру, отвергшую такое богословие во имя монофизитского пренебрежения к правде человеческой. Достоевский тоже богословствует своими художественными образами. Всецело отдав свое сердце и волю в послушание православной церкви, он, однако, из недр своей совести протестует против монофизитского по своим тонам равнодушия церкви к земной правде, даже "почтительнейше возвращает ей билет на вход в царствие небесное", тайно помышляет, что Пресвятая Богородица включает в себя "мать-сыру-землю" и освящает ее, а в старце Зосиме изливает грезы своего сердца об откровении в православии оптимистического жизнелюбивого пути спасения. Все это не выходит за рамки схемы Халкидонского догмата, но в границах его сильно акцентирует правоту природы космоса и человека. Константин Леонтьев вскоре назовет это "розовым христианством" и противопоставит ему подлинное афонское православие, суровое до граней практического монофизитства.
В 70-е годы поднимается гигантская для данного вопроса фигура Владимира Сергеевича Соловьева. Философ по призванию, блестящий публицист, проповедник христиански-церковного мировоззрения, он в течение трех десятилетий настойчиво, ударно звал богословскую мысль русской церкви раскрыть конкретно в приложении к нашей исторической эпохе директиву Халкидонского вероопределения о соединении двух природ в процессе творческого делания христианского человечества в духе и силе теократии. Соловьев нетерпеливо метался и искал готовые формы этой теократии. Проделал поучительный опыт приятия теократии римской церкви. Ради этого дерзновенно, единолично в своем сердце соединял церкви. Но не в этих крайностях, изжитых им самим в течение — увы! — очень короткой жизни, его заслуга и огромное влияние на всю генерацию русских религиозных философов вплоть до наших дней и, вероятно, впредь еще надолго. Талант и заслуга Соловьева после быстрой победы над своим юношеским поклонением модному в 60-е гг. идолу материализма состоит в богатырской прокладке пути к идеалу "цельного знания", во всеобъемлющем синтезе философии и христианской догмы, в создании теократической церковной историософии при свете и на базе догмата о Богочеловечестве. Система Соловьева для православного богословия есть блестящая иллюстрация современного раскрытия неумирающей жизненности и спасительности Халкидонского догмата. Совершенно сознательно и прямо, опираясь на вероопределение IV Вселенского собора, Соловьев приписывает богочеловеческую природу и богочеловеческий смысл процессу земной истории человечества, включенной на том же основании в рамки общей космической жизни. И это он делает в противовес практическому искажению даже в православном догматствовании и православном практическом благочестии нормы полного богочеловечества, когда церковь безучастно уклоняется от активной роли в земной истории, влекомая односторонним духом монофизитства. Как борец против одностороннего, внеисторического уклона в богословии, Соловьев являет пример богослова-ортодокса, богослова-халкидонца. Но его идеи и построения внутри православных рамок Халкидонского ороса являются новым, свободным добавлением философа. Приветствуя ортодоксальные рамки, усвоенные Соловьевым как завет Халкидона, мы критически относимся к его богословским построениям внутри этих рамок. Ум человеческий, конечно, никогда не может остановиться в поисках разгадки тайны взаимоотношений Творца и твари, Бесконечного и конечного, Божества и человечества, хотя разъяснить эту тайну, как и тайну всякого догмата, нам не дано. Но посильный подвиг ума в прояснении бесконечного горизонта тайн, разумеется, лежит на святом пути служения истине Христовой. Соловьев на этом, так сказать, внутреннем фронте догмата, внутри халкидонских барьеров воздвиг две философские вехи: "всеединство" и "софиологию". "Всеединство" — это для него, как и для всякого философа, соблазнительно-универсальный, всеохватывающий, все венчающий фокус, в котором перекрещивается и которым связуется весь состав бытия относительного, а вкупе и... абсолютного! Вот этого salto mortale от конечного к Бесконечному никакой философский экстаз не обязывает нас допускать. Это один из болотных огоньков, заводящих философов в бесшумный провал на вершинах их последних достижений. Другой крылатый конь, не только рациональный, но и мистический, на котором Соловьев перелетает через страшный зев пропасти между Богом и миром, это давно заброшенная и полузабытая София. Повторяя тысячелетне-древние попытки и эллинской философии, и библейского хохмизма, и раввинской каббалы, и бурной гностической фантастики иллюзорно заполнить пропасть между Творцом и тварями, Соловьев избирает для этого орудием самый чистый, освященный библейским языком образ Софии, и этим по инерции надолго заражает наших религиозно-философствующих мыслителей и поэтов. Не споря о законных границах софийной мифологемы, мы здесь хотим только указать на коренную логическую порочность самого замысла найти в тумане "всеединства" и на крылах "софийного эона" нечто среднее между Единицей и нулем, между Сущим и ничто, Абсолютным и относительным, между Богом и всем, мыслимым вне Бога. Тут качественная, ничем количественно не заполнимая антиномия между плюсом и минусом, между да и нет. Никакой постепенностью, никакими мостами из эонов нельзя прикрыть онтологического назрыва между двумя полярностями. Это явный абсурд и самообман, будто можно онтологически сочетать Абсолютное с относительным путем постепенного вычитания из него неких частиц абсолютности с заменой их равновеликими частями относительности вплоть до полного перехода или превращения Абсолютного в относительное. Равно абсурдна и обратная процедура. На деле, каждая ступень или каждый момент такой процедуры есть просто момент упразднения бытия одной категории другою, а не их сочетания, объединения. Многостепенность таких процедур есть чистейшая логическая иллюзия, философский самообман. На нем построена вся импотентная фантастика гностицизма, его эономания. Но она совершенно бесполезна в постижении паралогической тайны соотношения Творца и творения. Тайна эта — непреложный факт. Она дана. Ее нельзя понять, а нужно просто принять, не лукавя нашим малосильным разумом. "Ни ходатай, ни ангел, но Сам Господи воплощься и спасл еси всего мя человека". Посредники по сущности, по бытию, посредники онтологические тут исключены. Никаким crescendo-diminuendo от твари к Богу et vice versa не создать сплошной непрерывности, и в любую из миллиметрических щелей проваливается, как в бездну, все построение. Если даже в мире вещей относительных мы вынуждены оперировать антиномиями, то как же не преклониться пред антиномией из антиномий и не перестать посягать на постижение разумом непостижимого? И идея "всеединства", т.е. ее незаконная претензия на слияние Абсолютного с относительным, должна быть отброшена в онтологические границы сотворенного космоса. Да, космическое бытие всеедино и не само по себе, а по воле Творца и "Вседержителя", всю тварь "содержащего", "животворящего", но ею никак не содержимого.
Соблазнив и запутав в гностико-пантеистические двусмысленности всю высокодаровитую школу своих учеников, сам Соловьев безупречен с точки зрения Халкидонского ороса в ортодоксальном утверждении принципа Богочеловечества, как светоча, озаряющего своими теократическими лучами историю человечества и всего космоса.
Философское творчество B. C. Соловьева высоко ценилось ортодоксальными богословскими кругами, как апологетическое служение среди безрелигиозного большинства русского общества. Ради этого исключительного, как бы профетического служения В. Соловьеву прощались и его колебания, и смена взглядов по отдельным вопросам, и даже его явное увлечение католичеством. Ждали его охлаждения и... дождались.
Темпераментным и острым противником В. С. Соловьева был К. Леонтьев, смелый, откровенный ненавистник идеала и духа западной культуры, гуманизма, прогрессизма, секуляризма. По контрасту и в полемике с Соловьевым он не допускал никакого мирного синтеза этих начал с христианством. Сам будучи страстным эстетом, он боролся в себе с этим, как ему казалось, дьявольским соблазном и закончил эту борьбу тайным, на деле — полуявным, постригом перед смертью. По сравнению со свободомыслящим, но халкидонцем Соловьевым, ультраортодоксал Леонтьев фактически оказался ревнителем монофизитского богословия.
Оригинальный современник этих двух антагонистов — Соловьева и Леонтьева, — оказавший значительное влияние на первого, Николай Федорович Федоров явил собой тип мыслителя и богослова, впавшего в ересь несторианскую. Освящение Федоровым научно-технического прогресса и возведение его в достоинство теургического процесса воскрешения из мертвых всех наших праотцев во Христе есть несомненное нарушение халкидонской заповеди равновесия двух природ и присвоение неподобающего примата природе человека и космоса.
По степени парадоксальности концепций и по характеру несторианского уклона рядом с Федоровым может быть упомянут В. В. Розанов. Солидарно с Леонтьевым, отмежевываясь от западнических симпатий Соловьева, Розанов, в противоположность Леонтьеву, увлекся полемикой с аскетизмом церкви до отступления от Нового Завета и даже в пользу язычества. Окарикатурив мистику церкви, как "религию смерти", он звал к "религии рождения и пола". Еретичествуя умом, В. В. Розанов в сердце никогда не расставался с православной церковью.
К несторианскому уклону следует отнести и литературно-философские построения Д.С. Мережковского. Подобно Розанову, он преувеличивает пессимистические и антикосмические стороны церковного благочестия и, повторяя В. Соловьева, возвышает оценку исторического строительства культуры меркой Богочеловечества. Но, преступая границы Халкидонского ороса, требует от церкви признания примата культуры и движущего ею Эроса, играя двусмысленным термином "святая плоть".
Бердяев, идя в том же соловьевском русле историософского истолкования принципа Богочеловечества и в молодости временно подпав под влияние Мережковского и Розанова, апеллировал к проблематическому "новому религиозному сознанию" и требовал от церкви участия в социальном реформаторстве. Но вскоре изощрил и углубил свое новаторство. Войдя по видимости в колею халкидонского равновесия, он не стеснял себя его границами и подземными и обходными путями выходил из них. Так, превосходя Мережковского тонкостью философской мысли, Бердяев выдвинул на линию Богочеловеческого процесса не неуклюжий вопрос об освящении плоти, а вопрос духовный — об освящении человеческого творчества и этим дал один из блестящих комментариев к соловьевской идее Богочеловечества. Равным образом в поисках разрешения антиномических тайн на путях "всеединства" Бердяев ушел от грубой ошибки затушевывания граней между Абсолютным и относительным. Но какой ценой? Он подземным путем покинул самую почву халкидонского антиномического двуединства. Ведомый бёмевским призраком Бездны (Urgrund), он признал в нем будто бы живой prius Самого Божества, Самой Св. Троицы, темное лоно Самой Божественности, где таится разгадка всех антиномий, даже самого Добра и зла. Опять перед нами философский самообман гностицизма, создающего иллюзию, будто бы антиномия, разжиженная на десяти водах, теряет путем ступенчатых переходов от одного полюса к другому свою качественную антиномичность, иррациональность или сверхрациональность.
С.Н. Булгаков, впоследствии отец Сергий, будучи в основных линиях своего религиозно-философского творчества учеником и продолжателем В. Соловьева, безупречно укладывается в рамки халкидонской ортодоксии, но внутри них, как и его учитель, он во всю ширь развертывает и доктрину всеединства, и доктрину софиологии. Соловьева превзойдет в этих смелых полетах богословствования Булгаков. Но наряду с победами, одержанными последним на полях спекулятивной философии, выступают неизбежно и те поражения, какие мы отметили у учителя его, В. Соловьева, т.е. иллюзорность роли Софии в постижении тайны творения, промышления и спасения мира, и соскальзывающее в пантеизм объяснение взаимосвязи Бога и мира.
Еще гармоничнее, еще осторожнее и безупречнее, с точки зрения Халкидонского ороса, развивает все ту же, поначалу соловьевскую, ставшую традиционной для русской религиозной философии серию проблем недавно ушедший от нас в лучший мир С.Л. Франк. Систематическое обобщение этой серии проблем с обычной и свойственной ему ясностью изложено в последней его книге "Свет во тьме". Ни атома софиологии Франком в его систему не допущено, но ласкающая философские сердца схема всеединства у него царит над всеми обязательными для христианина затруднениями в чисто богословских проблемах зла, первородного греха и искупления. Франк умолк на грани чистого богословия.
На данный момент мы не считаем необходимым приводить менее характерные иллюстрации работы русской мысли в той же области проблемы Богочеловечества. Здесь можно было бы назвать имена братьев С. и Е. Н. Трубецких, о. Павла Флоренского, Л. П. Карсавина и др.
Думаем, приведенных примеров достаточно для утверждения того, что в христианской философии и в православном богословии достопамятное вероопределение IV Вселенского собора продолжает ощущаться, как мудрое и спасительное руководство в тех же, по существу, христологических вопросах, которые, в специфическом, конечно, преломлении нашего времени, неотступно стоят и разгораются в православном сознании и преимущественно в русской философской и богословской мысли.
Монофизитство Востока после Халкидона
Суждения Халкидонского собора были обставлены гарантиями свободы мнения; даны были сроки для споров и размышлений. Хотя руководство светской власти было твердым, но когда возникло сомнение насчет некоторых выражений послания папы Льва, то дан был срок для совещаний и сговора. Императорские чиновники настояли, чтобы эти совещания были частными, а не в официальной обстановке заседаний собора, чтобы избежать всякой торопливости и давления на совесть отдельных членов.
Лишь через шесть дней, 17 октября, последовало второе чтение постановления, достигшее соглашения. И все-таки колебания еще продолжались. Через четыре дня опять перечитали проект ороса. Император указал предоставить возражателям и колеблющимся еще и еще отсрочки. Наконец, после новых просмотров ороса его текст был принят всеми. B истории соборов не было еще более скрупулезной охраны свободы суждений.
Император поэтому оптимистически верил в счастливые последствия собора: "Пусть замолкнут теперь всякие дурного тона (profana) состязания. Только совсем нечестивый может претендовать на право личного мнения по вопросу, о котором подали свой согласный голос столько духовных особ. Лишь совсем безумный может среди ясного белого дня искать искусственно обманчивого света. И кто поднимает дальнейшие вопросы, после того как истина найдена, тот явно ищет обмана (mendatium)". История обнаружила несостоятельность этого добросовестного оптимизма. Ни об одном соборе, не исключая и Никейского, не было столь тяжких споров. Он стал "знаменем пререкаемым". Вся политика императоров на целое столетие завертелась около одного вопроса: принимать или нет Халкидонский собор? Все противники императорской церкви стали называть православных или презрительным прозвищем "мелхиты" (т.е. "царские" — от "мелех" — царь), или "синодиты" ("халкидунойе" или "сунходойе").
На поверку оказалось, что легальное единогласие епископата на деле, однако, не привело к согласию самую массу церкви. Оказалось, что епископы не выражают настроения большинства. Правители, естественно, оказались компетентнее и мудрее масс, но массы не пошли за ними, стали им изменять. Живое понятие восточной соборности не может быть ограничено одной внешней формой. Учение папы Льва и Евсевия Дорилейского не оказалось просто мудрой серединой между Несторием и Евтихом. Восточный массовый мир воспринял его, как скрытое несторианство. Во всяком случае, считали, что есть другая формула православия — Кириллова, и она — привычная, своя. Но, как известно, именно на Халкидонском соборе 12 анафематизмов были замолчены и даже последующая согласительная формула 433 г. "из двух природ" была зачеркнута. Кирилл был принесен в жертву Льву. Вот сопротивление "кириллистов" и создало тяжелый монофизитский кризис.
Целых два века понадобилось для того, чтобы в новых тактических изворотах все время, в сущности, мирить "Кирилла со Львом" и в конце концов потерять огромные части церкви навсегда... Проблема обнаженной истины и тактики — икономии...
Когда позднее, при Юстиниане, предложена была формула "Един от Святой Троицы пострадал", было уже поздно. Требовали уже не мирить Кирилла со Львом, а пожертвовать Львом ради Кирилла.
Папские легаты, заостряя предлагаемые формулы и затушевывая бывшие в употреблении компромиссы (433 г.), еще раз доказали, что они не понимали психологии Востока. A что императоры ошибались в догматике (а не только в тактике) и очень грубо, им это простительно. Но у императоров была непростительная для них особая ошибка. Они были слепы в своей политической, небогословской сфере. Они упустили опасность сплетения монофизитского кризиса с национальными вопросами Восточной Римской империи.
Уже несторианство определилось, как национальное движение. Несториане сами назвали себя "халдейскими христианами", т.е. народом восточносирского языка.
Монофизитство задело тех же сирийцев, армян, коптов.
Вопросы национальные в Римской империи были давними и нерешенными. Двуединая империя даже в культурном ядре своем не имела и не достигла господства одного языка. На два языка она и распалась вместе с церковью. Неудивительно, что и окраинные народы ("языки") также отделились от нее во всех отношениях.
Греческий язык на Востоке нашел границы своей культурной победы. Особый отпор эллинизации выявился в Сирии. Отдельные города Восточного диоцеза, такие как Селевкия, Лаодикия, Антиохия, стали гордостью эллинизма. Императрица Евдокия, жена Феодосия, афинянка, желая сказать комплимент антиохийцам, выразилась: "Я горжусь тем, что принадлежу к вашему городу и к вашей крови". Но уже в окрестностях Антиохии народ говорил по-сирски. Сам Иоанн Златоуст, как пресвитер, в самой Антиохии должен был проповедовать по-сирски. A в деревнях пресвитеры говорили только по-сирски. В низах слово "румойе", т.е. римляне, означало "солдаты", т.е. напоминало о завоевании и иногда о жестокостях. Начать сепаратистскую интригу было на чем. И она вспыхнула.
В Александрии, по известиям мученических актов, христиане, живущие недалеко от Александрии, на суде не понимали допросов на греческом языке. Коптская масса окрасила и характер монашеского движения. И она была настолько живучей, что дала опору вождям для национального движения против империи в эпоху монофизитства. A затем сформировалась в особую нацию со своим признанным наместником, который в 640 г., в момент арабского нашествия, прямо предал Верхний Египет (выше Дельты) в руки новых завоевателей. Коптов было 6 миллионов (по другим известиям — 12 миллионов), а православных греков, большей частью пришлых, всего около 300 тысяч.
Так сложились факторы монофизитской реакции против Халкидонского собора. Первыми пришлось пострадать от антиэллинской реакции епископам, которые раньше недальновидно братались с такими монофизитами, как Ювеналий Иерусалимский и Фалассий Кесарие-Каппадокийский.
Податливый и покорный епископат, принимая нажимы римских формул, молчал. Но против голоса собора, не боясь императорских репрессий, поднялись люди смелые и бесстрашные — монахи. Началось с Палестины. Монах Феодосий восстал против Ювеналия, как "предателя веры". Предводимые им монахи кричали: "Кирилл предан, несторианство утверждено!".. Ювеналий сам привозил Феодосия, жившего раньше у Диоскора, на Халкидонский собор. Феодосий убежал с собора тотчас после подписания ороса и поднял в Палестине движение. Десятитысячное монашество Палестины (особенно в пустыне на восток от Иордана и Мертвого моря) в большинстве оказалось горючим материалом. Жили они не общежительно, а большей частью свободно, бродя и меняя места жительства. Усилия св. Евфимия [6] сорганизовать их и собрать в союзы были не особенно успешны. Это делало массу монашества довольно анархичной и с трудом признающей церковную власть. Но и в организованных городских монастырях оппозиция Халкидонскому собору нашла опору.
В Иерусалиме жила вдова императора Феодосия II Евдокия, хотя и очень образованная, но в языческой литературе, и едва ли подготовленная постигать богословские вопросы. Халкидон был для нее собором Пульхерии. Этого было достаточно для ее антипатии к этому собору. Хотя с мужем у Евдокии и произошел разрыв, но теперь это отошло на второй план. K Евдокии примкнул Геронтий, настоятель латинского женского монастыря на горе Елеоне, преемник Мелании. Ряд уважаемых авв примкнул к движению: Герасим из Рима, Петр из Иверии, пресвитер Исихий.
Произошел сговор вождей монашества, чтобы Ювеналия не принимали и чтобы избрать для Палестины нового главу, равно избрать и новых епископов на места "падших в Халкидоне".
Ювеналий прибыл во взбунтовавшийся Иерусалим. Все его меры оказались бесплодными. Монастыри заперлись и превратились в крепости. Тюрьмы были открыты, и город подвергся грабежам и пожарам. Начались убийства. Посягали на Ювеналия. Убили Севериана Скифопольского. Ювеналий бежал в Константинополь. Монах Феодосий провозглашен был епископом Иерусалима. Императрица Евдокия была душой этого революционного движения. Феодосий ставил епископов по всей Палестине. Движение и не упоминало своего богословского праотца — Евтиха. Кричали о спасении веры Никейской и Кирилловой, будто бы преданных папой Львом и Халкидонским собором. Монахи даже прямо осуждали Евтиха.
Военачальник комит Дорофей получил от правительства поручение усмирить бунт и восстановить Ювеналия. Монахи выступили против военачальника, сформировавшись тоже в армию, как некогда Маккавеи против Антиоха. Встреча войск произошла около столицы древней Самарии — Неаполиса-Наблуса. Переговоры оказались безуспешными. Началось сражение, монахи были разбиты, и Иерусалим взят manu militari. Ювеналия восстановили.
Но нужно было еще внутреннее успокоение. Предводитель Феодосий бежал на Синай. Петр Ивериец (из грузинских князей — личность многозначительная в истории еретического богословия) скрылся. Императрица Евдокия, пощаженная и нетронутая, продолжала с ожесточением вести агитацию. Императорская чета, Маркиан и Пульхерия, вынуждены были писать монахам. Попросили сделать то же и папу Льва. Папа писал и самой Евдокии. Ей же писали и некоторые царские родственники. Но Евдокия смирилась только под ударом судьбы. B 455 г. ее зять, западный император Валентиниан III, был убит при бунте. Рим подвергся разграблению вандалами. Ее дочь и внучек увели в плен в Африку. Пораженная Евдокия признала в этом кару Божию и ушла с поля церковной борьбы. Синайский беженец Феодосий был арестован, привезен в Константинополь, посажен в тюрьму, где вскоре и умер.
Смута продолжалась. B Каппадокии против Фалассия мутил монах Георгий. B самом Константинополе — ряд игуменов. Но особенно бунт разросся и углубился в Египте. Диоскор был уже сослан в Пафлагонию, в Гангры, где вскоре и умер. На его место под протекторатом префекта произведены были выборы нового епископа. Клир и высшее общество, до сих пор благоволившие провалившемуся Диоскору, приняли нового епископа мирно. Тем более, что выбранным оказался пресвитер Протерий — доверенное лицо Диоскора. Но монахи подняли чернь, которая кричала, что при живом Диоскоре незаконны выборы. Пришлось действовать войском. Но власть недооценила силы бунта. Войска отступили в Серапеум (в языческий храм и часть Университета). Но там их чернь осадила и сожгла живыми. Тогда правительство мобилизовало надлежащую силу, и город был завоеван. B наказание население африканской столицы лишено было казенной раздачи хлеба, бань и театров. Но "низы" продолжали сопротивляться Протерию. Получалось положение гражданской войны на явно вырисовывавшемся фоне национального сепаратизма.
Пришлось лишить мест за причастность к оппозиции и некоторых епископов. Но сама оппозиция не умирала под политическим прессом. Поводом к ее обнаружению послужила смерть Диоскора в ссылке в Ганграх в 454 г. Власти помешали бунтовской попытке выбирать Диоскору преемника при поставленном уже Протерии. Из столицы послан был в Египет силенциарий Иоанн со специальной задачей мирить оппозицию с Протерием, но успеха он не имел. Лидерами оппозиции были приверженцы Диоскора, устроители вместе с ним Разбойничьего Ефесского собора 449 г.: пресвитер Тимофей Элур и диакон Петр Монг [7]. Они осуждали Евтиха и его доктрину и ограничивались приверженностью только к Кириллу. Стало быть, они расходились в этом и с Диоскором, провозгласившим в Ефесе 449 г. Евтиха православным. Эти приверженцы Кирилла не хотели слышать ни о "двух природах", ни о томосе Льва, ни о Халкидонском соборе. Щадя Диоскора, поясняли, что он низложен не за ересь, а за дерзкое отлучение папы Льва. Да он и прав был в этом, ибо папа Лев — несторианин. Через силенциария Иоанна Тимофей Элур и Петр Монг изложили эти взгляды императору Маркиану. Но Протерий, законно защищая себя, должен был соборно того и другого низложить.
Перемены на троне и шатания императоров
Пульхерия умерла в 453 г., Маркиан — в 457 г. За пресечением потомков Феодосия власть на Востоке досталась генералу Льву I (457-474 гг.). Он пожелал, чтобы Константинопольский патриарх Анатолий короновал его. Анатолий охотно сделал это и в целях возвышения собственного положения — главы церкви Второго Рима, и в целях преображения обряда государственного в обряд церковной символики.
В Египте оппозиция, используя временное отсутствие военного губернатора, ездившего в столицу, спешно достала нужных епископов и, к радости толпы, посвятила в преемники Диоскору Тимофея Элура. Услыхав об этом, губернатор Дионисий вернулся и изгнал Тимофея в ссылку. Но бунт заставил его вернуть Тимофея и сделать попытку примирения с расколом, обеспечив таким образом мирное сосуществование двух партий. Но было поздно. В Великий четверг 28 марта толпа ворвалась в баптистерий церкви Квирина, где служил Протерий, и убила его. Затем долго издевалась над телом, таскала по улицам, подвешивала, по-дикарски глумясь, наконец, сожгла и развеяла прах по ветру. Таковы проявления всяких революций, в том числе и религиозных...!
Тимофей Элур остался в Александрии один. Измученная ссорами, часть приверженцев Протерия готова была примириться с Тимофеем. Но сам Тимофей, как орудие в руках крайних, не мог дать ни малейших уступок. Его положение требовало от него устранения всех без исключения епископов-халкидонцев. Даже сами александрийские клирики в Константинополе протестовали против таких крайностей. Но Тимофей послал в столицу других представителей ходатайствовать перед императором за революционное движение, во главе которого он оказался.
Тут сыграло спасительную роль 28-е правило Халкидонского собора, возвышавшее Константинопольского патриарха. Анатолий лично подходил бы для данного компромисса. Ведь он сам круто перешел от евтиховских симпатий к Халкидонской доктрине. Папа даже жаловался, что в Константинополе Анатолий мирволит "евтиховцам". Анатолий мог бы окрылить монофизитов, если бы высота его патриаршей власти не связана была с Халкидонским собором. Он должен был встать на защиту Халкидона и внушил это новому правительству.
Тем не менее правительству пришлось считаться с египетской "революцией". Убийцы Протерия были найдены и казнены. Но вопрос о Тимофее был отдан на тактически длительное расследование. Посланцы Тимофея Элура завязали в Константинополе связи даже с двором. Папа Лев заволновался. Он опасался, как бы не созвали нового собора для пересмотра Халкидона. Папа писал в Константинополь, Антиохию, Иерусалим, Фессалонику. Собора император не собрал, а прибег к анкете, или епископскому "плебисциту": 1) нужно ли держаться Халкидонского собора? и 2) признавать ли Тимофея Элура Александрийским архиепископом? К вопросам присоединены были мотивированные заявления от двух египетских партий. Епископы единогласно отвергли законность Тимофея. Против Халкидонского собора высказался лишь один митрополит Сидонский Амфилохий. Он и на Халкидонском соборе едва-едва отрекся от Евтиха. Были запрошены и популярные вожди сирского монашества: Симеон Столпник, Варадат и Иаков. Их ответы совпали с епископскими. Но двор боялся прямых мер, боялся египетской "революции". Начали упрашивать папу Льва, чтобы он смягчил свои комментарии к Халкидонскому оросу. Папа дружественно согласился и прислал в Константинополь новое большое письмо, в котором снова излагал весь спор и смягчал свои выражения. Тут нет "в двух естествах". Монофизитская формула критиковалась мягко. B приложенных текстах почетное место отведено Кириллу. Император с этим письмом отправил силенциария в Египет к Тимофею. Эту возможность мира Тимофей, увы, отверг. Демагогия взяла его в плен. Религиозная война неизбежно поднялась вновь.
Дуксу Египта Стиле дано было задание силой убрать Тимофея. На сторону властей встали "протерианцы". В сражениях погибли тысячи. Тимофей был арестован и увезен сухим путем сначала в Палестину, а оттуда — в Константинополь. Папа Лев стал опасаться, что с Тимофеем опять начнутся переговоры. Тимофей, однако, сослан был в Гангры, но за продолжение агитации — еще дальше, в наш Крымский Херсонес. Он жил там до 475 г., продолжая много писать против Халкидона, но подчеркивая и отвержение доктрины Евтиха.
Православные в Александрии избрали своего кандидата, по имени тоже Тимофей, а по прозванию — фамилии — Бело-шапка (Σαλοφακιολος, Ρалофакиол). Человеком он был привлекательным. Даже из толпы уличных противников его раздавались возгласы: "Хотя ты и не наш епископ, но мы любим тебя!" Тимофей Салофакиол, зная местные настроения, даже восстановил в диптихах поминание Диоскора. Оппозиция против него возглавлялась Петром Иверийцем, которому поручил свою церковь при изгнании Тимофей Элур. Вся оппозиция Тимофею Салофакиолу держалась тихо. Но временное равновесие было неустойчиво. Перемены на троне вновь вызвали войну.
Императоры Зинон (474-491 гг.) и Василиск (475-476 гг.). 1-е отступление от Халкидонского собора
Император Лев I умер в 474 г. Ему на смену выдвинули военного авантюриста из исаврийских варваров. Потомки пиратов, исаврийцы, были, наподобие современных курдов, разбойниками на дорогах. Император Лев I выдвинул их силу против германской опасности, дал их вождю, названному Зиноном, титул патриция и руку своей дочери Ариадны. От этого брака у Зинона родился сын Лев II, которого император Лев I провозгласил Августом перед своей смертью. Маленький пятилетний Август возложил на отца корону, и Зинон стал василевсом. Правление Зинона вызвало массу недовольства. И старая императрица Верина, жена покойного Льва I, также носившая титул Августы, выдвинула против Зинона конкурента в лице своего брата Василиска. Зинон бежал в 475 г. на Халки, оттуда — в свою Исаврию. Эта дворцовая революция сильно отразилась на церковных делах.
Патриархом Константинопольским с 471 г. был Акакий, человек ловкий и ревнитель своей власти, как епископа столицы. Зинон был под влиянием Акакия и держался Халкидонского собора. Но в окружении Василиска были приверженцы Тимофея Элура. Василиск вызвал из ссылки Тимофея Элура и решил смелым маневром ликвидировать египетскую и другие монофизитские революции.
Василиск издал Энкиклион по программе Тимофея Элура, в котором признал два Ефесских собора и отверг, как заблуждение Евтиха, так и "вероучительные новости" Халкидонского собора. Вызываемые для подписи этого акта епископы в подавляющем большинстве (свыше 500!) подписались. Несогласные низлагались, неподписавшие представительные персоны, даже светские, подверглись конфискации имущества и ссылкам.
Тимофей Элур упивался победой. Александрийские моряки, бывшие в столице, в Золотом Роге встретили Тимофея взвинченной манифестацией. Толпа запрудила дорогу, прося благословения. Апартаменты Тимофею были отведены в дворцовых постройках. Акакий был смущен. Тимофей Элур требовал уже себе торжественного входа в Св. Софию. Но константинопольские монахи спасли положение. Они закрыли перед Тимофеем двери всех церквей столицы. И... Акакий рискнул не подписать Энкиклион. Косвенно на подмогу Акакию пришло и недовольство "евтиховцев" борьбой с ними Тимофея Элура. Таким образом в столице Тимофей провалился. Ему посоветовали вовремя уносить ноги. Он сел на свой верный корабль и по пути в Александрию зазван был в Ефес. Это был город александрийских триумфов в борьбе с Константинополем: Кирилла против Нестория, Диоскора против Флавиана. Халкидонский собор здесь не любили за его 28-е правило. B Ефесе, в пику 28-му правилу, был поставлен епископом Павел. Акакий вмешался и удалил его. Тимофей Элур в Ефесе возглавил собор епископов Асии. Этот собор признал автономию Ефеса, якобы, нарушенную Халкидонским собором. Этот Ефесский собор объявил самого Акакия низложенным и послал о своих деяниях извещение императору. После этого Тимофей триумфатором прибыл в Александрию. Был вечер. Толпа встретила его при свете факелов. Тимофей Салофакиол был изгнан. Тимофей Элур "великодушно" позволил ему поселиться в монастыре в Канопе. И даже положил ему ежедневное грошовое содержание, к неудовольствию крайних. Останки Диоскора из малоазийских Гангр были перевезены в Александрию и положены в усыпальнице всех архиепископов.
Падение Василиска и возвращение Зинона (476 г.). Поворот к Халкидону
Патриарх Акакий оказался твердым на фоне нетвердости епископата. Он прозревал политическую неустойчивость власти Василиска. И решил переждать. Действительно, началось политическое брожение, захватившее даже Сенат. Посланные против Зинона в Исаврию два генерала (Илл и Трокунд — оба исаврийцы) вскоре сговорились с Зиноном. Этим был предрешен конец Василиска.
Между тем Акакий своим противлением Энкиклиону вызвал симпатии масс и особенно симпатии авторитетного подвижника Даниила — сирийца, подражателя подвигу Симеона Столпника. Никогда не сходивший со столпа (даже зимой — до обледенения) Даниил ради опасности, грозящей вере, сошел со столпа и участвовал в процессии вместе с Акакием, приведя в движение весь город. Василиск трепетал. Из Исаврии пришла весть об измене. Зинон приближался к Константинополю. Василиск в испуге издал в отмену своего Энкиклиона - Антиэнкиклион (Αντεγκυκλιον), возвращавший церковные дела в прежнее положение. Но это его не спасло. Зинон вошел в Константинополь. Василиска с детьми заключили в тюрьму в Каппадокии, откуда они и не вышли.
Таким образом Зинон принес иерархии освобождение от Энкиклиона, под которым были подписи свыше полутысячи епископов, предавших этим Халкидонский собор! Теперь эта иерархическая масса с радостью приветствовала свое освобождение от бывшего насилия. Очень поучительный и для наших дней урок...!
Тимофей Элур в Александрии не ожидал такого поворота. Он думал, что по традиции (Феофила — Кирилла — Диоскора) он восторжествовал над дерзким Константинополем. И вдруг "фараон" снова оказался побит! Власти уже ехали, чтобы арестовать и увезти его в ссылку, но старик заболел и умер (477 г.). Монофизиты успели устроить ему преемство. Из Элурова епископата в момент смерти Тимофея в Александрии находился лишь Федор, епископ Антинойский. Он и решил единолично рукоположить диакона Петра Монга во епископа. Петр Монг, совершив погребение Тимофея Элура, скрылся от ареста. Православный епископ Тимофей Салофакиол был вызван из неволи, водворен на епископском месте, и александрийские церкви силой власти переданы были ему. Но они пустовали. Народ был на стороне местного монофизитства и сопротивления Халкидону. Акакий извещал папу Симплиция о победе. Но Восток этой победе не поддавался. В Палестине и Сирии монофизиты усиливались и выживали халкидонцев. Египет пока шел по воле правительства, но там лишь немногие "приняли к сердцу Халкидон". Акакий знал, что при таком равнодушии большинства на нем, как на первенствующем епископе, лежит вся ответственность за ход вещей на Востоке. B этом он убедил Зинона, и тот на него всецело полагался, чтобы удержаться за Халкидонский собор. Но раз центр интереса полагался в политике, то и нельзя было ждать абсолютной церковной устойчивости.
B Сирии монофизиты также стяжали себе широкие симпатии масс. Здесь богословие эллинов в школе Антиохии было явлением "аристократическим", не отражавшим вкуса масс. Носителями местного народного духа были монахи, а не епископы. B верхах епископата здесь господствовал образ мысли несторианский, а в низах — монофизитский. Тут веял дух восточного дуализма и спиритуализма. Долго жил здесь даже докетизм. За аполлинарианство здешние монахи ухватились также вследствие умаления Аполлинарием человеческой природы во Христе. Как во II в. Ноит проповедовал савеллианство ради прославления Иисуса Христа, так и теперь "ревнители благочестия" находили μια φύσις более мистическим и более благочестивым лозунгом, чем δύο φύσεις. Ни Павел Самосатский, ни ариане здесь не были популярны из-за их "нечестивого" уклона в отношении прославления Иисуса Христа. Поскольку здешним аскетам казалось, что правительство, римская церковь и Халкидонский собор "несторианствуют", постольку их ревностность во славу Иисуса Христа считалась ими делом благочестия. Гарнак все монофизитство считает квинтэссенцией "греческого благочестия". А. П. Диаконов ("Иоанн Ефесский") склоняется к формуле — "продукт восточно-семитического благочестия". Последнее вернее.
События здесь также переплетались с династическими переменами. После своей женитьбы на Ариадне Зинон сидел в Антиохии в качестве командующего военным округом Востока на положении вице-императора. Около него нашел протекцию пресвитер из Халкидона по имени Петр Гнафевс (т.е. Валяльщик, Сукновал). Петр возглавил противохалкидонскую оппозицию и при благосклонном содействии Зинона выжил с кафедры Антиохии епископа Мартирия, который отказался от своего места, заявив: "Отказываюсь от клира бунтующего, народа непокорного и церкви оскверненной". Петра Гнафевса, захватившего Антиохийскую кафедру, константинопольское правительство императора Льва I послало в ссылку в оазис. По дороге он вырвался, прибежал в Константинополь оправдываться, но его посадили "под арест" к монахам-акимитам, к которым он сам ранее принадлежал. По смерти в 474 г. императора Льва I и Зинон не счел нужным его освобождать. Однако когда Василиск прогнал Зинона и вызвал Тимофея Элура, Петр Гнафевс был в 475 г. снова водворен на Антиохийскую кафедру, но в следующем, 476 г. Зинон победил Василиска и сослал Петра Гнафевса.
Поставленный правительством Зинона в Антиохию Стефан был убит монофизитской оппозицией во время богослужения. Правительство не осмелилось поставить нового заместителя и оставило кафедру вакантной. Такова была сила монофизитского напора. Антиохийской богословской школы как не бывало! Веяло силой сирской семитической толпы...
B Палестине преемник Ювеналия Анастасий охотно подписал Энкиклион.
Второе отступление от Халкидона
Победившие под знаменем Халкидона Зинон и Акакий все-таки видели силу антихалкидонской (монофизитской) реакции и в Египте, и в Сирии, и в Палестине. И во имя государственного и церковного единства фатально вступили на тот же путь компромисса и предательства Халкидона, какой был отвергнут ими в Энкиклионе Василиска.
Они увидели, что имперский мир требует религиозных уступок. Это значило разорвать с Римом. И политики Востока на это решились. Соблазнял момент временного умаления Рима. Рим был окружен германцами, отрезан от Константинополя и не понимал, что нужно для благоустройства Римской империи в ее целом.
B Александрии Тимофей Салофакиол затратил огромные усилия, чтобы устранить Петра Монга, но безуспешно. Власть ему совершенно не помогала. Тимофей Салофакиол озабочен был закреплением своей православной кафедры надежным преемником. С этой целью он отправил в столицу к императору своего кандидата, пресвитера Иоанна Талайю. Иоанн, прибыв в столицу, имел нетактичность завязать дружбу с патрицием Иллом (Ιλλους), исаврийцем. Зинон, как известно, обязан был своим троном этому патрицию, но к данному времени Илл стал уже противником Зинона. Из столицы за эту нетактичность Иоанна Талайю вернули в Александрию с обещаниями общего характера, не касающимися его лично. Однако после скорой смерти в 482 г. Тимофея Салофакиола Иоанн Талайя в Александрии был избран на его место. Он оказался неугоден ни "двору", ни новой линии поведения Акакия Константинопольского. С Акакием у Иоанна Талайи пошли нелады. Сам Иоанн Талайя, известив о своем избрании и Рим, и Антиохию, почему-то не послал официального известия Акакию.
Акакий соблазнился на план примирения с линией преемников Диоскора и Элура. Поэтому Константинополь не признал и Талайю. Тот, боясь участи Протерия, убежал в Рим. Новый префект Египта получил инструкцию вызвать из подполья Петра Монга и сговориться с ним на основе подписания нового документа с принятием в общение "протерианцев", т.е. всех православных. Этот новый документ и есть так называемый Энотикон Зинона. Редактирован он, по-видимому, самим Акакием.
Император Зинон обращается в форме письма к "жителям Александрии, Ливии и Пентаполя, к епископам, клиру, монахам и народу". Опечаленный настоящими раздорами и внимая просьбам о церковном единении, император заявляет, что он поддерживает "вероопределения Никейского 325 г. и Константинопольского 381 г. соборов и все, что сделано в Ефесе (??) против Нестория и против иных, кои позднее думали так же, как и он...."
"Да будет вам ведомо, что мы и повсюду сущие церкви не принимали, не приемлем и не будем принимать иного символа или вероопределения, кроме св. символа, изреченного 318 отцами, подтвержденного 150 приснопамятными отцами, коему последовали и св. отцы, собравшиеся в Ефесе, ниспровергшие нечестивого Нестория и его единомышленников. Оного Нестория, а равно и Евтиха, мудрствующих противно вышесказанному, и мы анафематствуем, приемля и 12 глав, изреченных блаженной памяти Кириллом Александрийским.
Исповедуем также, что Единородный Сын Божий и Бог, поистине вочеловечившийся Господь Наш Иисус Христос, Единосущный Отцу по божеству и единосущный нам по человечеству, снисшедший и воплотившийся от Марии Девы Богородицы, есть Един, а не два.
Единому мы приписываем чудеса и страдания, которые Он добровольно потерпел плотию. A разделяющих или сливающих или вводящих призрачность вовсе не приемлем, ибо безгрешное поистине воплощение от Богородицы не произвело в Сыне прибавления.
Всякого же иначе мудрствующего теперь или когда бы то ни было, в Халкидоне или на каком-либо ином соборе — анафематствуем".
Таким образом, в Энотиконе нет прямой речи ни об одном, ни о двух естествах. Но попутно упомянуто, что Господь, Единосущный Отцу по божеству, единосущен нам по человечеству. В сущности Энотикон совпадал с настроением восточного епископата. Из принятого в Халкидоне ороса он оставлял за скобками все формулы, о которых спорили и смысл которых не всем был ясен. Энотикон открыто канонизовал богословие Кирилла и его 12 анафематизмов. Историки церкви (Гизелер, Неандер и даже православный Папарригопуло) признают, что Энотикон — документ в сущности православный. Для чего же он тогда издан? Ясно, что в данной исторической обстановке он был изменой чистой ортодоксии. И, главное, не достиг своей цели — объединения. Замаскированно Энотикон хотел ликвидировать томос Льва и орос Халкидона, за которые 30 лет правительство держалось, как за знамя православия.
Петр Монг признал Энотикон и был признан патриархом Александрийским и принят в общение Константинополем. Но природа вещей была безнадежнее. Монофизиты не признали Энотикон достаточным. Им мало было умолчания о томосе Льва и Халкидоне. Им нужно было громить эти формулы. Оппозиция (теперь уже своему патриарху) опять подняла вопли. Петр Монг начал приспособляться. Он вычеркнул из диптихов имена Протерия и Тимофея Салофакиола. Тело Салофакиола было унесено из общей усыпальницы. Петр Монг должен был говорить проповеди в прежнем стиле и уверять, что он взглядов не изменил. Он даже говорил против Халкидона, но без анафем, конечно, ибо око власти следило за каждым словом. В то же время он писал Акакию Константинопольскому письма, полные почтения к Халкидонскому собору. Но приверженцы Петра Монга в противовес сфабриковали подложную переписку, в которой будто бы Акакий Константинопольский "валялся в ногах" у Петра Монга, прося прощения и допущения к общению. Ведь оскорблено было александрийское самолюбие.
Оппозиция не успокоилась. Петр Монг вынужден был подвергнуть церковному наказанию некоторые монастыри. Те пожаловались императору. В Александрию командирован был чиновник Косьма. Низовая оппозиция устроила грандиозную манифестацию. Около одной загородной церкви собралось 30 тысяч монахов (а у римской власти не хватало солдат для защиты пограничных областей). В город эту монашескую армию не впустили. Заставили ограничиться двумястами делегатами. Их впустили в церковь, где Петр Монг вынужден был не без ухищрений доказывать, что он отмежевывается и от папы Льва, и от Халкидона. Размагниченные монахи признали Петра Монга неповинным в заблуждении, но не приняли его лично за общение с Акакием и другими "халкидонитами" и пришли к выводу, что они должны избрать себе нового архиепископа. Власть энергично это запретила. Тогда монахи и солидарные с ними массы откололись от Петра Монга. Их вождем был монах Нефалий. Таким образом, Энотикон не принес мира даже такому антихалкидонскому Александрийскому патриарху.
В других патриархатах тоже не получилось умиротворения.
Антиохийский патриарх Каландион не хотел принимать Энотикона. Его защищали временно политические обстоятельства. Патриций Илл получил почетное удаление от двора на Восток. Туда же прибыл фракийский генерал Леонтий. Илл выдвинул его, как конкурента Зинону на занятие трона. Для этой интриги было использовано пребывание в Исаврии тещи Зинона, императрицы Верины. Илл привез ее в Таре и уговорил короновать Леонтия. Иерархи Востока должны были признать Леонтия. Но когда Зинон победил Леонтия, Каландион был сослан в оазис. Петр Гнафевс был вызван из ссылки и в четвертый раз водворен на Антиохийскую кафедру. Он принял Энотикон. Но у него, как в Александрии у Петра Монга, также образовалась оппозиция крайних...
Это Петр Гнафевс (Сукновал) ввел на литургии чтение Никейского символа веры с тенденцией против Халкидонского собора. Он же ввел в Трисвятом пении добавки: "Распныйся за ны". Это было заменой формулы "Бог пострадал", намек на "единое естество". Это "распныйся за ны" стало лозунгом, "военным кличем" монофизитства, как в свое время у донатистов — "Deo laudes!"
Другие сирские епископы в большинстве подписали Энотикон и вошли в общение с патриархами Антиохийским и Александрийским.
B Палестине преемник Ювеналия Анастасий с собором своих епископов приняли перед тем Энкиклион Василиска. Сменивший Анастасия в 478 г. Мартирий также принял Энотикон и отрекся от Халкидона. Но и здесь, как в Александрии и Антиохии, оппозиция крайних (монахов) была против всяких компромиссов и не удовлетворилась Энотиконом.
35-летнее разделение церквей (484-519 гг.) из-за Энотикона
Папа Симплиций все время упрашивал столицу изгнать Петра Монга. Каково же было его изумление, когда он в 482 г. получил известие о непризнании избранного на Александрийскую кафедру Иоанна Талайи и продвижении на его место Петра Монга. Папа написал императору об отмене такого назначения и Акакию — об осведомлении: в чем дело?
Акакий не ответил ни слова (!). Папа Симплиций болел и скоро, в 483 г., умер. В это время прибыл в Рим Иоанн Талайя и подал папе формальную жалобу на Акакия. Новый папа Феликс III реагировал чисто в римском духе. Он послал в Константинополь двух епископов и одного юриста (дефенсора Тутуса) с письмом к императору и Акакию. Посольству даны были инструкции держать связь с акимитами, как твердыми защитниками Халкидона. Легатов сразу по прибытии в Константинополь взяли под почетный арест. Письма у них отобрали, убедив отдать их добровольно. Те сдались и согласились сослужить с Акакием. В их присутствии Акакий внес имя Петра Монга в диптихи. Это значило, что римская церковь публично признает положение, созданное Энотиконом. Но акимиты возмутились этой дипломатией и донесли в Рим. Возвратившиеся легаты нашли папу уже осведомленным и разгневанным. 28 июля 484 г. Римский собор из 77 епископов низложил легатов и отлучил их, а также низложил и дерзкого патриарха Акакия. В вину Акакию вменялось то, что он позволил императорской власти распоряжаться судьбой Халкидонского собора, не известив папу, который был одним из создателей этого собора. Сверх этого Акакий виноват в том, что не откликнулся на запрос папы и злоупотребил доверчивостью папских послов. "Multarum transgressionum reperivis obnoxius", — писал папа в отлучительном письме. "Ты лишен священства, отлучен от кафолического общения и от числа верных. Ты не имеешь больше права ни на имя иерарха, ни на священные действия. Таково осуждение, которое налагается на тебя судом Духа Святого и властию апостольскою, носителями каковой мы являемся".
Но на Востоке трудно было провести в жизнь этот строгий приговор. Это был разрыв не с Акакием, а co всей Восточной церковью. Но, конечно, не папа Феликс его создал. Он его лишь выявил. Скрытно его создал Акакий. Он соединился с монофизитами, презрел Халкидонский собор и так же скрытно презрел Рим. Ничего не сообщил Риму и даже не ответил на прямой запрос его. A неприятности, вытекавшие из этого разрыва, переложил на папу.
Акакий, конечно, мыслил себя главой всей имперской церкви. Получив форменное право на власть в Понте, Асии и Фракии, он не стеснялся вмешиваться и в дела Иллирийского диоцеза и даже Антиохийского. Он поставил в Тир митрополитом Иоанна Кодоната. Патриархи и Антиохийский, и Александрийский были утверждены по его воле. Для Рима это была новая система единства церкви, устранявшая римский примат. A на Востоке жили, не думая о Риме. На Западе "восточные" созерцали картину своего рода эсхатологическую: водворение множества варварских государств, и притом еретичествующих арианских. Единственной христианской империей мыслили Восточную с центром в Константинополе и не нуждались в управлении с Запада.
Дефенсор Тутус был уполномочен Римом привезти в Константинополь беспощадный папский приговор. Тутусу удалось тайно проскочить через проливы и тайно передать приговор акимитам. Смельчаки из акимитов ухитрились приколоть копию приговора к омофору [9] патриарха во время служения его в Св. Софии. Акакий наказал виновных и вычеркнул имя папы Феликса из диптихов. Так начался 35-летний разрыв церквей.
Когда сошли со сцены деятели разрыва, в Константинополе тотчас же выявилось течение, стремящееся к его сглаживанию.
За этот период папы и архиепископы Константинополя иногда обменивались письмами, дипломатически холодными, с напоминаниями о взаимной неправоте. Император Зинон умер в 491 г. Преемником его стал силенциарий Анастасий (491-518 гг.), человек благочестивый. Императрица Ариадна вышла за него замуж и короновала его. Анастасий имел симпатии к монофизитству и рассчитывал на компромиссах с ним разрешить имперские затруднения, т.е. в сущности продолжал линию Зинона и Энотикона, все время усиливая ее против Халкидонского собора.
Рост монофизитства в Константинополе. Севир
B это время выдвинулся на сцену выдающийся среди монофизитов человек — монах Севир. Уроженец Созополя (Писидия), он прошел литературную школу в Александрии и юридическую в Вирите (Бейруте). Крестился взрослым в Триполи (488 г.), принимая Энотикон. Постригся в монашество в монастыре у акефалов [10] в Майюме около Газы, где держалась традиция Петра Иверийца. Севир предался жестокой аскезе до подрыва здоровья. Затем основал свой монастырь и при этом получил священство от руки епископа Епифания из Памфилии, лишенного места за неприятие Энотикона по монофизитским основаниям. Монахи Майюмы жили, однако, в мире с клиром Иерусалимской церкви, принявшим Энотикон. Но они были в сущности монофизитами. Иерусалимский епископ Илия за это начал теснить их. Зная атмосферу константинопольского двора, Севир с 200 собратиями явились с жалобами в Константинополь. Нашли здесь протекцию и засели на жительство на целых три года. B Константинополе между двором и патриархом Македонием создалось глухое разногласие. Православный народ поддерживал слух, что мать императора — "манихеянка" (монофизитка), и с ней единомыслен и сам император. Действительно, двор предложил Македонию собрать собор и отвергнуть Халкидонский орос. Македоний ответил, что он согласен на собор, но под председательством старейшего епископа, т.е. римского. Македоний был человеком святой жизни и был очень популярен. Враги грозились даже убить его. Таков был накал страстей, когда прибыл сюда Севир со своим окружением. Около Севира сконцентрировалось все монофизитство Константинополя, давая всем знать, что симпатии императора с ними. Севир, как ученый-богослов, показательно размножал свое литературное творчество, писал против грубых крайностей: против евтиховцев и против мессалиан, но наряду с этим развивал и монофизитские аргументы против Нестория и Халкидонского собора. A Севировы монахи, втершиеся в придворную церковь, ввели там знаменитое "Трисвятое" с "распныйся за ны". Делали попытку провести это и в Св. Софии. Но народ, обиженный за своего оскорбленного патриарха, дал отпор. Толпа с женщинами и детьми под предводительством православных монахов шла по улицам ко дворцу с кликами: "Христиане! Настало время мученичества. Не покинем нашего отца!" Император Анастасий уже думал о бегстве...
Македония потребовали во дворец и попросили для снятия подозрения в возбуждении бунта подписать Энотикон и сделать заявление о замалчивании соборов Ефесских и Халкидонского. Этим его поссорили с православным монашеством. Попав в эту ловушку, Македоний отправился в монастырь Далматия и там торжественно засвидетельствовал свою верность Халкидону.
Император Анастасий решил убрать Македония. Подготовили военную силу. Заперли вход в город от монахов извне, особенно акимитов. Приготовили клеветнические обвинения и подобрали собор (!) 511 г. для низложения Македония. Все для ссылки заготовили заранее. На другое утро Македоний был увезен в Евханты (северный берег Малой Азии). Хотели даже возвести на его место самого Севира (!). Но избранным оказался Тимофей, все же угодный монофизитам. Тимофей начал с внесения в диптихи имени патриарха Александрийского...
Но эти капризы Анастасиева упорства были "последними тучами рассеянной бури". Раскол с Римом устарел, изжил себя!
Конец 34-летнего раскола с Римом (484-518 гг.)
Македония чтили. Против Тимофея было сильное течение в высшем обществе: Оливрия, жена генерала Ариовинда (царского рода из фамилии Феодосия), сама императрица Ариадна, племянник императора, его жена и др. Но старый Анастасий упорствовал. По его приказу в Св. Софии ввели 4. 11. 512 г. монофизитское "Трисвятое". Раздались протесты. Протестующих полиция побросала в тюрьму. И в других церквах тоже раздались протесты. Патриарх Тимофей назначил демонстративную процессию с пением монофизитского "Трисвятого".
Но толпа преобразилась и закричала: "Долой Анастасия, Ариовинд — император!" Толпа убила монофизитского монаха и понесла голову его на пике. Статуи Анастасия низвергались. Собрались на форуме Константина. Сенаторы выслали парламентеров. Их встретили градом камней. Подожгли дома. Хитрый Анастасий укрылся во Влахерне и выждал три дня, пока путем разных воздействий бунт не рассосался.
Всем этим воспользовался офицер дунайской армии Виталиан. Он собрал силы гуннов и болгар и с 60 тысячами приблизился к Константинополю (513 г.), требуя возвращения Македония и удаления прочь Севира. Анастасий путем переговоров успокоил было Виталиана, но не сдержал своего слова, и началась война. Виталиан — уже с флотом опять подошел к Константинополю. Пришлось дать ему военачальство во всей Фракии, титул magister militum и обещание собрать собор в Ираклии под председательством папы римского. Анастасий созвал собор и, как это ни было ему тяжело, предложил папе примирение. Но непримиримый папа Симмах как раз умер в 514 г. Новый папа — Гормизд — был более сговорчив. Он послал двух епископов-легатов, которые пробыли около года в Константинополе. Собор не состоялся, ибо у Анастасия прошел страх перед Виталианом. Войска и флот Виталиана расформировались. Но Анастасий боялся открытого разрыва с Римом. Он писал и Римскому Сенату, объясняя свою позицию, как православную. Тогда папа вновь послал в Константинополь легатов. Но Анастасий обошелся с ними неблагосклонно. Он не принимал римской команды.
9 июля 518 г. во время страшной грозы от разрыва сердца скончался старый Анастасий. Сенат провозгласил императором префекта дворца, курапалата (cura palatii) Юстина. Он был иллириецом, родившимся около Скопле, владел лишь разговорным латинским языком и был неграмотен. Но при этом учитывалось, что в своей деятельности он будет неразделим с его племянником, уже 35-летним Юстинианом, получившим блестящее образование. Оба они пеклись о Халкидоне, сочувствовали Виталиану и протестам папы. Виталиан был возвышен. Он немедленно ополчился на Севира — обещал отсечь ему язык за его речи. Севир бежал и укрылся в Египте.
В Константинополе выявилась присущая ему реакция в пользу Халкидона. Анастасий умер в понедельник 9 июля, а в воскресенье 15 июля патриарх Иоанн, входя в Св. Софию, был встречен бурными возгласами: "Прославить Халкидонский собор! Возносить имена патриархов Евфимия, Македония, папы Льва! Послать синодику (объединительную грамоту) в Рим! Осудить Севира!"
"Многая лета патриарху, многая лета государю, многая лета Августе! Вон Севира! Вон Амантия (старшего камергера Анастасия)! Ты вполне православен. Провозгласи анафему на севириан! Провозгласи собор Халкидонский! Чего тебе бояться? Юстин царствует. Если любишь веру, анафематствуй Севира и провозгласи собор! Иначе — двери заперты и мы не выпустим тебя". — "Подождите, братие, дайте поклониться алтарю, — отвечал патриарх. — Вы знаете мои труды по православию еще во времена пресвитерского служения". Но все присутствующие кричали: "Анафема Севиру! Провозгласи анафему! Мы не выпустим тебя. Сейчас же объяви!" И анафема была произнесена.
На другой день народ опять кричал: "Вон манихеев, анафема Севиру! Послать общительную грамоту в Рим! Учредить празднество в честь Евфимия и Македония! Внести в диптихи четыре собора!" Патриарх заявил, что все это надо сделать канонически, подождать собора и согласия императора. Но народ кричал: "Двери заперты, впишите в диптихи отцов четырех вселенских соборов!"
Народ начал богослужение пением псалма "Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людем своим". По окончании псалма запели "Трисвятое" без прибавления "распныйся за ны". Народ с благоговением слушал архангельскую песнь. Дальше продолжался чин литургии. После возгласа "двери, двери!" был прочитан символ веры. Затем все стали в строгом порядке придвигаться к амвону и услышали после поминовения Никейского, Константинопольского, Ефесского, Халкидонского соборов также имена архиепископов Евфимия, Македония и Льва. Вся масса воскликнула: "Слава Тебе Господи!" — и отхлынула от амвона.
Для оформления этого перелома был созван в Константинополе собор под председательством Ираклийского митрополита. Протокол собора послали в Иерусалим, в Епифанию и православному митрополиту Ефрему в Тир. Те быстро откликнулись и донесли о симпатиях их народа к примирению с Римом. Положительные отклики получили и из Сирской Апамеи, и даже из Антиохии. Пример Константинополя освободил умы и совести всюду, кроме Египта.
Итак, Константинополь воспринял программу Виталиана — воссоединение с Римом. Юстин отправил с комитом Гратом донесение папе Гормизду с предложением, чтобы приехал и сам папа. Направлены были письма и императору Теодориху. К папе написали письма не только император Юстин и патриарх Иоанн, но и молодой Юстиниан. Последний не был еще соимператором, но фактически, очевидно, уже считался таковым. В начале 519 г. Рим прислал делегацию. В ее составе был диакон Диоскор родом из Александрии, специалист по греческому языку и восточной церкви, пользовавшийся абсолютным доверием папы Гормизда. Ни на Востоке, ни на Западе собора не просили, и папа думал достичь цели более простым, римским, путем. Он прислал свое мнение в форме папского libellus для простой подписи восточных епископов поодиночке. Для Востока такая форма звучала ультиматумом. Вот что предлагалось папой для простой подписи.
"Первое условие спасения, — пишет папа, — состоит в соблюдении правила православной веры и держании отеческих преданий. Поскольку не может быть отменено изречение Спасителя "ты еси Петр и на сем камени созижду церковь Мою", то сказанное подтверждается и на самом деле.
На апостольском престоле всегда невредимой сохраняется православная вера. Не желая отпадать от этой веры и следуя во всем установлениям отцов, мы предаем анафеме Нестория, Евтиха, Диоскора, Тимофея Элура и Петра Монга Александрийских, подобным же образом и Акакия, бывшего епископа Константинополя, ставшего их сообщником и последователем, а равно и тех, которые упорствуют в общении и соучастии с ними.
Посему, как мы выше сказали, следуя во всем апостольскому престолу, мы и проповедуем все, что определено им, обещаясь в будущем времени не поминать при совершении св. таинств имена отлученных от общения кафолической церкви, т.е. не соглашающихся во всем с апостольской кафедрой.
Если же я от этого исповедания позволю себе сделать какой-нибудь обратный шаг, то и сам подпадаю под осуждение тех, кого я сам осудил".
Этот метод подписания с закрытыми глазами папского либеллуса был свидетельством глубокого провинциализма тогдашнего Рима, его наивности и слепоты. С самой границы фактического Востока, хотя еще и в формальных пределах римского патриархата, а именно побережья Адриатического моря, епископы Авлоны, Диррахиума и далее до Фессалоники и островов Архипелага — все, как сговорились, не подписывали либеллус, ожидая, что сделает Константинополь. Константинополь встретил легатов с помпой. Сами Виталиан, Юстиниан и сенаторы встретили легатов за 10 миль от города. Но легаты не пожелали вступить в общение с патриархом, пока не будет выяснено полное согласие с тезисами папы. Никаких обсуждений легаты не допускали. Императорская власть потребовала подписи патриарха Иоанна на другой же день. Патриарх просил изложить папский текст в иной форме. Император объявил иерархии ультиматум. Патриарх сдался. За ним последовали и епископы, собравшиеся в Константинополе, и игумены монастырей, но... эта жертва для Востока оказалась непомерной. Ведь требовалось анафематствовать имена не только Акакия, но и следующих за ним патриархов столицы: Фравиты, Евфимия, Македония и Тимофея, из коих Евфимий и Македоний чтились уже святыми. Но ультиматум императора попробовали выполнить.
Перед Пасхой 519 г. легаты вошли в храм св. Софии и сами на престоле вычеркнули из диптиха имена патриархов, указанные папой. На пасхальной неделе народ видел общение патриарха Иоанна с легатами. Казалось, римляне добились полного успеха. Но это только казалось. Вне Константинополя дало себя почувствовать неудержимое сопротивление такому огульному осуждению всех глав столицы, начиная с 484 г., в течение 37 лет состоявших в общении с Акакием. Терпение лопнуло. Из Ефеса раздалось даже осуждение Халкидонского собора. B Фессалонике, когда туда явился из Константинополя один из папских легатов, епископ Иоанн (это было осенью 519 г.), Фессалоникский епископ Дорофей и пресвитер Аристид прямо подняли народную тревогу, пугая предстоящим гонением на православие. Дорофей в целях возбуждения народа на своем местном соборе постановил прибегнуть к крайней мере — прекращению богослужения в окрестностях Фессалоники. Городской и окрестный народ приглашен был ввиду гонения окрестить всех еще не крещенных младенцев. Крещено было сразу две тысячи. Пред гонением нужно было запастись святыми дарами. И дары корзинами раздавались в кафедральной церкви. В эту накаленную атмосферу попали легат епископ Иоанн и вновь назначенный сюда комит Лициний, ревностный сторонник соединения с Римом. Легату на местном соборе предложено было изменить некоторые пункты и выражения либеллуса. Тот отказался. После этого хозяин, у которого остановился легат, известный как приверженец Халкидонского собора, был осажден толпой в собственном доме и убит. Легата при этом ранили в голову. На другой день легат под охраной властей покинул Фессалонику. Папа Гормизд, конечно, был возмущен и требовал на суд в Рим и Дорофея, и Аристида. B этом император ему отказал, но вызвал виновников в Ираклию для расследования дела. B порядке судопроизводства Дорофей даже сам писал папе. Между прочим он указал на то, что именно он спас жизнь легату. После судебного разбора Дорофей не был устранен, и даже преемником его затем был утвержден Аристид. Так и пришлось Риму примириться с тем, что единение с ним не означает для Востока покорности "под нозе" Рима.
Папа Гормизд (514-523 гг.) вскоре увидел, что римская линия бессознательной православности, конечно, спокойнее. Но, увы, природа человека шире и беспокойнее. Она требует соглашения веры со знанием и с разумом, чего не было на Западе, и что на Востоке имелось с избытком. По пословице, сытый Запад не разумел голодного Востока. Налаженное единение опять подверглось риску из-за вопроса чистой доктрины.
За знамя Халкидонского собора всегда боролись некоторые монастыри Константинополя. Особенно акимиты (т.е. "неусыпающие"). Ратуя против Кириллова богословия, они невольно становились друзьями богословия Феодора Мопсуестийского. Но это беспокоило многих: не только компромиссников — "энотиконцев", но и православных. Православные, как и сам Рим, ставили своей задачей мирить Льва с Кириллом. Еще Севир (тонкий ум, хотя и еретичествующий) во время своего константинопольского "сидения" писал в сочинении "Φιλαλήθης" (ς.е. "Любитель истины"), что такая задача безнадежна. Но с ним не хотели согласиться. И вот официальное торжество дифизитства при Юстине вновь пробудило "кирилловскую" тоску некоторых монашеских душ. Выразителями ее явились так называемые "скифские монахи" (Иоанн Магненций, Леонтий и др.). Руководящий центр их был в Малой Скифии, в г. Томи (берег Черного моря — Добруджа). Внешней поддержкой для них оказался Виталиан. Он даже был родственником Леонтия. Эта группа скифов принимала Халкидонский собор, соглашалась с Римом. Но находила, что этого мало. Ей надо было спасать сам Халкидон от будто бы прилипающей к нему заразы несторианства. Что якобы несториане контрабандно протаскивают под прикрытием халкидонского флага свою ересь. Надо халкидонские формулы обеззаразить какими-то прибавками. Надо акцентировать речи о Христе-Богочеловеке постоянными добавками об Его божестве. Нажимать на то, что Иисус Христос есть "Единый из Трех Лиц Св. Троицы". Что этот Единый от Св. Троицы распят, пострадал по плоти. Эта формула, кстати, была употреблена и в известном томосе Константинопольского патриарха Прокла. Правда, формула Прокла не тождественна с кирилловой μία φύσις σεσαρκωμένη, но приближается к ней в толковании единения двух природ во Христе.
Легаты папы, прибывшие в Константинополь, ничего не поняли в поднятом споре. Им была подозрительна эта неудовлетворенность Халкидонским оросом. И уже прямо показательно сопротивление акимитов, ярых друзей Рима. Их, однако, сбивало с толку то, что друг Рима Виталиан поддерживал скифов. Один Диоскор решительно восставал против скифов. Тем временем скифы послали своих делегатов в Рим. Но и Диоскор туда же написал против скифов. Комит Юстиниан (будущий император) тоже написал в Рим, чтобы скифов выслали из Рима обратно в Константинополь по их юрисдикционной принадлежности.
Папа Гормизд принял скифов осторожно. Но Виталиан нажал на папу, и тот не откликнулся на письмо Юстиниана. Папа поджидал возвращения своих легатов, чтобы через их разведку разобраться в деле. A скифы бранили Диоскора как "несторианина" и все прославляли Кирилла. Это не вызывало в Риме никакого вдохновения. После папы Льва Великого (440-461 гг.), который цитировал Кирилла лишь постольку, поскольку ни один из последующих шести пап вплоть до Гормизда не ссылался на Кирилла. И папа Геласий I (492-496 гг.), много писавший по вопросу "De duabus naturis contra Eutichum et Nestorium" ("O двух природах против Евтиха и Нестория"), не взял ни одной строчки из Кирилла. В Риме чуяли, что для защиты Халкидона Кирилл непригоден. Но не желали тревожить его память и хотели бы вопрос о Кирилле оставить в тени. Так, не к чести своего богословского разума, Рим, спутавшийся с Кириллом, старался отмолчаться, надеясь, что время все спишет.
Восток, глубоко зараженный в дурном смысле александрийским богословием, не отрывался от чтения св. Кирилла, хотя монофизиты и кричали о нем, как о своем учителе и вожде. Православные дифизиты-халкидонцы должны были знать и изучать Кирилла. И не могли не беспокоить латинян допросом: Кирилл умер в общении с церковью. Он был опорой пап и в борьбе с Несторием, и на III Вселенском Ефесском соборе 431 г. Если вы, римляне, тогда оказали ему такое непомерное, без всякой критики доверие, почему же теперь хотите от него без объяснений молча отделаться?
И далее. Пусть папа Целестин тогда ошибался, переоценил богословский разум Кирилла. Но раз Кирилл на Востоке сохранил репутацию богослова первого ранга, то тактично ли без мотивов предавать его и связываться демонстративно с одними акимитами лишь за их голую преданность Риму?
Рим в лице папы Гормизда не в силах был в этом разобраться. Папа не принимал формул скифов, но и не отдавал их на суд смело богословствовавшего Востока. Фактически он держал их покровительственно при себе.
Вот одна из фактических иллюстраций отсутствия в ту пору догматического суеверия о папской непогрешимости.
В Риме скифы продержались целых 14 месяцев, до августа 520 г. За это время они нашли там поддержку в их земляке Дионисии Малом, сочинившем для Запада новый календарный стиль, который держится и до сего дня. Это ученый Дионисий перевел на латинский язык для оправдания скифов в римском общественном мнении и известный томос архиепископа Прокла к армянам, и 3-е письмо Кирилла Несторию, содержащее в себе его злополучные 12 анафематизмов. Скифы нашли себе на Западе еще дополнительную опору и в лице епископов, высланных с севера все еще арианствовавшими вандалами в Сардинию и стяжавших за это славу "исповедников".
Раздосадованный всем этим папа (в конце концов на свою собственную богословскую некомпетентность) выслал, наконец, скифов в Константинополь и написал временному западному резиденту в столице Востока — африканскому епископу Посессору — жалобу на скифов. Посессор не утаил этого письма от скифов. Смущенные ромофилы сделали вид, будто это письмо — псевдоэпиграф, но сочли нужным писать на него опровержение.
Тем временем их покровитель Виталиан был убит. Потеряв высокопоставленного патрона, скифы притихли.
Как вдруг нежданно-негаданно на их стороне оказался не кто иной, как сам великий Юстиниан, видимо, не в первый да, к сожалению, и не в последний раз (как увидим ниже) в своей жизни проделывая такой volte-face.
Пламенно заинтересованный в сохранении единства империи, фатально распадавшейся на свои этнические части, под благовидными предлогами заботы о православии Юстиниан вдруг заболел проектом компромиссной сделки с монофизитами за счет умаления авторитета Халкидонского собора, который будто бы потерпел крах к 518 г. A диакон Диоскор правильно чуял, что всякое умаление Халкидонского собора есть потеря твердой почвы, к чему и вели скифы. Кроме того, они нереально и невежественно ополчались на несторианство, существовавшее не в византийской империи, а лишь за границей, в Персии.
Однако исторически в конце концов формула скифов вышла на деле победительницей. Юстиниан уже в годы императорства провозгласил ее своим догматическим гимном "Единородный Сыне и Слове Божий... Един сын Святыя Троицы" — "εις ων της Αγιας Τριαδος". Θ последующие за Гормиздом папы усвоили это выражение. В нем была защитная полемическая сила против клеветнических нападок монофизитов. Они говорили: "Нет природы неипостасной. Раз Халкидонский собор утвердил две природы, он утвердил двух Сынов. Вместо Троицы вышла Четверица". Скифы на это возражали: страдала не какая-то четвертая ипостась. A мы, как и вы, монофизиты, говорим: "распят Един от Св. Троицы".
Папа Гормизд после доклада прибывших из Константинополя легатов все-таки отказался признать эту формулу скифов не по ее содержанию, а потому, что она была "новой" и скрыто утверждала, что прежняя, халкидонская, недостаточна. Но при таком толковании папа решил и не осуждать формально скифских монахов.
Рим обратился еще за советом к тогдашнему светилу латинского богословия, ученому диакону Карфагенской церкви Фульгенцию Ферранду. Тот отверг всякие излишние страхи, признав формулу правильной.
Первый приезд римского папы в Константинополь
Установившееся единение между Римом и Константинополем открыло возможность эпизоду, еще не бывалому до сих пор, — личному приезду римского папы в Константинополь и служению его в Св. Софии.
Это было весной 526 г. при преемнике Иоанна Константинопольского Епифании и при преемнике Гормизда св. Иоанне I. Владыка Италии Остготский король Теодорих был возмущен актом Юстина, изгнавшим ариан (главным образом его соплеменников — готов) из столицы, отобравшим их церкви и насильственно обратившим некоторых из них в православие. Теодорих понудил депутацию во главе с папой ехать в Константинополь и там добиться отмены такого постановления. Такая миссия для папы, как ходатайство за еретиков, была, конечно, унизительна, но принуждение было выполнено. Папа был встречен с почетным сочувствием. Император Юстин со множеством народа вышел навстречу папе за 12 миль от города и при встрече низко склонился пред папой. Это было в конце великого поста. B первый день Пасхи папа Иоанн I служил литургию в Св. Софии на латинском языке. Для возвышения авторитета папы пред Теодорихом император Юстин, уже коронованный в 518 г. у себя дома Константинопольским патриархом Иоанном, пожелал, чтобы папа Иоанн I еще раз короновал его.
Все просьбы Теодориха были исполнены, кроме одной — возврата в арианскую ересь уже присоединенных к православию готов. Этого было достаточно, чтобы возвратившаяся на Запад депутация была брошена Теодорихом в тюрьму, где через несколько дней папа Иоанн I и умер.
[1] Histoire de l'Eglise publiée sous la direction de A. Fliche et V. Martin. T. IV. P. 231. Paris, 1948.
[2] Так было de facto. Ho это не закон, не de jure. Могло это быть и к худу, как, например, на V Вселенском соборе. Тут область духовной свободы: "Дух дышет, где хочет..."
[3] В существующем тексте стоит εκ δύο φύσεων. Πο бесспорному суждению науки это выражение неподлинно. Это подделка секретарей патриаршей редакции, памятник глубокой зараженности всего греческого Востока "диоскоровщиной". Этой подделке противостоит вся без исключения литература писаний и полемических рассуждений отцов того времени, где всюду: εν δύο φύσεσιν.
[4] Автор имеет в виду основной сборник канонического права римско-католической церкви, действовавший с 1917 по 1984 г. B 1984 г. папа Иоанн Павел II подписал новый Corpus Juris Canonici.
[5] Кеносис — греческое слово, означающее нисхождение Бога к людям.
[6] Имеется в виду Евфимий Великий — основатель так называемой Евфимиевой лавры в Палестине, чудотворец и ясновидец. Умер в 473 г.
[7] С этого, V, века мы наблюдаем в новом синкретическом эллинстве распространение обычая фамильных прозвищ: Αίλουρος — Кошка; Μόγγος, — в нашей старорусской литературе, Гугнивый, т.е. неясно, гнусаво говорящий.
[8] Здесь — постановление по церковным вопросам. От этого же слова происходит название окружных посланий римского папы — энциклика.
[9] Омофор (от греч. "ношу" и "плечо"), другое название — "нарамник" — часть священнического облачения, представляющая собой длинный, покрывающий плечи плат, один конец которого свисает спереди, а другой сзади; символизирует заблудшую овцу, принесенную добрым пастырем на плечах в дом, т.е. спасение Иисусом Христом человеческого рода.
[10] Акефалы (греч. "безглавые") — название, применявшееся к некоторым церковным партиям описываемого периода, в частности к партии, отделившейся от Александрийского патриарха, когда он подписал Энотикон.
Православная беседа >> Библиотека >> Карташев А.В. 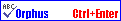
На правах рекламы: